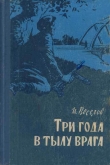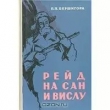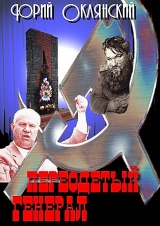
Текст книги "Переодетый генерал"
Автор книги: Юрий Оклянский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
– Никто не умаляет значимости других энергомощностей, – оговаривался Хрущев. – Вслед за первой в мире атомной электростанцией в строй вступит ряд новых, более крупных атомных электростанций… Гигантские гидростанции строятся на Волге, Днепре, Каме, Ангаре, Иртыше.
И все-таки общий вывод звучал разве что смягченным приговором: «придется временно, годиков на семь-восемь, дать приоритет строительству тепловых станций и придержать развитие некоторых гидростанций».
Каково это было слушать им, практикам гидростроительства, в день своего торжества?!
В речи Хрущева, конечно, не пояснялось, что это повлечет за собой конкретно для каждого. Слушателям оставалось только ломать голову в догадках – каким гидростанциям почти на десять лет сократят финансирование, пересадят на скудный паек, кого – поминай как звали – законсервируют или прикроют навсегда…
Вот отчего многие сидели за столом с пасмурным видом, с загнанной вовнутрь думой. В экономические механизмы, в налаженные деловые связи и отношения, наконец, в личные замыслы и планы каждого вновь (в который раз!) вторгалась политика. Грозя все неумолимо перевернуть вверх дном. Опять требовалось, как и пять, и десять, и сорок лет назад, – «ухватываться за главное звено, чтобы вытащить всю цепь».
В застолье набралось немало крупных хозяйственников, а уж они-то на своем веку подобное испытали не однажды.
И о чем могли думать, а кое-кто из самых бывалых и тертых, может, даже вполголоса перешептываться за этим бесконечным праздничным столом в тот вечер?
Может, между собой они сдабривали дурное настроение недоуменными вопросами или вполушепот даже невеселыми шутками. Типа:
– Это что же? В сельском хозяйстве – там, значит, кукуруза, а у нас – тепловые электростанции… В Китае – читал? – доменные печи в крестьянских дворах и ловля воробьев, а у нас – мазут да уголь… Ну, будь здоров!
Или:
– Скажи, пожалуйста, и зачем Никите понадобилось говорить это именно сегодня? Зачем бросать дохлую кошку на праздничный стол? Знаешь? Я тоже не знаю… Ну, будь здоров!
Так я вижу происходившее теперь.
Однако же сама жизненная проблема была не столь проста, как могло показаться. Пройдет немного времени, и прозорливые публицисты начнут писать о «хищной пасти Гидропроекта». О том, как на самом деле дорого обходится народу и стране будто бы почти безвозмездный и «вечный» голубой огонь великих гидростроек.
Станут писать об отечественных Атлантидах, над которыми сомкнулись воды десятков без разбора напруженных рукотворных морей, об ушедших на дно русских городах (как погиб под Куйбышевской ГЭС старинный Ставрополь), о тысячах сведенных деревень и поселков, о затопленных миллионах гектаров хлебодарных пашен, лесов и угодий, о навсегда утраченных кладах неразведанных полезных ископаемых и т. д.
Вспомнят также и о людях, которые столетиями жили в этих местах, а теперь лишились своих корней, вековечных традиций и даже дедовских могил.
Осенью 1962 года переброшенный в качестве постоянного корреспондента той же «Литературной газеты» на работу в Сибирь, я собственными глазами наблюдал на Ангаре, как заканчивалась подготовка к затоплению ложа Братского водохранилища. Плотина высотой 106 метров была уже готова. Затопить предстояло площадь, равную, может быть, какому-нибудь малому государству Европы.
Рождение нового моря приурочивалось конечно же к очередной, на сей раз 45-й, годовщине Великого Октября. Оставались считанные недели. Штаб стройки, возглавлявшийся лично первым секретарем Иркутского обкома КПСС С.Н.Щетининым, заседал не реже двух раз в сутки.
Я гонял на «газике» по дну будущего моря. Многие дома в прежнем поселке Братске, заложенном еще в 1631 году и служившем острогом для раскольников-старообрядцев, разобрать не успели, да и некуда их было вывозить. Повыдергав кое-что из старинной архитектуры, поселок для простоты подожгли, и он долго горел, а потом дотлевал, чернея печными трубами, как на картинках времен войны после немецкого нашествия.
Не знаю уж сколько, но многие десятки гектаров еще зеленевшей тайги, как это планировалось, своевременно свести тоже не успели. Теперь сроков уже не оставалось. И деревьям, будто не сдающейся команде тонущего корабля, предстояло принять смерть стоя. Так эти гектары и ушли под воду. Чем это обернулось впоследствии для будущего моря, для живности реки, вытекающей из уникального озера Байкал, какие болезни и мутации повлекло – не известно.
Огромное количество стрелеванных из тайги бревен все еще высилось в штабелях, вдоль дорог. Может быть, не меньше уже разделанной древесины – досок и брусьев – лежало на складах. Напрасно выпрашивали это обреченное добро на любых условиях понаехавшие в новый поселок Братск, где разместился штаб стройки, лесозаготовители из разных регионов страны.
Лес как стратегическое сырье мог вывозиться только в плановом порядке. Никакая раздача пиломатериалов и древесины самостийным добытчикам в обход (уже невыполнимых!) разнарядок Госплана не допускалась. Всякая самоволка автоматически становилась хищением социалистической собственности. Да многое уже и нельзя было вывезти, так как рельсы железнодорожных узкоколеек разбирались по собственным графикам.
Для простоты картины все это богатство тоже палили по частям. Я видел (своими глазами!), как в Доме приезжих грубые мужики-заготовители и снабженцы из безлесных районов страны – из Молдавии, Украины, Средней Азии – с зубовным скрежетом и чуть не со слезами на глазах взирали на ночные пожарища, до раскаленной красноты озарявшие наши окна.
Обо всех этих злодеяниях, иначе не назовешь, я после объездов на «газике» лихорадочно написал и передал по телефону статью в редакцию. Даже повидавшая виды редакционная стенографистка прерывала свою запись не идущими к делу бурными эмоциями. Мне рассказывали потом, что статью читала вся редколлегия. Возмущались, но напечатать не отважились. Только приделали «ноги»-сопроводиловку и в виде «справки» направили в ЦК КПСС…
У Хрущева-политика была развита интуиция. Этот здравый смысл проглядывает подчас в самых сумасбродных его действиях и затеях. Такого свойства, мне кажется, было и его выступление в августе 1958 года на празднике победителей Волги – за свертывание гидростанций в угоду тепловым электростанциям… Первый, хотя и неуклюжий, удар по набухающему и разрастающемуся спруту и чудищу всесоюзного Гидропроекта…
По-своему ощущал он и настроение людского множества.
Шумно отодвинув тарелки и рюмку, он встал и провозгласил:
– Понимаю, конечно, что сегодня кое-кого погладил против шерстки. Но мы и собрались здесь в дружеском кругу, чтобы обменяться мнениями. Прошу высказываться… Свободно! Не стесняйтесь! Может, кто хочет мне возразить, поспорить? Пожалуйста…
Желающих почему-то долго не находилось.
Хрущеву пришлось повторять призывы.
Наконец, поднялся начальник Сталинградской ГЭС Кирилл Иванович Смирнов. Полный, седовласый, хоть и обкатанный службой, но человек, видимо, по натуре отважный.
Учитывая, что сталинские времена закончились всего пять лет назад, местами он возражал даже дерзко. Но в целом говорил долго, сбивчиво и не очень убедительно. А закончил даже заздравным тостом. Получалось, что больше защищал «честь мундира».
Это дало возможность Хрущеву в тосте «алаверды» почти отшутиться:
– Конечно, с точки зрения эстетической, – сказал он, – мы за гидростроителей! Всей душой! Красиво, мужественно! Кроме того, надо при расчетах учитывать и то, что Куйбышевское и Цимлянское моря решают также и вторую проблему – орошения, третью – мосты. Но время! Сколько уходит времени на разворот такого большого строительства! Есть и многие другие невыгоды и потери, которые вы все знаете… Поэтому, товарищи, поправки в планах! На семь-восемь лет!..
Однако подобие начавшейся дискуссии, а может, заодно и количество поднятых тостов сняло первоначальный напряг.
К концу вечера столы уже шумели. Хрущев расхаживал по залу, поздравлял, чокался с новоявленными Героями.
В один из таких моментов я увидел, что Хрущев отошел в сторонку и стоит у стены наедине с Вершигорой. Петр Петрович что-то ему горячо втолковывает, помогая себе взмахами рук, а Хрущев слушает с застывшим лицом.
На это многие обратили внимание, потому что уединенный разговор продолжался достаточно долго.
Уже за полночь, в коттедже, зайдя ко мне в комнату, Петр Петрович сказал:
– Аудиенция, кажется, удалась! Утром отбываю в Москву. Хрущев обещал, что примет меня по нашим партизанским делам сразу же по приезде. Должен предстать со всеми бумагами и документами… Так что вы уж продолжайте здесь без меня! Встретимся в Москве…
Так оно и получилось.
X
Не берусь судить и вымеривать, какую роль в состоявшемся через несколько месяцев снятии И. Серова, впрочем, обставленном достаточно почетно, сыграл обговоренный прием партизанского генерала Хрущевым в Москве. В мемуарной книге А.И.Микоян рассказывает, как происходило отстранение Серова. Исподволь замены председателя КГБ, пребывавшего на этом посту уже четыре года, добивались многие в окружении Хрущева. Гирьками на чаше весов оказались и собственные политиканские расчеты в борьбе за ключевой государственный пост. И неприязнь к высшему начальнику сыскного ведомства – уж очень безразборчивой, скомпрометированной и одиозной фигурой тот был.
По Микояну, решающую роль в падении Серова сыграли однако не главные промахи или преступления Серова, а ловко проведенная против него придворная интрига. Лубянский сановник попался на попытках сговора в поисках нового «хозяина». На этом сумели засечь его с поличным давние противники, представив доказательства Хрущеву.
«Только после этого случая, – пишет Микоян, – Хрущев согласился убрать Серова из КГБ. Перевели его в Генштаб начальником ГРУ (Главного разведывательного управления. – Ю.О.)… Но только после дела Пеньковского [13]13
Дочь Серова была замужем за шпионом Пеньковским.
[Закрыть]удалось нам настоять на том, чтобы уменьшить его генеральский чин и убрать с большой работы».
Карьера Серова катилась под закат в ту пору, когда Вершигора встречался с Хрущевым. Но, может быть, в совокупные импульсы и толчки, переломившие карьеру бериевского выкормыша, свою долю внесли и представленные Вершигорой лично Хрущеву факты и документы долголетних «антипартизанских дел», подогревавшихся И. Серовым.
…Ранней осенью 1958 года в стране отмечалось 60-летие со дня рождения покойного руководителя партизанского движения писателя Дмитрия Николаевича Медведева. Один из московских переулков, в котором он жил, был переименован в улицу Дмитрия Медведева. Большой вечер памяти состоялся в Центральном доме литераторов. В клубе того самого Союза писателей, который еще не так давно отказывал ему в приеме.
С Петра Петровича сняли партийный строгач: оказывается, он кидал чернильницей именно в того, в кого нужно.
О людях Куйбышевской гидростанции и тогдашних событиях мы совместно напечатали два очерка в «Литературной газете» (1958, 9 августа и 12 августа), а несколько позже большой очерк в журнале «Молодая гвардия» (1958, № 10). Очерки, не лишенные живости и интереса, однако же и не избежавшие налета казенщины.
После журналистской страды на ГЭС дела «штрафного» Вершигоры пошли в гору (каламбур того времени!). Мне же, считаю, повезло. Я не просто познакомился с обаятельным и самобытным человеком. В Петре Петровиче, пусть ненадолго, обрел бывалого и уверенного проводника по неведомым прежде сферам и тропинкам окружающей жизни.
П. Вершигора был первым значительным профессиональным писателем, с которым мне привелось работать в «четыре руки». Тогдашние совместные репортажи стали уроками литературного профессионализма. Что усвоено в результате? Простые вещи. Не надо чураться никакой работы. Генерал ли там, адмирал тоже может брать в руки швабру и драить палубу. Причем делать это даже лучше матроса, если только в том есть нужда.
В последующие годы я не так часто встречался с Петром Петровичем.
Однажды столкнулся с ним в коридоре «Литературной газеты». Он нес в редакцию вызвавшую затем множество откликов статью «Человек на обочине». Вещь, о которой он писал, была простейшая, но никак не воспринимавшаяся чиновной стенкой. О необходимости наладить выпуск мотоколясок для инвалидов Отечественной войны. П. Вершигора оставался верен своей теме – защите самых незащищенных.
В те годы Петр Петрович переживал вторую литературную молодость. Печатал иногда по три новых книги в год. Достраивал собственную документальную партизанскую эпопею. Среди новых ее «кирпичиков» – мемуарная повесть «Рейд на Сан и Вислу» (1960), печатавшуюся в журнале «Новый мир» у А. Твардовского, – о самом глубинном походе по тылам врага, проведенном под его командованием в 1944 году до Польши и Чехословакии. А рядом в том же 1960 году – два сборника документальных рассказов. Появилась наконец и «умученная» многострадальная книга по теории и практике партизанского движения – «Военное творчество народных масс. Исторический очерк» (1961). И единственный у П. Вершигоры роман – «Дом родной» (1962)…
Верные признаки вновь замаячившей популярности и славы иногда бывают курьезны. Вокруг начинают мельтешить подражатели, самозванцы и двойники. Некоторых увековечили даже газетные фельетонисты. Некий авантюрист обделывал свои гешефты, маскируясь «под Вершигору» («Комсомольская правда», 1958, 26 ноября). Другой ловкач использовал обманный стереотип даже и семь лет спустя. Об этом напоминает публикация «Человек, укравший имя» в газете «Московская правда» (1965, 2 февраля). Такая забавная цепь превращений – героизма и популярности – в человеческой комедии…
XI
В конце октября 1964 года после долгого перерыва я снова приехал в Куйбышев. На городских улицах в настенных промокших витринах все еще топорщились волглые газеты с информационным сообщением о Пленуме ЦК и портретами Брежнева и Косыгина, заменивших у государственного руля Хрущева.
Гуляя по городу, который давно не видел, я незаметно спустился к гранитной набережной. В этот бесприютный день поздней осени на ней попадались только одинокие прохожие.
Хорошо, хотя и чуть жутковато, было стоять, перегнувшись к воде, у серо-розового каменного парапета. Широченная необозримая Волга, будто не признавая гранитной окантовки набережной, гуляла на приволье по собственному нраву. Она тяжело и глухо ворочалась в своем ложе, стонала, слегка подкидывая и перекатывая громаду темной воды по всему горизонту, насколько хватало глаз. Играючи, но с сокрушающим размахом пробовала она набегавшей волной и прочность устоев самой набережной. Билась о гранит и поднимала фонтаны брызг. А вдали гоняла на сквозняках белые призрачные барашки очередных бегущих, еще не различимых волн. С ними цветом почти сливались редко парившие в тот день чайки.
От Волги, сколько ее ни пытались взнуздать и оседлать, по-прежнему тянуло неукротимой первобытной удалью, собственными запахами ветров, свежести, птиц, воды и рыбы. Великая река не сочувствовала нашим мелким передрягам и переменам.
Задумавшись, я незаметно добрел до затона. Здесь, не очень далеко от центра города, располагалось то, что можно назвать судовым кладбищем. На причале ожидали утилизации списанные теплоходы, речные трамвайчики, буксиры и баржи.
Настроение располагало – я рассматривал затон.
Внимание привлекла стоявшая впереди других большая старая баржа. Она уже давно ожидала своей утильной участи. Дощатые ребра потемнели от непогоды и времени, а металлические части проржавели до красноты.
Но теперь на ее махровом от ржавчины борту, где обычно располагается название судна, какой-то местный шутник сделал крупную свежую надпись мелом: «Н.С.Хрущев».
Насмешка явно была изобретением какого-то вовсе не казенного одиночки и оттого еще более язвительной, обидной и беспощадной. «Вот и воплотились, как говорил поэт, «в пароходы, в строчки и в другие долгие дела!» – подумалось мне. – Никита Сергеевич Хрущев – старая ржавая баржа!»
Помимо Гидростроя, по своим журналистским разъездам я близко наблюдал Н.С.Хрущева еще не один раз – в Куйбышеве, Новосибирске и в Москве. На разных совещаниях, в разных положениях и душевных состояниях. Видел, как в том же августе 1958 года был сорван митинг истомившимися людьми – бесцеремонный правитель страны заставил несколько часов кряду стоять под палящим солнцем и ждать его высочайшего явления толпу из десятков тысяч людей.
Наблюдал и другие сумасбродные выходки Н.С.Хрущева, в том числе и его входившие в обиход так называемые знаменитые «реплики», когда он никому не давал сказать слова (так было, например, с разумными советами народного агронома Терентия Семеновича Мальцева в Новосибирске в конце 1961 года). На этом совещании передовиков сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока Хрущев вел себя примерно так же, как на всем известных встречах с деятелями литературы и искусства в Москве. Его сумасбродство все более обретало черты мании величия. Так безграничная власть портит человека.
Был у меня и краткий, как оказалось, судьбоносный кадр журналистской памяти. В начале лета 1964 года я присутствовал в Большом Кремлевском дворце на сессии Верховного Совета СССР, где Хрущев, загорелый, отдохнувший, в элегантном светло-зеленом костюме английской шерсти, беззаботно и мимоходом выдвинул на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнева, к той поре уже тайно сколачивавшего и готовившего против него заговор.
И вот – последняя прижизненная встреча. Ржавая волжская баржа с надписью на борту…
А Петр Петрович Вершигора год с небольшим не дожил до конца хрущевской эры. Он умер 27 марта 1963 года в подмосковном санатории. Долгая болезнь сердца, а затем мозговой удар изнурили и расслабили организм. Ночью в одноместной палате он задохнулся…
В словах прощания звучала не только оценка литературных заслуг покойного – впервые публично было сказано и о мужестве гражданской позиции П.П.Вершигоры. Украинский писатель Платон Воронько, знавший о происходившем не понаслышке, в журнале А. Твардовского «Новый мир» писал: «Петр Петрович Вершигора был верным и бесстрашным другом. В первые послевоенные годы, когда многие бывшие партизаны подвергались тяжким обвинениям, а иногда и репрессиям, он делал все, что было в его силах, чтобы восстановить правду и спасти честь невиновных… Он навсегда останется в памяти народа как человек с чистой совестью» («Новый мир», 1963, № 4, с. 288).
П.П.Вершигора был из породы и поколения правдоискателей, вернувшихся с войны. Из таких неординарных людей армейской элиты, как адмирал И.С.Исаков, генерал А.В.Горбатов, а там уже и полушепотом произносимое тогда имя – начинающий бунтарь генерал Петр Григоренко…
Петр Петрович Вершигора, как и подобает партизану, лишь слегка опередил время. Он был «первой ласточкой» в этой необычной генерации…
В селе Севериновка в Молдавии, где родился Петр Петрович, действует его мемориальный музей. А в городе Новозыбкове на Брянщине, откуда уходил партизанить будущий генерал, одна из городских аллей названа «Аллея Петровича».
Для каждого настает час суда.
Такой оценкой, безусловно, является и знаменитый надгробный памятник Н.С.Хрущеву на Новодевичьем кладбище в Москве.
Постамент, как известно, составлен из чередования белых и черных мраморных плит, символизирующих борение темных и светлых начал в деяниях и душе этого человека. Постамент венчает глядящая из-под верхних перекрытий всем знакомая круглая лысая голова с умным и обманчиво добродушным лицом.
Хрущев сам принадлежал к ближайшему сталинскому окружению, сам утверждал и строил эту систему. И он же стал ее разрушителем и преобразователем.
Что перевешивало и брало верх в душе этого человека? Светлые или темные начала? Стоя у могилы, я не высчитывал пропорций и соотношений того и другого в надгробном памятнике. Но ответ, думаю, отчасти заключен уже в нем самом. В желании скульптора Эрнста Неизвестного, свирепо гонимого при Хрущеве, такой памятник создать и оставить потомству.
Безрукий поводырь
История в письмах и рассказах очевидцев

Опубликовано в журнале «Дружба Народов» 2010, № 5
В майском номере журнала «Дружба народов» за 2007 год я опубликовал очерк, а точнее, короткую мемуарную повесть о знаменитом партизанском генерале и авторе гремевшей в свое время книги «Люди с чистой совестью» Петре Петровиче Вершигоре.
Чистая совесть – понятие библейское. Всем памятна, очевидно, евангельская притча о том, как фарисеи привели ко Христу женщину, свершившую блудодеяние. Согласно незыблемому вековому обычаю за измену мужу ее полагалось забить камнями насмерть. Но фарисеев заботила даже не столько участь грешницы и исполнение наказания над ней, сколько души сверлило злобное желание – посмотреть, как приказ об убийстве отдаст сам милостивый Спаситель.
Выслушав пришедших и не глядя на них, Христос молча продолжал чертить палкой по песку. Потом изрек: «Кто без греха, пусть первым бросит камень!» Толпа застыла в нерешительности. Потом один за другим начала расходиться. Ни единого человека без греха не отыскалось.
Чистая совесть – понятие абсолютное. Жертвенный подвиг во имя высшей благородной цели очищает души. «Людьми с чистой совестью» назвал Вершигора партизан, с которыми делил тяжкие рискованные походы. Выбор названия показателен. Книга сориентирована на высокий этический смысл.
Мне довелось встречаться с Петром Петровичем и вместе работать уже в другие времена. Отношения завязались в августе 1958 года на торжественном пуске одной из главных ступеней волжского энергетического каскада. Хотя турбины Куйбышевской ГЭС, у Жигулей, уже с год как выдавали ток на полную мощность, но ее рождение еще не было официально освящено. По установившимся обычаям предполагалось, что у энергетического гиганта, тогда крупнейшего в мире, должен быть и достойный крестный отец. А им, понятное дело, не мог быть никто другой, кроме как глава партии и государства. Крестить возмужавшего новорожденного, то бишь перерезать ленточку в машинном зале давно действующей гидростанции, полагалось самому Н.Хрущеву. С годичным опозданием из-за множества иных дел он и прибыл в Жигулевск, толпой любимцев окруженный, то бишь верноподданной свитой, не исключая и собственных скорых могильщиков, вроде Л.Брежнева, М.Суслова и других.
Я к тому времени после окончания МГУ четыре года проработал в областных газетах Марийской республики. И уже с год как состоял в штате «Литературной газеты» собственным корреспондентом в Поволжье. Жил в Куйбышеве (Самара), обретался с семьей в гостинице без малейших видов получить квартиру, поскольку несколькими острыми выступлениями успел изрядно насолить местному руководству.
По тогдашним меркам, события в Жигулях предстояли сверхважные, общегосударственного, если не мирового, масштаба. Незадолго до их начала деликатный заведующий корреспондентской сетью «ЛГ» в симпатичной своей манере легкого заикания оповестил по междугороднему телефону, что для опоры и поддержки мне из Москвы направляется помощник. Этим «помощником» оказался прославленный писатель, лауреат Сталинской премии, Герой Советского Союза генерал Петр Вершигора. Его книгу «Люди с чистой совестью» я знал еще со школьной скамьи, значилась она и в учебной программе филфака МГУ. Кто же кому должен помогать?! Легко представить себе оторопь и замешательство молодого провинциального журналиста. Но Петр Петрович оказался человеком простым и свойским. Мы как-то быстро сработались. Бывалый партизан приехал из Москвы на старенькой своей машине «Победа», сам за рулем, вместе с женой Антониной Семеновной, личностью необычной и колоритной, которую вопреки паспорту он звал Оля, а она по-свойски кликала его – «Борода», и сыном-десятиклассником, ленивцем Женькой. Душевную отзывчивость Вершигоры, возможно, как-то дополнительно задела наша бездомность (жена дохаживала последний месяц беременности, а квартиру никто давать не собирался), к тому же я был сыном «врага народа», из-за ареста отца в конце сталинского правления лишенным московского жилья. А в бурном водовороте куда более гибельных проблем сталинской эпохи, как выяснилось вскоре, вынужденно барахтается последние годы и сам Петр Петрович. Не знаю. Но только скоро мы разоткровенничались.
На каком-то витке этих отношений, уже на гидростанции, Петр Петрович сообщил, что, помимо писания очерков, он приехал сюда по неотложной надобности – в попытках встречи с Хрущевым. Он добивается – прекратить преследования бывших партизан по делу о так называемом Винницком подполье. Здесь с самых верхов закручена и напластована масса гнусных фальсификаций. На этом деле уже умер один из его близких друзей – Герой Советского Союза писатель Дмитрий Медведев. Бился, хлопотал, стучался в разные двери – и не выдержал. Умер от разрыва сердца. Слышал ли я что-нибудь об этом?
Конечно, я читал документальные книги Д.Медведева «Сильные духом» (о легендарном разведчике Николае Кузнецове, первом «советском Штирлице», в подложных ролях блестяще орудовавшем в немецких тылах), о действиях руководимых им партизанских отрядов и соединений, начиная с выходцев из Брянских лесов, – «Это было под Ровно» или «На Южном берегу Буга». Последняя из этих книг в свое время с непонятной яростью, чтобы не сказать с бешенством, полоскалась центральной печатью. Речь там велась как раз о Винницком партизанском подполье.
Попытка защитить ни в чем неповинных героев-партизан чуть не оказалась роковой и для самого Петра Петровича. Дальше суть событий перелагаю с добавлением к живому рассказу Вершигоры подробностей и деталей, добытых десятилетия спустя, из раскопок документов и опросов очевидцев, когда созрело решение взяться за мемуарную повесть. В тексте «Переодетого генерала» приведены документальные ссылки на источники.
Против Вершигоры было состряпано грязное уголовное дело – об изнасиловании несовершеннолетней в годы войны. Им хотели заткнуть рот влиятельной знаменитости. Опрокинуть обвинение удалось лишь по счастливой случайности и с большими трудами. Дошло до прямого личного столкновения с одним из главных кукловодов – хозяином Лубянки, председателем КГБ И.Серовым. На приеме у него во время устроенного тем издевательского допроса потерявший контроль над собой партизан пытался швырнуть в него чернильницей со стола.
Серов к той поре уже непрочно сидел на своем месте, его власть была укорочена, действовал с оглядкой. Для Вершигоры выходка кончилось строгим партийным выговором. Но то был, конечно, не предел, и кто знает, чем могло повернуться в дальнейшем? Петр Петрович очень надеялся на встречу с Хрущевым, который хорошо знал партизанского комдива еще по Украине.
Самое поразительное в этой неравной борьбе, что Петру Петровичу, в конце концов, удалось спасти гибнущих и взять верх. Подвигом его жизни являются также книги, как он их называл, – о военном творчестве народных масс, то есть об истории партизанских движений в России. Тут, как и во многом другом, Петр Петрович следовал образцу человека, которому поклонялся. Им был первый русский партизан и поэт Денис Давыдов. Недаром книга Дениса Давыдова «Дневник партизанских действий», ударным порядком, в 1941 году, сразу после начала войны, переизданная в Москве, была настольной для Петра Петровича. Сейчас, когда пишу, экземпляр тогдашнего издания с многочисленными пометками Вершигоры, обычно красным карандашом, лежит у меня перед глазами.
Однако же прошлое – одно дело, а настоящее – совсем другое. В публикациях своих исторических исследований о партизанском движении Петр Петрович натолкнулся на жесткое казенное сопротивление Главпура (Главного политического управления Советской Армии) и его сторожевых овчарок из Воениздата. Чего другого, а подлинной реальности они на дух не переносили. И годами вокруг правдивых рукописей Петра Петровича лилась хотя и не настоящая кровь, но моря бесполезных чернил. Вся эта изнурительная борьба, бесспорно, сильно укоротила его дни.
Не стану продолжать, важна суть. Вершигора был из породы и поколения правдоискателей, вернувшихся с войны. Из таких неординарных людей армейской элиты, как адмирал Исаков, генерал Горбатов, а там уже и полушепотом долго произносимое имя – отчаянный бунтарь «диссидент» генерал Петр Григоренко, которого исключали из партии, вязали санитары сумасшедшего дома, кололи препаратами, а он все твердил свое, не сдавался…
Петр Петрович Вершигора, как и подобает партизану, лишь слегка опередил время. Он был «первой ласточкой» в этой необычной генерации…
Собрав в дополнение открывшиеся за последние десятилетия потаенные прежде факты и документы, я и попытался обрисовать характер героя. Новые знания и понятия эпохи слились в одно целое с впечатлениями от собственных встреч, былыми дневниковыми записями, воспоминаниями, вроде тех, как Петр Петрович и желторотый журналист писали за двумя фамилиями очерки для «Литературной газеты» или журнала «Молодая гвардия». Так возникла мемуарная повесть «Переодетый генерал».
Опубликовав ее, я считал свою задачу выполненной. Но за продолжение этой истории взялась сама жизнь. Рядом с моим героем неожиданно возник новый персонаж, описанный в книге «Люди с чистой совестью». Причем человек необычный. Безрукий парашютист, разведчик, под видом нищего ходивший с заданиями по немецким тылам, меткий стрелок, несмотря на свои культи, а после войны близкий друг Петра Петровича и соавтор одной из книг по истории партизанского движения, совместно написанной обоими. Ему адресовано почти 40 сохранившихся писем Вершигоры. Звали этого человека Владимир Акимович Зеболов.
Действительно, какие только люди, пересиливая себя, не участвовали в этой войне! Известно имя и судьба Алексея Маресьева – безногого летчика, ставшего прототипом хрестоматийно популярной в былые времена «Повести о настоящем человеке». Но безрукий парашютист человек не менее редкой судьбы.
Вот его портрет, как он подан в книге «Люди с чистой совестью»: «Чудной человек с чистой и застенчивой душой, искалеченным молодым телом, с обнаженными войной нервами!
Володя Зеболов, безрукий автоматчик тринадцатой роты, а сейчас лихой разведчик.
Да, да, уважаемые граждане с руками и ногами! Солдат без обеих рук, и не какой-нибудь солдат, а лучший – разведчик. Левая рука у него была отрезана у локтя, правая – у основания ладони. Правая рука от локтя была раздвоена вдоль лучевой и локтевой кости и пучком сухожилий, ткани и кожа обтянута вокруг костей, чем образовала что-то вроде клешни. Только страстной жаждой к жизни и деянию, силой молодого организма и мастерством хирурга у человека было спасено подобие одной конечности, искалеченной, безобразной, но живучей. Шевеля этими двумя култышками, он питался, писал, мог свернуть папироску и хорошо стрелял из пистолета. Ремень автомата или винтовки обматывал вокруг шеи и, нажимая обезображенным комком мускулов на спусковой крючок, стрелял метко и злобно. Все остальное делал той же култышкой, иногда помогая себе зубами. И тихонько, для себя, писал стихи…