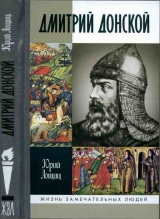
Текст книги "Дмитрий Донской, князь благоверный (3-е изд дополн.)"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
X
Хотя при начале бегства степняки своим числом ещё несколько превосходили русских, но они больше не представляли собой войска. Это было стадо, потерявшее из виду своих вожаков. Беглецы сами принуждали сравнивать себя со стадом, потому что, разнеся в щепки заслон, наскоро составленный Мамаем из телег и кибиток обоза, они распугали табуны и отары, что паслись за обозом, и далее припустились вперемешку с овцами, лошадьми и верблюдами.
Теперь погоню можно было длить беспрепятственно, пока не заморятся кони и не притупятся мечи, пока свет дневной не убудет.
Отбить бы самого Мамая! Кто не подхлёстывал себя этой целью? Но, кажется, расстояние до него с каждой минутой всё возрастало. Он-то, конечно, скачет на свежих, часто меняемых лошадях. Погоня дробилась, спекалась людскими сгустками; гнали уже назад, к Непрядве, толпы пешего полону; закручивались в малые водовороты сцепившиеся друг с другом всадники; множество беглецов рассыпалось по лесным оврагам, чтобы переждать до ночи; изредка, со звуком удивления, посвистывали в воздухе стрелы; некогда было в запале погони уследить, сколько одолели вёрст; вдруг обнаружили себя у бродов Красивой Мечи, и тут напоследок густо закровавились её воды…
Князь Владимир Андреевич, как ни увлекал его вместе со всеми пыл преследования, одновременно ощущал в себе всё возрастающую тревогу, которой он, однако, медлил и боялся дать название. Но наконец в зловещем свете западающего солнца тревога эта заставила его удержать бег коня и вложить меч в ножны.
«Где Дмитрий? Жив он или мёртв?» – так называлась его тревога.
Он вернулся на поле, когда ужасные следы побоища уже слегка скрадывались в своих очертаниях с приходом сумерек. Надо было разыскать брата сейчас же, до ночи. Если он тяжело ранен и истекает кровью, то непростительно будет не найти его сейчас и утром обнаружить бездыханным.
Владимир Андреевич велел трубить в трубы, скликать людей – всех, кто бродил по полю, разыскивая родных или друзей.
– Кто где видел великого князя Дмитрия Ивановича, брата моего?
Ближние ратники молчали. Посреди поля чернеют целые холмы трупов, можно ли разыскать теперь великого князя, если к тому же, как говорят, он был в одежде простого ратника? Но передавалось от человека к человеку:
– Где великий князь?.. Кто видел Дмитрия Ивановича?..
Обнаружились очевидцы. Рассказу каждого из них Владимир Андреевич радовался, как будто это самого брата вели к нему, поддерживая под руки. Кто-то видел, как Дмитрий Иванович пересаживался с одного коня на другого. Кто-то узнал его в самой гуще битвы и слышал, как он подбадривал других и сам рубился крепко. Один рассказчик вспомнил, как на великого князя налетели сразу четыре татарина и он отбивался, но сам получил много ударов…
Но, кажется, последним, кто видел Дмитрия, был ратник по имени Степан Новосельцев: князь брёл с побоища пеший, шатаясь от ран, но Степан никак не мог ему пособить, потому что за ним самим гнались три ордынца.
Значит, шёл, хоть и раненый. Значит, есть ещё надежда, что жив их господин.
– Братья, други, поищем его вместе прилежно! – с мольбою в голосе просил Владимир Андреевич. – И если кто из знатных найдёт его живого, то ещё прославится, а если кто из простых, в последней нищете пребывающий, то отмечен будет богатством и славою.
Ратники снова разбрелись по полю. Ещё, может, какой-нибудь неполный час – и сумерки загустеют, поздно будет.
В одном месте нашли мёртвого русского витязя и признали было в нём великого московского князя – по золоченым сияющим доспехам и дорогому плащу. Но то был Михаил Бренок.
Потом донеслись голоса с левого края поля, где сражался полк, более других сегодня пострадавший. Но ошиблись и там, приняв за Дмитрия старшего из белозерских князей, Фёдора Романовича. Немудрено было ошибиться: очень уж походил этот бездыханный мономашич на своего дальнего родственника – и лицом, и чернотой бороды, и телесной дородностью.
А в это время на противоположном, правом краю поля двое простых воинов подъезжали к опушке дубравы с намерением и тут поискать, потому что немало раненых старалось уйти с открытого поля и схорониться под защитой деревьев. Одного такого ратника они вскоре увидели. Он лежал под свежесрубленным берёзовым деревцем; похоже, что кто-то, помогший ему сюда добрести, сначала уложил его, а потом подрубил дерево, чтобы оно своей листвой прикрыло раненого от чужих глаз. Воины спешились, отодвинули ветви и наклонились над человеком. Он им был, безусловно, знаком, они видели его не раз, видели и сегодня. Доспехи его были иссечены и продавлены во многих местах, лицо в ссадинах. Кажется, это был великий князь московский и владимирский, и, кажется, он ещё дышал.
Они договорились, что один останется, а другой поскачет объявить князь-Владимиру: нашли, живого нашли, но в беспамятстве лежащего, пусть поспешает Владимир Андреевич к милому брату.
Когда тот приехал, то пал на колени перед распростёртым Дмитрием Ивановичем, с трудом узнавая в сизых сумерках измученное родное лицо:
– Брате мой, великий княже, слышишь ли меня? Божиею помощью измаилтяне побеждены, слышишь ли?
Веки великого князя с напряжением приоткрылись. Он смотрел перед собой мутно, недоумённо и как бы с досадой, что прервали его глубокий сон.
– Слышишь ли?
Наконец Дмитрий разлепил спёкшиеся губы:
– Кто ты?
Владимир ещё подался к нему:
– Это я, брат твой, говорю с тобою: наша победа…
Стали бережно приподымать великого князя, освободили осторожно тело его от доспехов, разодрали окровавленную рубаху. К счастью, ран смертельно опасных не было на нём. Каждую язвину омыли травным отваром, присыпали растёртым в порошок тысячелистником, перевязали. Дмитрий Иванович смотрел вокруг всё осмысленней. Похоже, весть о победе постепенно осознавалась им и на глазах преображала его, как чудодейственное лекарство. Он постарался сам встать на ноги и попросил подать ему коня. Над полем истаивал последний свет праздничного дня.
XI
Великому князю московскому и всем его соотечественникам, оставшимся в живых, понадобилось провести на этом поле ещё целых восемь дней, потому что предстояло позаботиться о павших, которых оказалось не меньше, чем живых.
Поле славы, говорим мы… Да, но и поле скорби, поле Вечной Памяти. Тела убитых русских воинов свозили к тому месту, где над впадением Непрядвы в Дон открывался с кручи вид на родную северную сторону. С той стороны пришли сюда, и многим уже не вернуться, не посмотреть на дорогу, а лягут они в землю тесно, плечом к плечу, как и на поле стояли, лицом против солнца.
Черна и тучна степная земля, отливает на срезе тусклым серебром. Только головами качали землекопы: ну и добрая землица! Такой ни в юрьевском, ни в суздальском ополье, пожалуй, не сыскать. Вот где сеять жито, вот где за сохой идти, вдыхая всей грудью древний запах, кружащий пахарю голову. Они же засевают сегодня эту землю не житом, а косточками сирыми… Но не про этот ли горестный посев сказано: если зерно пшеничное, упав в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода?
В эти дни поредела дубрава, укрывавшая 8 сентября русский засадный полк. Дровосеки и плотники подбирали деревья поровней; кряжи свозились к месту братского захоронения, чтобы тут, над Непрядвой, срубить кладбищенскую церковь в память о воинах, принявших мученический венец. Её назвали по дню битвы, по дню праздника – церковью Рождества Богородицы.
Сполна осозналась в эти дни дорогая цена победы. Скрипели по полю телеги: туда – пустые, оттуда – тяжело нагруженные; с утра до ночи свозили к могильным ямам ужасный урожай смерти. Многих и опознать-то было невозможно – свой ли, чужой? Но раз уж извлекли из груды изуродованное, безликое, а то и безглавое осмрадевшее тело, клали и его в телегу. А вдруг всё же свой? Что же, оставить его на съедение волкам, на расклёв коршунам? А если и чужой, то что поделаешь теперь-то? Пусть уж лежит со всеми вместе, по-человечески… Отходчиво русское сердце, знать бы лишь наперёд, во добро ли себе обернётся эта отходчивость и незлопамятность?
И ещё звучали секиры в дубравах. Пусть хоть немногих из павших, но хотел великий князь довезти до дому. Для них вырубались дубовые колоды и выдалбливались внутри вместилища, и самое великое понадобилось для тела Александра Пересвета. Когда утром 9 сентября Дмитрий Иванович объезжал поле и ему в числе прочих показали убитого инока и распростёртого рядом единоборца-татарина, великий князь не смог сдержать слёз. Невольно вспомнилась ему томительная минута смятения в русских рядах, которую Пересвет прервал своим добровольным выездом на единоборство.
– Смотрите, братья, вот первоначальник битвы, – обернулся Дмитрий Иванович к сопровождавшим его. – Не будь Пересвета, многим пришлось бы ещё испить чашу смерти.
Они поехали дальше и увидели других – верных слуг и друзей, без просыпу спящих посреди поля: Михаила Бренка, что безропотно принял смерть в одеянии своего господина; Микулу Вельяминова, что ценою жизни восстановил честь своей фамилии; воеводу Тимофея Волуя Окатьевича; воеводу Льва Морозова; белозерских князей Фёдора Романовича и сына его Ивана; Андрея Серкизовича, погибшего во славу новой своей родины; воеводу-разведчика Семёна Мелика, который искусно выманил ордынское войско на это поле, на нём же и почил; и ещё назывались вслух дорогие имена, а были и такие, о ком лишь по приметам догадаться можно было, что он лежит, а не иной кто.
Не умещалось пока всё это в сознании – ни громадность победы, ни бесчисленность жертв, душа не привыкла ни так радоваться, ни так горевать; первое слишком ослепляло, почти отрывая от земли, второе на каждом шагу видом и запахом смерти угнетало, грозя болезненным равнодушием. Само сознание каждого пережившего битву было ещё слишком расщеплено, потрясено до основания, в памяти болезненно роились какие-то клочки, тщедушные обрывки происшедшего: их число то множилось безмерно, то все другие оттеснялись на время каким-то одним назойливым воспоминанием. Всё не умещалось, хотя день отплывал за днём и безмолвное поле окружало их умиротворяющей тишью. Может быть, всё и до самой смерти не уместится в сознании каждого из них. Они пережили то, что было выше их меры, на что человек обычно бывает не способен.
Поле, окружающее их, готовилось к ежегодному обряду смерти и было прекрасно в своих приготовлениях, если бы не эти следы, его обезображивающие. Насколько оказалось в их силах, люди постарались убрать эти следы.
Наступил день прощания живых с почившими, русского воинства с полем. Стояли над усть-Непрядвой, над светлым стременем Дона, обступив великие могилы, сняв шеломы и шапки.
Слышите ли вы, други, нашу тризну?
Дивную землю вылепил для нас Господь, украсил её холмами и долами, сочетал жилы рек и струи ветров, изобразил в дымке округлые дали, расширил дланями глубину небес, но пристанище ваше последнее вырыли мы сами. Не наша вина, что позавидовало красе земли нашей племя чужое, племя бездомное. Наша ли вина, что понесли мы ярмо иродово, бремя басурманское? Но вы надломили вражий хомут, и этого не забудет Русская земля, пока есть на свете такое имя. Прощайте же, братья! Мы ещё вернемся к вам, на это поле, на этот холм, и внуки наши придут из дальних сёл и градов подивиться вашему бескорыстию.
Память ваша не престанет.
И вы слышите ли там, везде, по всему свету? Мы – будем! Хотите ли, не хотите, мы будем жить, будем строить златошлемые каменные дива и прочные житницы, рожать детей и сеять зерно в благодатные борозды.
Мы будем акать и окать назло своим недругам, мы ещё созовём добрых гостей со всего света, и никто не уйдёт с русского пира несыт.
Мы будем, покуда небеса не свернутся как прочитанный свиток. А до тех пор наши колодцы не пересохнут, наши колокола не умолкнут!
Мы ещё скажем миру слово Любви, и это будет наше окончательное слово.
Глава двенадцатая
Обстоятельства битвы
I
Вполне возможно, что у читателя, хотя бы отчасти знакомого с разнообразной литературой о Куликовской битве – научной и художественной, – имеется немало вопросов, на которые он в предыдущей главе ответа не нашёл. Ну, хотя бы, например, такой: почему автор не высказался определённее о том, был или не был предателем рязанский князь Олег Иванович?
Или: почему ничего не сказано о численности русского войска на поле боя, если не точной, то хотя бы приблизительной? И о том, сколько русских погибло? И о том, какие всё-таки города и княжества участвовали в битве? Были ли в числе ополченцев новгородцы, как об этом свидетельствуют старые источники?
Или: какова была численность и каков был национальный состав войска Мамая?
А как быть с разноречием мнений вокруг такого немаловажного события, как переодевание Дмитрия Ивановича в одежду простого ратника? Ведь не новость, что некоторые усматривают в этом переодевании едва ли не проявление малодушия великого князя.
Порой даже вопросы, казалось бы, второстепенные способны бывают приковать пристальное и ревнивое внимание. Вот один из них: каков был цвет русских стягов и хоругвей на Куликовом поле? Чёрный, как читаем у Карамзина? Белый, как пишет Татищев? Или чермный, то есть червонный, алый, как пишут некоторые другие авторы? Ведь совсем немаловажно, какой именно смысл вкладывали русские ратники в цвет или цвета, знаменовавшие их понимание войны, смерти и победы.
Наконец, издавна немало несовпадающих предположений высказывалось относительно личности Пересвета и брата его Осляби, или Ослебяти. О втором, в частности, можно и сегодня прочитать, что он не погиб 8 сентября 1380 года и несколькими годами позже ездил в Константинополь по поручению русского митрополита. И что звали его не Андрей, а Родион.
Действительно, эти и сопутствующие им другие вопросы или обойдены в предыдущей главе, или на них отвечено без соответствующих разъяснений и обоснований. Сделано это намеренно, с тем, чтобы дать по возможности цельное, ничем механически не прерываемое изложение событий, начиная от приготовлений к походу на Дон и кончая похоронами русских героев. Причём постараться дать такое изложение, в котором бы повествовательная задача решалась в первую очередь на основе достоверных древних свидетельств, а отрывочность последних восполнялась авторским и читательским домысливанием и сопереживанием.
Что же касается многочисленных подробностей битвы, продолжающих возбуждать вопросы и недоумения, то автор посвящает им теперь отдельную главу справочного характера, заранее предупреждая, что он не ручается за полноту или окончательность своих ответов. Здесь важнее очертить круг вопросов, бытующих в настоящее время в культурном обиходе в связи с обстоятельствами Куликовской битвы. Начать с того, что все эти вопросы, большие и маленькие, восходят к одному, наибольшему и, так сказать, первопричинному – о степени достоверности историко-литературных источников, излагающих поход русского войска на Дон и само сражение.
Владимир Даль, поясняя слово источник, говорит о его значении следующее: «Вода и иная жидкость, истекающая из земли, ключ, родник и живец, водная жила». И тут же приводит расширенное толкование: «Всякое начало или основание, корень и причина, исход, исходная точка; запас или сила, из которой что истекает и рождается, происходит».
В исторической науке, где образом-понятием источник пользуются на каждом шагу, оно также имеет значение исходной точки, родника, из которого историк обязан почерпывать содержание, необходимое ему для соответствующих выводов. Времена прибывают, пишутся новые истории, иногда мелькают в них вновь обнаруженные источники, но редко, очень редко. Потому что чем древнее исторические источники, тем их меньше и тем реже пробиваются из земли заглохшие жилы.
О Куликовской битве, отдалённой от нас шестью веками, мы знаем и очень много, и очень мало. Много потому, что, во-первых, хорошо известно местоположение самого поля, и это для всех – и историков, и просто любителей старины, – безусловно, первый по важности источник. Пусть даже вы ничего не помните со школьной скамьи о битве, пусть вы не читали ни одного романа о ней и ни единая строчка Александра Блока, посвящённая Куликову полю, вам не запомнилась наизусть, но вы приедете на место, побродите по полю, подышите его воздухом, поговорите с жителями окрестных деревень, посмотрите на Непрядву у её впадения в Дон, какой-нибудь здешний пятиклассник проведёт вас к берёзовой рощице и скажет, что тут росла дубрава, в которой прятался запасный полк, – и вот уже вам понятно так много, что без всякого снисхождения вас можно считать знатоком: ведь только что вы прикоснулись к тем самым «запасу или силе», о которых говорит Даль.
В любой почти библиотеке вам выдадут какой-нибудь из современных исторических романов, посвящённых Куликовской битве, и вы немало узнаете о ней, минуя знакомство с самим полем. Но, как бы ни понравился вам тот или иной роман, к историческим источникам он не относится.
Даже соответствующие тома «Историй» Н. М. Карамзина или С. М. Соловьёва, содержащие описание битвы, не суть сами источники. Иное дело, что, в отличие от исторических романистов, которые, допустим, читали только Карамзина или Соловьёва, эти последние постоянно как к хлебу насущному обращались к главным источникам по Куликовской битве – русским летописям. Они обращались к летописям как к великим «запасу или силе», не мысля сделать ни одного значительного вывода, не сверившись предварительно со свидетельствами древнерусских пименов.
Летописей под рукой у того же Карамзина было много, они были разных изводов, разной сохранности и полноты, более или менее древние, но ни единая из них, касаясь событий XIV века, не обходила вниманием Куликовскую битву. В одних летописях о великом сражении говорилось предельно кратко, иногда всего несколько строк. В других изложение битвы занимало десятки страниц. Так, в Троицкой летописи – из неё Карамзин делал выписки особенно часто, ибо справедливо рассматривал её как древнейший (из сохранившихся) источник по истории Москвы, – битве был посвящён лишь «Краткий рассказ». Более подробное изложение, которое можно было бы назвать уже «Летописной повестью», содержали две новгородские летописи, составленные несколькими десятилетиями позднее, чем Троицкая, ближе к середине XV века.
Эта «Летописная повесть» в отличие от «Краткого рассказа» изобиловала живыми подробностями подготовки к походу, самого похода и, наконец, битвы. Так, в ней говорилось о предательском поведении Олега Рязанского по отношению к Москве, о переговорах Мамая с Ягайлом, о сборе русских войск в Коломне, куда на помощь Дмитрию Ивановичу пришли старшие Ольгердовичи – Андрей Полоцкий «с Плесковици», то есть с псковичами, и Дмитрий Брянский «со всеми своими мужи». Чрезвычайно ценно было и следующее уточнение, что русские войска от Коломны шли до усть-Лопасни, где к ним присоединились Владимир Андреевич с полками и окольничий Василий Тимофеевич, приведший из Москвы «вси вой остаточный». Переправа через Оку, сообщала «Летописная повесть», началась «за неделю до Семеня дни». К Дону же русское войско вышло 6 сентября, «и тогда приспела грамота от Преподобного игумена Сергиа и от святаго старца благословение». Затем следовало известие о споре русских военачальников – далеко не все были согласны, что нужно переправляться через Дон. При описании битвы указывалось, что длилась она «от 6-го часа до 9», то есть от полудня по современному счёту, и завершилась погоней русской конницы, преследовавшей врага «до реце до Мечи». Наконец, сообщались драгоценные свидетельства о поведении перед битвой и во время неё великого князя московского, который не захотел остаться в безопасном месте, «а бился с Тотары в лице, став напереди, на первом суиме», то есть участвовал в первом столкновении сторожевых полков. Сравнительно с «Кратким рассказом» «Летописная повесть» была как дверь, распахнутая в совершенно новое пространство. Она волновала яркостью и объёмностью непосредственных, явно неизмышленных подробностей происшедшего.
Известно, что, кроме этих источников, Карамзин пользовался ещё и знаменитой Никоновской летописью, составленной много позже, в эпоху Ивана Грозного, и то, что было написано в ней о сражении 8 сентября 1380 года, намного превосходило по объёму и количеству подробностей и «Летописную повесть», и тем более «Краткий рассказ». Впрочем, отдельные вкрапления из «Летописной повести» иногда проглядывали в Никоновском своде. Но именно лишь проглядывали, потому что они здесь подавались вперемешку с пространными отрывками из другого сочинения, известного как «Сказание о Мамаевом побоище».
Итак, сравнительно поздняя Никоновская летопись не представляла собою самостоятельный источник для изучения битвы. Но было ли самостоятельным источником помещённое в ней вперемешку с «Летописной повестью» «Сказание»?
Сам Карамзин на этот вопрос ответил отрицательно. В комментариях к V тому своей «Истории государства Российского» он говорит о «Сказании» как о «баснословной повести», приводит несколько несуразиц, обнаруженных в различных его рукописных редакциях и списках, впрочем, признаёт сравнительную древность сочинения.
Однако суровый приговор историка не нашёл единодушной поддержки у позднейших учёных. Крупнейший исследователь «Сказания о Мамаевом побоище» С. К. Шамбинаго, признавая вывод Карамзина чересчур скептическим, утверждал: «Сухая „Летописная повесть“ давала канву рассказа, Сказания сообщали ряд сведений, которых нельзя игнорировать историку». Но он же вынужден был признать: «Изменяясь с течением времени, редакции „Сказания“ вводили в изложение всё новый и новый запас накоплявшихся преданий о Куликовской битве, почти никогда не проверяя их критически. „Сказание“ разрасталось в объёме, переходя из летописного изложения в исторический роман».
Но чем же всё-таки отличается «Сказание о Мамаевом побоище» от «Летописной повести»? Прежде всего особенностями своей литературной судьбы. Можно без преувеличения сказать, что в Древней Руси «Сказание» было самым читаемым памятником, посвящённым Куликовской битве. В отличие от сравнительно малодоступных летописных повествований на ту же тему, «Сказание» читали буквально все грамотные русские люди. Оно легко и повсеместно множилось в списках, довольно быстро перекочевало за пределы Московии, его переписывали для своих трудов украинские, белорусские, литовские и польские хронисты.
Этот особый успех «Сказанию» обеспечило соединение в нём, казалось бы, трудносоединимых начал: внешней занимательности повествования, раскрашенного иногда почти в сказочные тона, и насыщенности его материалом, в первородности и доподлинности которого, кажется, трудно было усомниться. Так, на первых же страницах «Сказания» обвинение Олега Рязанского в предательстве (выдвинутое ещё «Летописной повестью») подкреплялось сразу несколькими письмами, которыми якобы обменивались между собой Олег, Мамай и Ягайло. Естественно, читатель прочитывал «переписку» залпом (не очень задумываясь, из каких тайнохранилищ сумел извлечь её автор «Сказания»). Далее доверчивый средневековый читатель узнавал о том, что великий князь московский неоднократно обращался за духовной поддержкой к митрополиту Киприану, и тот благословил Дмитрия на битву. Или о том, что в Москву по зову её властелина приехали вместе со своими ратями князья Андомские, Кемские, Белосельские и другие…
Карамзин во всём этом справедливо углядел «баснословие» и засвидетельствовал, что в 1380 году митрополит Киприан в Москве находиться не мог (поскольку Дмитрий не впускал его в Москву, не признавая за митрополита). Что до князей Андомских, Кемских и Белосельских, то они, по мнению историка, «появились много позже битвы». Не поверил он и тому, что у великой княгини Евдокии во время проводов мужа уже имелась сноха (это при княжичах-детках-то?). Во многих списках «Сказания» имелась промашка и того почище: вместо Ягайлы литовскую рать в помощь Мамаю вёл… Ольгерд, умерший за три года до Куликовской битвы.
Но показательно, что и Карамзин не перечёркивал полностью «Сказание» как исторический источник. «Мы, впрочем, не отвергаем некоторых обстоятельств вероятных и сбыточных, в ней находящихся», – осторожно заметил он о Никоновской летописи, имея в виду включённое в неё «Сказание».
Да и как было, к примеру, отвергнуть свидетельство «Сказания» о том, что накануне похода Дмитрий Иванович ездил к Сергию Радонежскому и просил у него благословения на битву? Ведь об этом же самом говорил и Епифаний Премудрый в своём «Житии Сергия». Или как было усомниться, читая в «Сказании», что Дмитрий попросил у троицкого игумена в своё войско двух иноков – Пересвета и Ослябю?
Пусть не упомянул об этом Епифаний, но зато в Синодике XV века имя Пересвета значилось в числе воинов, погибших на поле Куликовом; говорил о братьях-воинах и автор «Задонщины», а знаменитый русский писатель XVI века Иван Пересветов, обращаясь к Ивану Грозному, называл себя потомком двух богатырей, которые «за честь государю пострадали, главы свои положили».
Сверх того сравнительно немногого, что уже было известно русскому читателю о Куликовской битве по «Краткому рассказу» и «Летописной повести», «Сказание» с великим числом картинных подробностей, имён и т. д. сообщало:
о «трёх стражах», в разное время посланных Дмитрием Ивановичем за Оку, – навстречу Мамаю;
о Захарии Тютчеве – особом великокняжеском разведчике;
о десяти гостях-сурожанах, взятых Дмитрием в поход «поведания ради»;
о трёх дорогах, по которым разделившееся русское войско выходило из Москвы;
об «уряжении полков» на Девичьем поле под Коломной;
о поимке «языка нарочита, от вельмож царевых»;
о «приметах» Дмитрия Волынца;
об утренней мгле;
о переодевании великого князя и о его знамени;
о единоборстве Пересвета с «печенегом»;
о действиях засадного полка;
о розысках великого князя, обнаруженного «под сению ссечена древа березова».
Вот почему в своём собственном описании битвы Карамзин неоднократно обращался именно к сведениям, заимствованным из «Сказания».
Такой двойственный подход к «Сказанию о Мамаевом побоище» был как бы завещан Карамзиным всем дальнейшим поколениям русских историков. И в новейшие времена многие свидетельства «Сказания» о Куликовской битве, о Дмитрии Донском и его современниках имеют широкое бытование в науке, обрели в ней все права гражданства.
Но одновременно с этим не умирает и традиция критического, а иногда и гиперкритического подхода к «Сказанию». Следуя такой традиции, в нём видят только «исторический роман», сочинённый много позднее событий, причём сочинённый якобы на основе «Летописной повести», которая, в свою очередь, также признаётся далеко не безупречным источником.
При таком подходе число достоверных источников по Куликовской битве сокращается до одного-единственного – до «Краткого рассказа» Троицкой летописи. Все другие «памятники Куликовского цикла» – «Летописная повесть», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина» – выстраиваются по линии убывания достоверности.
Вот почему можно говорить, что о Куликовской битве мы знаем и много и одновременно мало. Если согласиться с тем, что «Краткий рассказ» окружён одними лишь апокрифами, то наши знания о ней поистине скудны. А если согласиться с тем, что наибольшая достоверность «Краткого рассказа» вытекает из наибольшей его хронологической близости к описываемым событиям, то здесь уже проявится скудость и искусственность нашего взгляда на вещи.
«Краткий рассказ» не был самым ранним свидетельством, ибо с самого начала Куликовская битва имела не только своё Писание, но и Предание. Всё о сражении и не могло быть сразу записано, но передавалось устно, накапливаясь, отстаиваясь в памяти. Нужно было отойти от события, чтобы увидеть целиком весь его громадный хребет. «Краткий рассказ» составлен исполнительным человеком, который, судя по всему, сам не видел сражения и которого поэтому не очень занимали отличие этого сражения от иных, неповторимость его обстоятельств.
Очевидцы и участники пока отмалчивались. Предание сдержанно гудело, выравнивало, уравновешивало свои составные по отношению друг к другу. Молва полнилась, отзывалась восхищением среди новых поколений. Во время молебнов из десятилетия в десятилетие тысячекратно произносились вслух, зачитывались по синодикам имена погибших на поле воинов; эти имена на самом почётном месте вписывались в семейные родословцы. «Сказание о Мамаевом побоище», вполне возможно, складывалось на основе Предания ещё на веку участников битвы. В нём есть пронзительные по достоверности картины, которые можно было записать лишь из первых уст. Так, надо было стоять на поле утром 8 сентября 1380 года, чтобы увидеть, что ордынская сила, освещённая солнцем сзади, была «мрачна потемнена», а русские полки, обращённые лицом на восток, «аки светилници издалече зряхуся». И только участник битвы мог передать то ошеломляющее впечатление, какое произвёл на него и его соратников необычный строй генуэзских копьеносцев.
Словом, вопрос о достоверности или о недостоверности того или иного из «памятников Куликовского цикла» требует чрезвычайной осторожности. Взять хотя бы «Задонщину». Эта средневековая поэма, вдохновлённая поэтикой «Слова о полку Игореве», на каждом шагу обращается к возвышенному языку художественной символики, к намеренным преувеличениям. Перечисляя погибших, автор, например, вместо двух упоминает «12 (!) князей белозерских», или 70 мифологических «бояр резаньских» или 30, тоже мифологических, «новгородских посадников». Казалось бы, «Задонщина» – всё, что угодно, только не исторический источник. Но обнаруживается, что и она может помочь историку при проверке тех или иных сведений, известных по другим памятникам. Оказывается, что в «Задонщине» гораздо точнее, чем в «Летописной повести» и в «Сказании», названы имена убитых московских бояр и воевод. К тому же «Задонщина» – единственный памятник, в котором упомянуты и имена вдов боярских, плачущих по своим мужьям «у Москвы берега на забралах». Это вдова Микулы Вельяминова Мария Дмитриевна (родная сестра великой княгини Евдокии), вдова Тимофея Волуевича Феодосья, вдова Андрея Серкизовича Мария, вдова Михаила Ивановича, внука Акинфова, Аксинья. Драгоценнейшее свидетельство! Имена всего четырёх москвичек XIV века, четырёх вдов с их безутешным горем, а картина общерусской скорби сразу оживает, наполняется смыслом.
Итак, «Краткий рассказ» Троицкой летописи, «Летописная повесть», затем, с некоторыми оговорками, «Сказание» и, с большими оговорками, «Задонщина» – вот основные историко-литературные источники, при помощи которых нам придётся отвечать на множество вопросов, связанных с Куликовской битвой.








