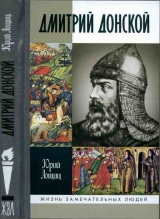
Текст книги "Дмитрий Донской, князь благоверный (3-е изд дополн.)"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
«А с Новым ти городом и с Торжком жити в старине и в миру», – следовало предложение за предложением, и каждое почти начиналось с этого московского твёрдого акающего «а»…
«А боярам и слугам вольным воля». Дмитрий потребовал только, чтобы правило боярской воли не распространялось на Ивана Вельяминова, потому что он не перешёл открыто со службы на службу, а исподтишка изменил своему хозяину, да и Михаилу, как совершенно очевидно, принёс одни лишь несчастья. Все земли беглеца Вельяминова изымаются в пользу великого князя.
Случится какой спор о земле или о людях, московские и тверские бояре пусть съедутся на рубеже для судебной расправы. Если же сами не сговорятся, то пусть призовут третейским судьёй великого князя рязанского Олега Ивановича.
Известно, что Олег не участвовал в походе русских князей на Тверь. Но назначение третейским судьёй в возможных спорах между Дмитрием и Михаилом не могло, конечно, состояться без его собственного согласия. Из этого можно заключить, что ко времени похода 1375 года в отношениях между Москвой и Рязанью наметились благотворные перемены. Называя своего южного соседа в качестве судьи-посредника, Дмитрий тем самым умно и необидно выводил его из рязанского закута, привлекал к общерусскому делу.
Веские, беспрекословные, будто в металле отлитые требования докончальной грамоты отражали твёрдую уверенность, обретённую Дмитрием к исходу лета 1375 года. Сейчас, пожалуй, было переломное время всей его жизни. Голос молодого князя окреп, приобрёл мужественное звучание. Этот голос стал слышен на всю Русь. Отныне к нему вынуждены будут прислушиваться и за её пределами.
IV
Как и следовало ожидать, наказание Твери разгневало и Мамая, и Ольгерда. Но тот и другой могли сейчас себе позволить лишь небольшие карательные набеги на окраины великого Владимирского княжения. Ордынская рать повоевала сёла возле Нижнего Новгорода. Литовцы подступили к Смоленску, но тоже отличились лишь грабежом крестьянских дворов и малых городков. Якобы мстили за обиду, нанесённую тверичу: «Почто ходили ратью на князя Михаила Тверского?» Видимо, ополченцы к этому времени ещё не вернулись в свои города и сёла, и сопротивления карателям оказано не было.
Иван Вельяминов безвылазно сидел в Орде – а куда ему, выходило, податься? Он громко именовал себя тысяцким Владимира клязьминского – великокняжеской столицы (этот чин был обещан ему Михаилом, когда в Твери сговаривались). Но велик чином, а в треухе овчинном. Михаилу теперь не до Владимира первопрестольного, рад небось, что и в Твери-то оставлен. И на Москве беглого боярина никто не вспомянет, даже родня отвернулась от него.
Всё озлобляло изменника. И то, что братья его и дядья служат честно Дмитрию (выслуживаются!). И то, что великий в мечтах Михаил присмирел (тряпка!). И то, что Мамай столько понаставил сетей неугодным ему чингисхановичам, что и сам уже по забывчивости стал попадать то в одну, то в другую (тоже тряпка – от халата Узбек-хана!). Но только за эту-то восточную тряпку и мог теперь цепляться Вельяминов.
Он ждал год, другой, третий. Развязка наступила лишь в 1378 году. В день победы войск Дмитрия Ивановича над ордынцами у реки Вожи (рассказ об этом сражении впереди) московские ратники поймали на поле боя какого-то бородача в облачении священника. Стали выяснять, почему он оказался в обозе мурзы Бегича. Обнаружили у попа мешок с сушёными корнями и травами, непохожими на корни и травы, какими пользуют больных русские ведуны и знахари. Поп оказался слабодушен и скоро признал под пыткой, что послан Иваном Вельяминовым, а тот сидит в Орде, и там у них великие нестроения.
А вскоре объявился на Руси и сам Вельяминов. Схватили его в Серпухове и срочно доставили в Москву. В «Истории Российской» Татищев сообщает подробности поимки предателя, в летописях не сохранившиеся. Вельяминова удалось схватить благодаря какой-то хитрости, придуманной князем Владимиром Андреевичем, который прознал, что изменник распространяет о нём в Орде клеветнические слухи. Видимо, несостоявшийся тысяцкий не брезговал никакими средствами, науськивая Мамая на московского великого князя и на его двоюродного брата. Заодно клеветою можно было бы подточить завидно прочные отношения дружбы и согласия, отличавшие до сих пор двух внуков Ивана Калиты. Или надеялся Вельяминов, черня Владимира, выслужиться перед Дмитрием, вымолить у него прощение?
Когда-то, по преданию, на месте Москвы стоял двор боярина Кучки. Кучковичи, его сыновья, запятнали свой род участием в злодейском убийстве князя Андрея Боголюбского. Напоминанием о тех событиях осталось на Москве урочище Кучково поле. Оно находилось за великим посадом, на водоразделе Москвы-реки и Неглинной, обочь старой Владимирской дороги. Здесь, на Кучковом поле, великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович повелел казнить боярина Ивана Васильевича Вельяминова, своего двоюродного брата, изменника, подстрекателя и клеветника.
Объявление о предстоящей казни взволновало всю Москву. Многие не ожидали столь беспощадного приговора. Кажется, это была первая гражданская казнь на Москве за всю её историю. По крайней мере, в летописях ни о чём подобном не поминалось ни разу. Но и измены, подобной вельяминовской, Москва ещё не знавала на своём веку!
Н. М. Карамзин, живописуя событие на Кучковом поле, пишет, что московский народ «с горестью смотрел на казнь несчастного сего сына, прекрасного лицем, благородного видом». Мы не знаем ничего о том, каков был собою Иван Вельяминов. Похоже, что, изображая его внешность, историк дал в себе волю писателю. Впрочем, тут, возможно, заключена и особая прозорливость, знание тайн людского естества: изменники почему-то нередко обладают именно прекрасной наружностью. Не потому ли им и удаётся подчас очень многое, что они соблазняют людей своим «благородным зраком»? Политическое распутство иным незрелым душам может даже показаться занятием увлекательным: измену все обсуждают, имя изменника – у всех на устах, в любой толпе сыщутся у переметчика сочувствующие и воздыхатели.
Казнь Вельяминова явилась соблазном для многих. И, как следствие этого, она оказалась исключительным испытанием для Дмитрия. Но он не имел права думать только о сегодняшнем дне – о плаче и стенаниях на боярском дворе Вельяминовых. Он обязан был помнить день вчерашний: плач, вопли и гибель сотен русских людей – страшные последствия единичного предательства. Он обязан был думать и о дне завтрашнем – о соблазнительности «прекрасного» облика измены, не пресечённой со всей строгостью.
Видимо, об этом же и так же думал летописец, сохранивший для потомков не только день, но и час наказания.
«Месяца августа в 30 день во вторник до обеда в 4 часа дни казнен бысть мечем тысецкий оный Иван Васильевич на Кучкове поле у града Москвы повелением великого князя Дмитреа Ивановича».
Глава девятая
Домостроительство
I
Ложиться старались пораньше и вставать пораньше, равняясь на солнце, на убывание и прибывание света. Так было и в княжеских ложницах, и во всякой малой деревнишке, где хоромишек всего-то «избенцо, да клетишко, да хлевишко». Пред светом жизни все были в равности, несмотря на свою очевидную разность, и князь великий московский поднимался для трудов в тот же час, что и любой его челядин. Зарево мягко румянило алтарные лбы кремлёвских соборов, а в хоромах, на сенях, в поварнях и конюшнях, в сушилах и погребах уже пошумливали, ежась от холодка, с последней стонущей зевотой выдыхая сонную одурь.
Дворские, получив дневные наряды, распоряжали холопов по работам и местам; повара, истопники, хлебники, ключники и подключники, конюхи, коровники, плотники, садовники, псари, рыболовы, портные и серебряных дел мастера, мельники, огородники, судомои и мукосеи, колесники, водовозы, дворовые и конюшенные сторожа, сокольники, утятники, пономари, звонари, дьяки и подьячие – всяк знал свой угол и притул.
Дворы Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича стояли по соседству. Лицом деревянные хоромы выходили на реку, на юг, на праздничный сбег Боровицкого холма. После ранней обедни, отстоянной в одном из соборов, после утреннего застолья, по будням самого тесного – только с женою и детьми, – великий князь, если не было других, более неотложных дел, призывал к себе дьяка. При живом отце и в первые годы своего княжения Дмитрий только видел и слышал работу с дьяками, смысл же её был для него тёмен. Но теперь он сам, не прося помощи ни от кого из бояр и к митрополиту не ходя за растолкованиями, знал, что в том или ином случае надобно ему сказать, а дьяку записать и прочитать потом вслух, проверяя перед князем верность записанного. Вот надлежало ему, к примеру, пожаловать кормленой грамотой нужного и полезного заморского гостя Андрея Фрязина, дядя которого, Матвей Фрязин, в своё время также был в кормленщиках у московских князей, предшественников Дмитрия. И он говорил дьяку веско и неспешно, а тот сеял из-под руки рядками, будто чёрные твёрдые семена, угловатые буквицы писчего полуустава.
«Се яз, князь велики Дмитреи Ивановичь, – уверенно звучал его голос, – пожаловал есмь Ондрея Фрязина Печорою, как было за его дядею за Матфеем за Фрязином; а в Перми емлет подводы; так было и доселе. А вы, печеряне, слушайте его и чтите, а он все блюдет, а ходит по пошлине, как было при моем деде при князи при великом при Иване, и при моем дяде при князи при великом при Семене, и при моем отци при князи при великом при Иване, так и при мне».
Дьяк зачитал написанное. Всё как будто на месте, ни одного ненужного слова, ни одного повода для превратных толкований, а в повторениях, касающихся деда, дяди и отца, есть особая убедительность: так было, так есть, так будет. И даже это мелькающее то и дело «при» не выглядит ненужным, потому что ещё и ещё раз прислоняет мнение Дмитрия к нерушимой стене родового предания.
Громадная область, простирающаяся по течению Печоры, которая отдаётся в кормление почти обрусевшему гостю, ещё дедом Иваном прикуплена у Великого Новгорода. Смелый купец, не боящийся печорских морозов и комаров, умеющий и с ушкуйниками договориться, промышляет на севере меха и соколов, особо ценящихся не только в Орде, но и в королевских домах Европы.
За это кормление поступают от него в великокняжескую казну большие пошлины. Да и вообще нелишне иметь во фрязех людей, всем почти своим добытком обязанных Москве. Иной раз купец, в Орду заглянув мимоездом, такую ухватит там новость для великого князя, что, кажется, во всю жизнь за неё не отплатил бы сполна ни мехами, ни серебром, ни татарской, ни собственной монетой.
Да, да, и собственной тоже. Был в жизни Дмитрия день особенный, прочнее многих других врезавшийся в память: это когда серебряного дела мастера принесли ему на пробу пригоршню сверкающих, тоненьких и неровно-округлых, будто сазанья чешуя, монеток. Одна к одной, ещё не тронутые тусклым налётом от рыночного хождения, ещё и не деньги как будто, а произведение бескорыстного художества. На одном боку монетки змеятся привычные взгляду и непонятные уму арабские слова: имя какого-нибудь из ханов и здравица о продлении его жизни. Но на другом… Волнуясь, он различал родную угловатость славянского письма: ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО ДМИТРИЯ. Тут же было поясное изображение воина с мечом в одной руке и секирою в другой.
Его волнения кто бы не понял: своя монета появилась на Москве впервые. Со времён нашествия Русь вообще не имела денег собственного чекана. Ни в Твери, ни в Новгороде, ни в Рязани – нигде ещё не смели и думать о таком. Редко у кого из русских князей водился сейчас на дне заветного ларя и жалкий наскрёбыш прапрадедова достатка – большие и веские монеты времён Владимира Киевского и Ярослава Мудрого. На тех монетах можно было разглядеть изображение великого князя, царственно восседающего на седалище; наряжен он в плащ, застёгнутый на груди запоной; на голове шапка, увенчанная крестом. Среди безмолвных тех свидетелей стародавней мощи попадались не только серебреники, но и золотые монеты, нисколько не потускневшие от времени, всё так же жарко горящие на свету.
Конечно, в соседстве с ними московские монетки Дмитрия выглядели не так ослепительно: и потоньше они, и помельче, и чекан погрубей. Но всё равно, всё равно, пусть и с ханскими именами на одной стороне, они будут разносить во все концы света весть о Москве и её князе.
Без арабской надписи никак не обойтись, она – пропуск для новых русских денег на восточные базары. Заезжие купцы удивляются, качают головами, разглядывая славянскую надпись и изображение воина, но берут монетку охотно. Пусть привыкают потихоньку к дерзкому виду ратника, вооружённого мечом и секирой. Мал значок, а на всяк зрачок. Кто-нибудь из своих, в неволе живущих, в Булгарии или в Сарае, увидит случайно московскую денежку – и заходит у него сердце ходуном. Любое добро отдаст за неё и везде, где лишь соберутся двое-трое соотечественников, станет показывать её: смотрите, наши-то живы… И не деньга это уже для него, не базарная потаскушка, а почти святыня.
Мастерам-резчикам заказывал Дмитрий изготовление великокняжеских печатей – для себя лично и для своих наместников, сидящих в городах Белого княжения. Всякая грамота – духовная, договорная, перемирная или жалованная, как и эта, что даёт он ныне добытчику-фрязину, недействительна, если не скреплена подвесной печатью, позолоченной ли, восковой. Остановит чернявого купца где-нибудь в глухомани княжеская стража: кто таков будешь? кажи грамотцу! И видят: грамота исправная, печать при ней неподдельная, московская. На одной стороне святой воин стоит, похоже, сам Димитрий Солунский, с копьём, со щитом. На обороте же надпись:
ВЕЛИКО
ГОКНЯЗЯ
ДМИТРИ
ЯИВАНО
ВИЧА
Ну что же, поезжай, купчик, дале, твоё счастье. Да смотри не теряй печать княжу, а то шубу с плеч, самого под меч.
Как ни скромно жили на своих дворах Дмитрий и его двоюродный брат, как ни берегли всякую полушку, как ни сковывала подчас их волю постоянная опасность новых опустошительных пожаров, а всё-таки забота о посильном украшении жилья не оставляла обоих. Наряжая свои дома, украшали тем самым чело Кремля, всю Москву. Говорят, уже в те времена терем великокняжеского дворца был златоверхим, со слюдяными окнами, с двухъярусным крыльцом на резных колонках, и светлица княгини, из которой она обычно провожала взглядом мужа, отъезжающего в очередной поход, помещалась над главным входом во дворец. Слюда в окошках искрилась на полуденном свету, дрожащим своим вспыхом дивила людей, особенно когда издали, из-за реки, глядел кто на Кремль. Если сам князь возвращался домой через Заречье, то и его в ясную погоду уже версты за две, за три веселили смеющиеся искорки высоких оконец.
Слюду добывали на севере, расслаивали на тонкие пластины, подбирали по цвету: есть слюда сиреневатого отлива, есть будто со слабым румянцем, есть золотистая, вохряная, есть и голубовато-льдистые листы, для каждой рамы – свой тон. Яркий солнечный свет, пройдя сквозь слюду, делается мягок, бархатист, дымчат – оттого в хоромах и в жаркий летний день не столь душно, и полнятся они обволакивающим тело, приглушающим шаги и голоса уютным задумчивым светом.
В светлице великой княгини свободные часы посвящались шитью драгоценных плащаниц, пелен, воздухов. Вышивали на привозных венецейских камках, на тафте и атласе, стараясь подбирать ткани звонких, праздничных цветов – малиновые, брусничные, черевчатые, маковые, лазоревые. Нити тоже были покупные – китайский и персидский шёлк, золотое и серебряное прядиво. Поверх плотного нитяного покрова ликов и головных уборов примётывали нанизь нимбов-подковок, подобранных из молочных капель индийского или же своего, печорского, жемчуга. Работа кропотливая, требующая терпения, усидчивости, проворства пальцев и чистоты взгляда, нераздражённого сердца и общего согласия – иную вещь хозяйка с помощницами готовила месяцами. О чём ни наговорятся, о ком ни наплачутся, да и намолчатся тоже всласть. На целый женский век хватает малого клубочка нитяного. То наматывается ниточка, то разматывается, день отлетает за днём, год отзывается году, бесконечна алая нить жизни.
В московской своей светёлке не раз уж полнела в стане великая княгиня Евдокия, делалась мягко-округлой – сама что тот клубочек. В такие месяцы особой уютной теплынью напитывались, кажется, и хоромные стены. Мягким кошачьим шажком выступала теперь Евдокия, осторожней усаживалась за пяльцы, чаще в глазах рябило, мутнели на ладони жемчужные зёрнышки, мурка играла на полу клубком, рассеянно соскользнувшим с колен, по-птичьи пощёлкивали дрова в печной утробе, в углах жилья копились, набухали, пенились серебряные сумерки.
В сентябре 1376 года Дмитрий и Евдокия пережили первое родительское горе – умер их старший, шестилетний Данила. Осталось двое мальчиков. Вася, четырёх лет от роду, и Юрий – этому ещё и двух не исполнилось. Беременная женщина не смела отдаться сполна своему горю, боясь за жизнь, что носила под сердцем. Как и каждая русская женщина её поколения, Евдокия не столько родильных мук страшилась, сколько трепетала за неясное будущее своих чад. Дай только думам волю, чего-чего не напридумается на их головки: и войны лютые, и моры беспощадные, и сотни иных болезней, знаемых и незнаемых. А случаи нелепые и непредвиденные, поджидающие человека на каждом шагу, во всякий час и миг?.. А зверь лютый в лесу, а гром небесный в открытом поле?.. А если, овзрослев благополучно, жить станут кое-как, друг против друга злобясь, на клочья раздирая отцов прибыток, – велика ли невидаль, далеко ли за примерами ходить?.. И в горький свой, безутешный час будет какой-нибудь из них проклинать родителей своих за то, что зачали его на муку жизненную, кинули в юдоль зла.
О, как страшно думать об этом, в ночной бессонной пучине холодея, сдерживая в себе вопль отчаяния! Тут-то напоследок и призовёшь Её, потому что кто же ещё услышит и к кому ещё воззвать? Из бездны отчаяния устремится жаркая просьба в бездну милосердия, и не об этом ли сказано: бездна бездну призывает? Можно принять любую родильную муку, лишь бы детки не знали мучений, потому что хватит уже на наш век, не вынесет сердце материнское нового повторения земных страстей. Да и не одну только родильную, а всякую муку примет на себя мать, за всех своих отстрадает, за всех умрёт, за всех испьёт чашу отчаяния, лишь бы прервалась безысходная чреда повторений.
Четвёртого сына (если от новопреставленного Данилы считать) Евдокия родила накануне Андрея Первозванного, почему и назвали мальчика Андреем.
Ещё один сын! В княжеском дому такое событие всегда считается особо значительным. Сын – прибыток мужества; говоря о младенце Андрее, разумели, что недаром и имя его по-гречески значит «мужественный». И вовсе не беда, что помельче придётся делить меж сынами отцову вотчину. Это ещё поглядеть надо, мельче ли; земель-то прирастает, прикупается понемножку, потуже становится дедова калита.
Василий, Юрий и Андрей… Мальчишек у Дмитрия уже больше, чем у покойного отца было, но молодому отцу желалось ещё и ещё детей, у него вовсе не было предчувствия, что они рождаются не вовремя. Напротив, самое время вновь заводить на Руси большие семьи, вить заново Великое Гнездо. Крепких рук нужно множество и душ горящих тоже. Трудов край непочатый.
И Евдокиюшка, Авдотьюшка безотказная, будет ему рожать и рожать: за Андреем родит Семёна (этот недолго, правда, поживёт), потом Петра и Ивана, потом, наконец, Константина…
И четырёх дочерей принесёт – тоже народец нужный! – Софью, Анну, Настасью и младшую Марию (снова это имя, столь лю́бое на московский слух).
Всего двенадцать детей породил великий князь Дмитрий Иванович за двадцать три неполных года супружеской жизни! Бесстрашное по тем временам чадолюбие. Далеко не в каждой княжеской семье на Руси тогда так много рожали. У Михаила Тверского, к примеру, было шестеро сыновей, но и это уже очень много, сравнительно с другими княжескими домами. Как многочадный родитель Дмитрий Иванович может быть всерьёз сопоставлен только со своими отдалёнными предками – князьями Киевской и Владимиро-Суздальской Руси. Так, Владимир Святославич имел (хотя и от разных жён) двенадцать сыновей, Ярослав Мудрый – семь, Владимир Мономах – восемь, Юрий Долгорукий – одиннадцать, Всеволод Большое Гнездо – восемь, его сын Ярослав Всеволодович – девять. Но это был уже самый канун нашествия. В следующем колене наиболее чадородным оказался Александр Невский, но у него родилось только четверо сыновей. Младший из них, Даниил Александрович, породил пятерых мальчиков, Иван Калита – четверых, Иван Красный, как помним, всего двоих. Ордынское иго длилось уже вторую сотню лет, и его цепенящая, сковывающая власть сказывалась и здесь: большие семьи стали редкостью; многие князья вообще умирали (или погибали) бесчадно; всегдашнее человеческое стремление увековечить память о себе в обильном потомстве шло на убыль, истаивало.
И вдруг – такой всплеск рождаемости в московском дому! (Владимир Андреевич тоже равнялся на старшего, двоюродного. Елена Ольгердовна принесла ему шестерых мальчиков.) Всё это говорило о резкой перемене в мироощущении. Бытийное самочувствие сделалось иным. В родительской щедрости Дмитрия и Евдокии проще всего было бы увидеть бездумное следование велениям естества. Нет, это чадолюбие было именно поступком, сполна осознанным стремлением противостоять ненавистной погибели Русской земли. Людей, людей и людей – просила земля, и Дмитрий в числе первых отвечал на её зов и другим подавал пример.
II
Люди, люди и ещё люди нужны были великому князю московскому и владимирскому.
Лес и луг сами себя обиходят. Деревья сами схоронят хилый подрост или ветхих своих старцев. Луг сам, без человечьего надзора, засеет себя новым семенем, не даст укорениться сорной траве. Но полю, взоранной, растревоженной сохою земле без людской постоянной заботы не жизнь. Следит за полем хозяин, не жалеет доброго семени, и оно возвращает ему сторицей. Но оставь он борозду всего на год, на два – и над беззащитной нивой вымахает стена бурьяна. А потом от ближних перелесков нанесёт сюда ветром всякой шелухи, укрепится в старых бороздах сорный березняк, и через несколько лет уже не продраться сквозь подлесок; не сыскать, где золотилась нива, где торчал двор. Только, может, глинобитное печище не до конца ещё развалилось и укажет на место, в котором люди ютились, грелись у огня.
Какая тоска! Надрывался человек от зари до зари, валил деревья, отволакивал их, подрубал корни у пней, отёсывал хлысты на избу, на сени, на овин, подбирал жерди для тына, прочая мелочь шла в огонь. Вспахивал обгорелое огнище, горькое на дух, то и дело трещащее корнями. Распушал горбатые борозды бороной в одну сторону, а потом и поперёк. Холодной ранью, пока ещё галки и вороны не проснулись, выходил сеять. И это, казалось бы, самое лёгкое и простое – чего там! – бери из торбы полную пригоршню и сыпь со всего замаху – оказывалось самым трудным. Иной мужик вроде бывалый и пахарь двужильный, а рука его в сееве подводит, напрягается чересчур, рвёт воздух, семя летит комками – там густо, там пусто, – а рассып нужен ровный, мягкий, повсеместный, во всякую пядь чтобы легло зерно. Не зря же зовут мужика не только пахарем, но и сеятелем. А сколько иных ему нужно умений, чтобы обжить по-настоящему новый свой надел! И дом сложи, и лавку вытеши, и стол тем же топором огладь, и печь вылепи… Да не зазевайся, чтоб трава в лугах не перестояла, а скошенная не перележала, не сгорела и в зародах не протекла сверху донизу. И к тому же не всё подряд коси-то, что и обкашивай, а не знаешь что, у коровы спроси, сладка ли ей полынь, мягок ли зверобой, вкусна ли пижма-трава. Да снова не зазевайся: зерно, глянь, потекло; в свой час его сожни, на гумно свези, цепом оббей и себя по спине не огрей; на ветерке от половы обвей, да в мех, да наверх. Глянь, а у тебя ещё и крыша не крыта! Вот тут-то и соломка сгодится, подбери её ровненькими пучками, чтобы один к одному, и укладывай их потесней, ряд за рядом. Хорош уклад – сух чердак, сух чердак – бела мука. Про свою жизнь и назавтра ничего не ведаешь, но избенцо, коли не тронет его огонь, под соломенной шапкой полвека простоит, и шапка эта – трава, кажись травой! – лишь сверху потемнеет, а снизу не истлеет.
Но где тот мужик, и как его имя, и что его труд?..
Люди, люди нужны были Москве. Со времён Дмитриева прадеда, а особенно деда, московская земля много полюднела, её князья умели зазвать к себе чужого насторожённого мужика, сбежавшего «из зарубежья» – от нищего князя-соседа, от злого его боярина. Но и по сей день велика была нужда в крестьянстве. Сколько ведь земли пустошится там и сям, особенно на расстоянии от дорог и рек!
Крестьяне-старожильцы, сидящие на великокняжеских чёрных землях, тянут своё обычное тягло. Княжеским и боярским волостелям, старостам, соцким строго-настрого наказано своих, московских крестьян друг у друга не переманивать. Но приходят и сегодня люди издалека, безлошадные, бессошные, и их надо устроить при земле так, чтоб захотели тут остаться навечно.
Для крестьян-пришлецов и приберегал Дмитрий Иванович запустошенные земли и во временный себе убыток, сажал их здесь «на свободы». Слободские жители, в отличие от чёрного тяглого большинства, платящего в казну оброк или несущего иные повинности, освобождались и от оброка, и от всевозможных налогов и повинностей на срок, который оговаривала княжеская жалованная грамота. Сроки были разные: от трёх лет до десяти, а то и больше – в зависимости от степени запущенности земли, богатства или бедности почв, близлежащих угодий, да и от возможностей крестьянской семьи, садящейся «на свободу». Получал пришлец и ссуду на обзаведение семенным зерном, скотом, упряжью и утварью. Со своей стороны он обязывался завести прочное хозяйство – «поставити двор», то есть избу с сенями, баней и овином, и двор этот «заметом огородити», распахать пустошь под хлеб, под овощ и как следует «огноити» огород, унавозить землю.
Так возникала новая деревня, в один, два, редко в три двора, и несколько подобных деревень образовывали слободу. Чаще всего население деревни составляла одна-единственная семья.
Новосёл укоренялся, обсматривался, примеривался к соседям-слободчикам, к хозяину-князю, к окрестным угодьям; земля рожала и так и сяк, но всё же потом своим он её орошал, кажется, не зря. Укреплялся пахарь духом, дети подрастали, бегали уже за сохой: он заводил трёхполье: на одном клину – озимое, на другом – ярь, третий – чёрный пар гуляет под озимь; налаживал колею к ближним и дальним – вёрст за десять – пожням; огораживал поля, пажити и стога от чужого беспастушного скота, да и от своей раздобревшей скотинки, также ходившей самопасом.
И смекал наконец, и свыкался с мыслью, что когда кончится срок слободской вольготы и придёт ему пора входить в круг черносошной общины и платить, как и все, оброк, то ничего, потянет. Дело известное: одна сорока не знает оброка. И самого Адама из рая выгнали за грехи, велено ему трудиться в поте лица своего. Весь крестьянский мир из года в год тянет тягло, и вместе, миром-то, общиной, куда легче тянуть, чем самому. В черносошной княжеской общине и староста и соцкие не назначаются сверху, от князя, но выбираются на сельском сходе. Община старается не дать в обиду ни старожитного крестьянина, ни новичка, пришедшего со слободы. При спорах с соседями – будь то боярское или монастырское хозяйство – община обязана постоять за себя, за свою землю.
А иных пришлецов князь сажал не на землю, но определял при каком-нибудь угодье, промысле: соль варить, дёготь жечь, муку на одноколёсной мельнице молоть, снимать мёд в бортном лесу, промышлять бобров на плотинах, рыбу вялить, ловить куницу-черницу. Тут работали целыми дружинами с главным слободчиком, его же князь, как правило, знал не только по имени, но и в лицо. Приглядывался к человеку, прежде чем отрядить на работы: надёжен ли, не буян ли, чист ли на руку? Ведь слободчик будет своим людям большую часть года вместо судьи и волостеля, вместо самого князя. Не распугал бы, не растерял бы своих подручников.
Было кому внушить великому князю, да и сам он с годами уразумевал всё более, как ценен и нужен ему всяк человек, «честно и грозно» носящий его, княжью правду. Счастлив господин, окружённый умными боярами, совестливыми судьями, находчивыми наместниками, самостоятельными воеводами, смышлёными волостелями. Лишь бы не завелись между ними склоки, наговоры, воровство, обиды чернолюдству. Не завёлся бы обычай бегать к князю жаловаться друг на друга, а друг меж другом и князя охаивать. Вот и нужен ему глаз твёрдый, вглядчивый, уменье быстро и наверняка выбирать людей, мирить их, когда ссорятся, поклёпам не потакать, не унижать подозрительностью, но и не пренебрегать проверкой, пылких остужать, а вялых подхлёстывать, правого не перехвалить и от виноватого не отмахнуться, награждать по усердию, а не по родовитости, принимать всяк совет, но не действовать ни по чьей указке, гнев свой угнетать, а в радушии знать меру, с мудрыми быть простым, с простыми мудрым. И ещё: не радоваться слишком, когда вокруг все радуются, и не впадать в уныние, когда другие впадают, ибо то и другое чрезмерно. Всегда ожидать неожиданного и этим ожиданием умерять, уравновешивать и свою радость, и своё горе. Мера – вот начало и конец его науки. Мера в искренности и в хитрости, в говорении и молчании, в решительности и в осмотрительности, в терпении и нетерпении, во всём, во всём… Стоит чуть-чуть выйти из меры, в самой, казалось бы, малости, а на другом конце земли целые моря выходят из берегов.
И всё это ему нужно было иметь при себе на всяк день и час жизни: и когда домашних покидает для дел великого княжения, и когда от трудов властвования возвращается к семейному очагу. Он обязан быть и в дому своём властелином, и во княжестве отцом. Если не умеет утихомирить собственных детей, то и с норовистыми боярами не управится. Если не расслышит тихую жалобу жены, то донесётся ли когда до ушей его плач сотен вдовиц? Домостроительство семейное для князя – только заглавная буква в домостроительстве всей земли. Первое во втором как семечко в медленно зреющем плоде. Но плода не дождаться ни ему, ни его потомкам, если он не привыкнет на всю землю смотреть как на продолжение своего московского двора, а на каждую живую душу, её населяющую, как на своего родича, семьянина. Не научится он, не научатся дети его – и задичает тогда Москва, забудет её земля, как многих и многое на своём веку забыла.








