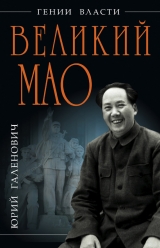
Текст книги "Великий Мао. «Гений и злодейство»"
Автор книги: Юрий Галенович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
[…] После того как мы вступили в города, привередливость Цзян Цин стала переходить уже всякие границы. Каждый день по утрам, когда она вставала с постели, мы, телохранители, непременно должны были приветствовать ее, произнося следующие слова: «Товарищ Цзян Цин, хорошо ли вам спалось?» И если вы не поприветствовали ее таким образом, она могла надуться и целый день вас не замечать.
Завтракала она в постели. В торце кровати было устройство, с помощью которого можно было приподнять один край кровати, и благодаря этому верхняя часть тела оказывалась также в приподнятом положении. Впоследствии, с той целью, чтобы Цзян Цин было удобно, проснувшись, протирать лицо, полоскать рот, у торца кровати был приспособлен небольшой туалетный столик, который поворачивался и оказывался прямо перед ней, когда она завтракала. Я видел в кино, как некоторые иностранцы тоже завтракают в постели. Если Цзян Цин не ощущала никаких недомоганий, то аппетит у нее был довольно хороший. За завтраком она обычно ела хлеб, сливочное масло, иногда небольшие пампушки. Она ела закуску. Это, по большей части, была горчица шпинатная – травка, поджаренная в масле и называвшаяся по-китайски «сюе ли хун», то есть «нечто алое в снегах», а также горох, сваренный в воде без соли. Иной раз немного соевого творога.
Она ела жидкую рисовую кашицу; не очень часто пила также молоко. В полдень употребляла обычные блюда. Она любила есть карасей.
Если в полдень на обед не было рыбы, то за ужином рыба должна была быть обязательно. Она любила также толстолобика. Она любила есть рыбу, у которой много костей, а мякоть нежная. Карпа она ела только от случая к случаю. Она любила также есть рыбу, которая в Китае называется сезонной рыбой или по-китайски «ши юй». Но так как это было дорогое удовольствие, то она ела эту рыбу не часто. Она любила также есть кету с солеными овощами. Цзян Цин любила также есть лягушек. Когда их подавали на стол в небольшой фарфоровой пиале, то по размеру они были никак не больше голубя. Она любила также суп из ребрышек с мясом на косточках. Обычно этот суп варили в глиняном горшочке. Каждый раз при приеме пищи был либо суп из ребрышек с мясом, либо уха. Из овощей она любила тушеные овощи с гарниром, а также то, что называется пустотелыми овощами – амарант или щирицу, сельдерей. При этом требовалось, чтобы волокна были очень мелко нарезаны. Если же она чувствовала себя неважно, тогда готовилось овощное пюре. Она зачерпывала его фарфоровой же ложечкой и ела. Она не употребляла в пищу животного масла; жарить овощи надо было только на растительном масле. Большое внимание уделялось тому, чтобы пища была легкой, не жирной.
В овощи иной раз добавлялась мясная пена, а иногда чуть ароматных грибков, шампиньонов или грибков древесных. Если иметь в виду то положение, которое занимала Цзян Цин, то нельзя считать, что ее требовательность была чем-то выходящим за рамки возможного; а иной раз это и вообще была довольно простая пища. Ее привередливость проявлялась и доходила до крайности в придирчивости ко вкусу пищи. Лишь один повар, а именно Мяо Бинфу, мог угодить ей, а остальные, включая и повара Мао Цзэдуна, не могли добиться того, чтобы приготовленная ими пища пришлась по вкусу Цзян Цин.
Вполне очевидно, что Цзян Цин была знакома с литературой по вопросам питания; меняясь сама, она одновременно всеми силами старалась оказать воздействие и на Мао Цзэдуна, но он в этом плане был «консерватором»; кто бы то ни было, лечащий врач или Цзян Цин, никто не мог изменить сформировавшихся у него привычек в еде.
Он любил перец, любил соленое, любил мясо в соевом соусе и пожирнее. Цзян Цин же более всего протестовала против того, чтобы он ел много соли, употреблял в пищу много жирного мяса. Будем же объективны теперь: в том, что касалось питания, права была все-таки Цзян Цин, а не телохранители. Однако в свое время мы были согласны с «деревенским», так сказать, «земляным духом» Мао Цзэдуна; нам не по нутру были «придирчивость» и «выпендреж» Цзян Цин. В конце концов Цзян Цин и Мао Цзэдун поссорились из-за вопроса о том, чем питаться. Я уже говорил, что Мао Цзэдун любил мясо в соевом соусе, а Цзян Цин не позволяла мне готовить его; и как бы там ни было, а ей не следовало называть Мао Цзэдуна «деревенщиной». Мао Цзэдун вспылил и сказал знаменитые слова: «Если уж мы не можем есть одно и то же, то можно питаться порознь; с этих пор пусть она ест свое, а я буду есть свое; пусть она не лезет в мои дела!» Мао Цзэдун никогда не отказывался от своих слов. Это высказывание Мао Цзэдуна повлекло за собой серьезные последствия. С того времени Мао Цзэдун больше не дотрагивался до пищи, которую ела Цзян Цин. А если муж и жена даже и не едят вместе, то отношения между ними уже находятся в опасности.
[…] Как бы там ни было, а и на отдыхе они тоже перестали быть вместе. Я вспоминаю некоторые факты, некоторые высказывания, которые имели к этому отношение.
Мао Цзэдун постепенно достигал почтенного возраста. Врач, следивший за состоянием его здоровья, обращал чрезвычайно большое внимание на то, чтобы он больше двигался. Помимо того, что он плавал и совершал пешие прогулки, от него требовали также, чтобы он один-два раза в неделю танцевал. Врач выбирал время, следил за расписанием; врач не допускал снижения двигательной активности.
Когда Мао Цзэдун плавал или танцевал, он любил, чтобы все это происходило при большом всеобщем оживлении. Обычно он работал, ел, спал в одиночестве; постоянно испытывал чувство одиночества; а потому, когда он развлекался, двигался, тут непременно требовалась группа молодых юношей и девушек. И лишь когда все они разговаривали и смеялись, оживленно болтали, ему было хорошо. Мы тоже знали о том, чего Мао Цзэдун хотел от жизни. Поэтому во время купания, плавания и во время танцев мы «отпускали вожжи дисциплины». Мы, не боясь, громко говорили, шутили и смеялись; мы смело покрикивали и даже орали. И тут уж не было строгого деления на старших и младших; все были просто людьми.
Цзян Цин же была совсем иным человеком. Для нее был невыносим сам вид молодых людей, когда «отпускались вожжи». В случае появления на публике она всегда выступала с каменным торжественным лицом. Ее взгляд сурово переходил с одного предмета на другой; она отметала напрочь все, что было легким и раскованным.
Она начала показывать свой характер особенно начиная с 1957 года. Он становился у нее все хуже. Врач говорил, что это – проявление климакса. Тут она стала бояться ветра, пугаться звуков человеческого голоса; ей доставляло удовольствие приходить в состояние раздражения; ей нравилось вскипать, проявлять свой гнев.
Мы же в то время все были людьми молодыми и не понимали, что это еще за климакс такой? Мы знали только, что у нее болезнь. Телохранители говорили в беседах между собой: «Ну, сейчас она просто стала человеком другого ранга. Теперь она ответственный секретарь. Она уже в ранге заместителя министра, а ведь чем выше чиновничий ранг, тем труднее справляться со своими болезнями, так?»
Дело было в 1957 году. Мао Цзэдун и Цзян Цин лечились и отдыхали в Ханчжоу. Жили в гостинице «Лючжуан бингуань». Партком провинции Чжэцзян устроил танцевальный вечер в гостинице «Дахуа фаньдянь». Мао Цзэдун отправился туда один. Цзян Цин не поехала. На вечере танцев царило большое оживление. Смех не стихал. Все мы танцевали до того, что вспотели, а телохранитель Тянь Юньюй даже познакомился с девушкой из местного ансамбля и подружился с ней. Все натанцевались и навеселились досыта и наконец отправились домой. Руководители провинциального парткома, услыхав от врача, следившего за состоянием здоровья Мао Цзэдуна, что он благодаря танцам очень хорошо отдохнул, были этим весьма довольны. Они вдохновились и спустя два дня снова организовали танцы для Мао Цзэдуна в гостинице «Ханчжоу фаньдянь».
В качестве партнерш по танцам обычно отбирали артисток из местного ансамбля. Мао Цзэдун их уже хорошо знал. Они были также хорошо известны и нам, телохранителям, и врачу, следившему за состоянием здоровья Мао Цзэдуна, и его секретарям. Поэтому, как только мы появились, наши знакомые шумно приветствовали нас.
Возникло такое ощущение, что предстоит большой праздник.
Однако вдруг оказалось, что этот праздник стал стремительно увядать. Люди, создававшие толпу танцующих в зале, начали отходить к стенам, отступать в стороны. В танцевальном зале повисла неловкая суровость и тишина. И те артисты и артистки из ансамбля, которые намеревались было сгруппироваться вокруг Мао Цзэдуна, чтобы пошутить и посмеяться, тоже почтительно отошли, разошлись в обе стороны. И тут возникли вежливые аплодисменты.
Оказалось, что вслед за Мао Цзэдуном появилась неприступная и строгая Цзян Цин. Ее суровый взгляд как бы держал людей на почтительном расстоянии. Тут уж было просто невозможно не ощутить напряженность, не почувствовать желания отдать почести и удалиться.
Мао Цзэдун еще пытался пошутить, чтобы вернуть хорошее настроение и чтобы все чувствовали себя непринужденно, но это уже не действовало. Люди продолжали говорить, но держались «в рамках», смеялись, но тоже «в рамках», а уж двигались исключительно «так, как положено». И атмосфера, к которой так стремился Мао Цзэдун, атмосфера, в которой люди не ощущали себя начальниками и подчиненными, вели себя непринужденно, так и не возникла. Мао Цзэдун насупил брови. Он ничего не сказал, но было совершенно ясно, что у него на душе. Сидя в кресле, он прошептал мне на ухо: «Стоило ей явиться, и все замерли…»
Заиграл оркестр, люди устремились было танцевать в центр зала, как вдруг послышался голос: «Дурно. Это дурная музыкальная пьеса. Замените ее».
Этот приказ отдала Цзян Цин. Она подошла к оркестру и явно хотела стать центром этого вечера танцев, стать его хозяйкой.
Дирижер предложил ей несколько мелодий. Она придралась к каждой из них; показала себя специалистом в этой области. И оркестранты и те, кто хотел потанцевать, изумились тому, как много мелодий она знает. Мао Цзэдун начал тяжело дышать. Наконец с большим трудом она «милостиво повелеть соизволила», то есть выбрала несколько мелодий, и только тогда вечер танцев начался.
В первом танце Цзян Цин была партнершей Мао Цзэдуна. Говоря по справедливости, надо сказать, что Цзян Цин танцевала довольно хорошо. Ее движения в танце были аристократичными и в то же время свободными. Однако она слишком придерживалась правил, и ей недоставало горячих чувств. Мао Цзэдун бросил взгляд в мою сторону, и я тут же сообразил, дал указания телохранителям, как им действовать. Когда снова зазвучала музыка, телохранитель Ли Ляньчэн шагнул к Цзян Цин и пригласил ее на танец. Так Мао Цзэдун обрел свободу и смог потанцевать с другой партнершей. Молодые люди оживились, и прямо у всех на глазах вечер танцев пошел на подъем. И вдруг, – а Цзян Цин всегда любила неожиданности, – в танцевальном зале вновь раздался голос Цзян Цин. Зажав уши руками, она кричала:
– Это же режет слух, страшно режет слух. Это просто невыносимо! Неужели ваш оркестр способен только греметь? Вы не можете играть потише? […] Еще тише!
Танцевальный вечер для всех был смят. Мао Цзэдуну тоже испортили настроение. Когда мы вернулись домой, Мао Цзэдун грубо сказал:
– Все настроение испортила! Где появится Цзян Цин, там везде испортит настроение. Я видеть ее больше не хочу.
Такие вещи случались несколько раз. Мао Цзэдун начал заметно избегать Цзян Цин. Он много раз говорил мне, другим телохранителям, а именно Тянь Юньюю, Фэн Яосуну, что «Цзян Цин все портит», «Цзян Цин как придет, так испортит настроение». Когда Мао Цзэдун отправлялся на периферию, то в какой бы провинции, в каком бы городе он ни был, стоило ему услышать, что туда должна приехать Цзян Цин, как он немедленно приказывал нам собираться в дорогу и уезжать. Он говорил: «Она ведь какой человек? Стоит ей только появиться, и настроение испорчено. Лучше уж нам уехать».
[…] Мао Цзэдун чем дальше, тем все больше не хотел видеться с ней. Они не ели вместе, не спали вместе, не работали вместе и даже не отдыхали и не развлекались вместе.
14. Как Мао Цзэдун улаживал твои ссоры с Цзян Цин?
[…] В 1950-х годах и в начале 1960-х годов у Цзян Цин не было никаких особых дел. Мао Цзэдун не позволял ей запускать свои руки в политику. Она мучилась от безделья и каждый день играла в карты.
В играх и развлечениях она тоже отличалась от Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун был способен пережить свой проигрыш; для нее же проигрывать было нестерпимо.
Мао Цзэдун играл в карты крайне редко; он не часто играл и в другие настольные игры. Лишь иногда он играл с Кан Иминем (в то время Кан Иминь был заместителем начальника секретной части канцелярии ЦК КПК) в облавные шашки, причем большей частью проигрывал. Когда кто-то выигрывал у него, он не сердился, а когда кто-нибудь поддавался, вот тогда он сердился. Поэтому Кан Иминь, играя с ним в облавные шашки, всегда действовал решительно, играл в полную силу. Когда Мао Цзэдун проигрывал партию, то есть тогда, когда в данной партии больше ничего сделать было нельзя, он усиленно сосал нижнюю губу, причмокивал, вздыхал и громко сетовал, как будто бы и вкус поражения оставался с ним на всю жизнь, как будто бы и вообще сама прожитая жизнь была напрасной. Уходя, он пенял мне: «Видно, не во всем Мао Цзэдун бывает прав; вот ведь Кан Иминь обыграл его».
Цзян Цин же была иной. При игре в карты она не терпела, чтобы партнеры поддавались. Тут она вела себя так же, как и Мао Цзэдун. Однако в отличие от Мао Цзэдуна она непременно стремилась выиграть, а если выиграть не удавалось, она выходила из себя, причем это оборачивалось неприятностями для всех остальных.
Она всегда играла в паре со мной. Известно, что «на вершине горы со стужей не справишься»; иначе говоря, если ты в карточной игре допустил ошибку, сделал неверный ход, то на тебя будет коситься твой партнер. Поэтому хотя речь-то шла всего-навсего об игре в карты, играть приходилось с замиранием сердца, с трепетом душевным. Когда нам попадались слабые партнеры, а такими были, например, находившиеся в моем подчинении телохранители, не владевшие в совершенстве искусством игры в карты, то в конечном счете мы у них выигрывали; ну, тут, можно сказать, дело обстояло довольно хорошо. Если же нам встречался сильный противник, ну, например, умные и ловкие медсестры, то тут нам приходилось нелегко. Если бы медицинские сестры нам не уступали, не поддавались, мы бы, вне всяких сомнений, проигрывали бы. Сестры же, конечно, хотели нам поддаться, но не могли делать это слишком демонстративно, так как это принесло бы еще большие неприятности. А когда у игрока в голове какие-то заботы, то он запросто ошибается, делая карточные ходы; и вот когда я ошибался при своем ходе, Цзян Цин вся бледнела от злости и бросала на меня взгляды искоса, и тогда игра превращалась для меня просто в пытку.
[…] Долго работая рядом с Мао Цзэдуном, телохранители начинали чувствовать себя членами семьи Мао Цзэдуна. И сам Мао Цзэдун относился к нам, как к членам своей семьи, как к родным. Тут и любовь была глубокая, а если ругал, то ругал так, как своего, близкого, родного человека, то есть как бог на душу положит; тут не было никакой отстраненности, тут не было необходимости выставлять свои амбиции и «думать о последствиях, то есть о том, как это обернется в будущем».
15. В чем были особенности отношения Мао Цзэдуна к людям?
[…] В делах он руководствовался разумом, применял методы, которые вытекали из теории; а в своих связях как частного лица он руководствовался чувствами. «Силу можно применять только в соответствии с законом, и только то, что отвечает законам, даст эффект; силу нельзя применять к области дружбы между частными лицами; если применять силу в сфере дружеских связей между частными лицами, то можно с абсолютной уверенностью сказать, что толка не будет. Причем не только не будет результатов, но возникнет обратный, противоположный эффект». «Я ощущаю, что для нас, для людей, понятие борьбы применимо только к столкновениям тех или иных принципов; и в то же время понятие борьбы неприменимо к отношениям частных лиц. Борьба принципов проистекает из невозможности обойтись без борьбы; борьба ведется между принципами, но не между отдельными, то есть частными, лицами. В мире весьма распространена, то есть весьма часто имеет место борьба частных лиц, отдельных людей между собой, но тут, вероятно, возможны соглашения, уступки».
При установлении и поддержании Мао Цзэдуном отношений с товарищами, с друзьями, с близкими ему людьми в каждом случае имелись свои особенности.
Тогда, когда речь шла о контактах и встречах с товарищами по партии, внутри партии, Мао Цзэдун, за исключением встреч после длительной разлуки, очень редко проявлял теплоту, а в основном тут царила строгость, и в то же время люди не были скованы рамками или нормами неких церемоний или приличий. Тут не скрывалось ни хорошее, ни дурное; тут не было места для обходных маневров; речи звучали краткие, говорили по сути дела; тут выражались с суровой прямотой.
Что касается товарищей по партии, то Мао Цзэдун не разводил тут никаких лишних церемоний, не устраивал вежливых встреч и проводов гостей. У него была привычка работать, лежа на кровати. Я наблюдал, как иной раз главные руководители государства, правительства и армии приходили либо запросить указания, либо с докладами о работе, а он и в этих случаях не поднимался, продолжал знакомиться с документами и ставить на них резолюции. Иной раз он, уже выслушав несколько фраз из доклада, лишь тогда делал жест рукой, что означало: «Садись, говори сидя».
Если же Мао Цзэдун сидел в мягком кресле, то тогда, когда приходили товарищи по партии, он обычно не привставал, а лишь делал жест рукой, приглашая товарищей тоже сесть, а когда они садились, то разговор шел о деле; посторонние темы почти не затрагивались.
Если же речь шла о товарищах, которых он в течение длительного времени не видел, то Мао Цзэдун вставал, встречал их и пожимал им руки, но ни в коем случае не выходил из дверей навстречу им; ну, за исключением тех ситуаций, когда в момент прибытия гостей он уже находился вне своей комнаты; в противном случае он из комнаты не выходил.
[…] Мао Цзэдун как будто бы намеренно ограничивал и сдерживал себя; он не развивал личные дружеские отношения, которые выходили бы за рамки товарищеских отношений и отношений соратников по борьбе, ни с кем-либо одним, ни с какими-либо несколькими главными ответственными руководителями партии, правительства, армии. Товарищеские отношения оставались именно товарищескими отношениями. Он всемерно избегал того, чтобы товарищеские отношения осложнялись чрезмерно теплыми личными чувствами. Например, с Чжоу Эньлаем он сотрудничал, и их связывали общие дела на протяжении нескольких десятилетий. Тут дело доходило вплоть до того, что не было по существу ни одного вопроса, касавшегося одежды, питания, жилья, транспорта для Мао Цзэдуна, которые бы не были каждодневно и ежечасно предметом прямой заботы и попечения со стороны Чжоу Эньлая. Комнаты, в которых жил Мао Цзэдун, по большей части были выбраны Чжоу Эньлаем. В годы войны и в периоды чрезвычайного положения Чжоу Эньлай обычно сам предварительно проходил частично, дабы убедиться в том, безопасно ли это, те пути, по которым предстояло проследовать Мао Цзэдуну; Чжоу Эньлай постоянно осведомлялся, что ест Мао Цзэдун. Дружеские чувства, которые их связывали, должны были быть необычайно глубокими. Каждый раз в ключевые моменты Мао Цзэдун всегда, проявляя доверие, передавал высшую власть Чжоу Эньлаю. Однако за те 15 лет, что я провел подле Мао Цзэдуна, я никогда не слышал, чтобы он сказал Чжоу Эньлаю хотя бы одну фразу, которая выходила бы за рамки товарищеских отношений и являлась бы проявлением личных чувств.
Все это связано вне всяких сомнений с историей и с современным состоянием нашей партии. В ходе многолетней вооруженной борьбы освобожденные районы были отделены один от другого; они были вынуждены вести боевые действия самостоятельно, то есть самостоятельно бороться за выживание, самостоятельно добиваться расширения своей территории; при этом было немало проявлений того, что именовалось «горным местничеством», когда каждый считал себя «выше всех на своей горе». Дело обстояло именно так, как говорил об этом Мао Цзэдун: «Было бы чудом из чудес, если бы в партии не было фракций». Мао Цзэдун же был вождем всей партии, партии в целом, поэтому он не мог позволить себе иметь любимчиков и не мог допустить того, чтобы кто бы то ни было ощущал, что к нему у Мао Цзэдуна имеется особое отношение. Возможно, что это лишь одна из причин того, что в партии у него среди товарищей не было, скажем так, слишком многочисленных и слишком глубоких дружеских связей.
В силу этого неизбежным оказалось возникновение следующей ситуации: целый ряд товарищей, в том числе руководители высокого ранга, встречаясь с Мао Цзэдуном, просто при одном его виде вели себя по отношению к нему весьма и весьма уважительно, держали себя в строгих рамках и даже чувствовали себя напряженно, скованно; они не могли свободно высказать то, что им хотелось бы сказать. По мере того как авторитет Мао Цзэдуна день ото дня возрастал, все это становилось все более серьезным. Я лично считаю, что в этом один из источников того, что в конце 1960-х и в 1970-х годах в определенной степени сформировалась «система, при которой все решает глава семьи», появился, как говорится, тот самый «зал, в котором ораторствует лишь один человек».
Из этого правила были два довольно ярких исключения: Пэн Дэхуай и Чэнь И.
Отношения Пэн Дэхуая с Мао Цзэдуном носили привкус глубоких дружеских чувств. Они разговаривали между собой искренне, откровенно, не заботясь о форме выражения мыслей, даже грубовато. Они смело шутили, ссорились, ругались. В то время, когда мы шли с боями по северной части провинции Шэньси, в партии в целом давно уже стало привычным обращение «председатель Мао», и один только Пэн Дэхуай все еще прямо говорил Мао Цзэдуну: «Мао, старина». Вероятно, именно он был тем человеком в партии, который позже всех перешел на новое обращение к Мао Цзэдуну. Когда он беседовал с Мао Цзэдуном, то зачастую отчаянно жестикулировал, голос его гремел и заполнял помещение; он говорил быстро, как строчит пулемет. В этих случаях и Мао Цзэдун начинал говорить с большим воодушевлением, брови его взлетали и танцевали; это было просто-напросто похоже на известную картину, на которой изображено, как два старых друга «срывают с места огромную гору». И так все это продолжалось вплоть до Лушаньского совещания (1959 г. – Прим. пер.); в Лушане Пэн Дэхуай в разговоре с Мао Цзэдуном в последний раз дважды «поминал мамашу», то есть матерно ругался. После Лушаньского совещания, когда через некоторое время Пэн Дэхуай вновь встретился с Мао Цзэдуном, он переменился, был молчалив и неразговорчив; он даже чувствовал себя скованно.
У Чэнь И был свой своеобразный стиль общения с Мао Цзэдуном. Он каждый раз при встрече с Мао Цзэдуном обычно звонко щелкал каблуками, вытягивался во фрунт и рапортовал: «Председатель, разрешите доложить. Чэнь И прибыл с докладом!». Или так: «Председатель, я прибыл». Мао Цзэдун в ответ махал рукой: «Садись, говори сидя». И тогда Чэнь И лучезарно улыбался, заразительно смеялся и «давал себе волю». А когда он начинал шутить, то в комнате Мао Цзэдуна воцарялось оживление. Иной раз он и Мао Цзэдун вступали в соревнование: они наперебой вспоминали и читали стихи; это относилось к области личных отношений. В партии с Мао Цзэдуном смог установить отношения глубокой дружбы, личные отношения, пожалуй, один лишь Чэнь И. Он был по натуре своей человеком живым, жизнерадостным, голос имел зычный; у него в характере были качества поэта, то есть напор, порыв и горячность. Когда он искренне радовался, то у него руки и ноги ходили ходуном; свою речь он сопровождал раскатистым хохотом; он был очень непосредственным человеком; он просто заражал окружающих своим настроением. Чэнь И был тем человеком, который нравился Мао Цзэдуну. В 1970-х годах Мао Цзэдун только один раз принял участие в траурном митинге. Это был митинг на похоронах Чэнь И.
[…] Мао Цзэдун в тех вопросах, когда речь шла о принципиальной борьбе или о борьбе принципов, никогда не шел на уступки; никогда в истории он не успокаивался до тех пор, пока не одерживал верх.
[…] Мао Цзэдун, по сути дела, не имел контактов с товарищами по партии, не говоря, конечно, об отношениях по работе. Только Чэнь И был тут исключением; они встречались и читали друг другу стихи. С другой стороны, у Мао Цзэдуна существовали отношения глубокой личной дружбы со многими видными демократическими деятелями вне партии (то есть вне КПК. – Прим. пер.); встречи их были довольно частыми, однако по работе они встречались не много.
[…] Если уж говорить о моих наблюдениях за те 15 лет, то надо сказать, что наедине с нами, то есть с теми людьми, которые «были подле него», Мао Цзэдун вел себя как совершенно простой обыкновенный человек.
Как-то раз в начале 1950-х годов Мао Цзэдун готовился принять иностранного гостя. Ему должен был вручить верительные грамоты вновь назначенный посол дружественного государства.
В те времена верительные грамоты вручались не так, как это делается в настоящее время, когда их просто передают, и на этом все кончается. В те времена посол сначала должен был прочитать текст документа, а председатель государства, то есть Мао Цзэдун, был обязан стоя выслушивать это. Закончив чтение, посол передавал верительные грамоты; все это выглядело весьма торжественно.
Торжественность предполагала, вполне естественно, множество церемоний. Перед тем как принять посла, Мао Цзэдун должен был предварительно быть чисто выбрит и весь его внешний вид должен был быть безукоризненным. Парикмахер Ван Хой был человеком уже весьма почтенного возраста, совершенно лысым, с седыми усами, худым лицом; он очень походил на старого монаха Фан Чжаня из кинофильма «Монастырь Шаолиньсы». Вот только он в отличие от того монаха носил старомодные очки. Он всю жизнь брил голову, и, помимо того, чтобы еще на протяжении нескольких лет выбривать голову, у него, вероятно, больше уже не могло возникнуть никаких иных непомерных желаний.
Даже надев очки, Ван Хой не преодолевал своей близорукости. Он всегда наклонял голову, вытягивал шею, прищуривал узкие глаза и смотрел то направо, то налево. Он блестяще владел бритвой. Левой рукой он придерживал Мао Цзэдуна за макушку; свое лицо приближал к голове клиента, медленно вытягивал правую руку; лезвие бритвы останавливалось у нижнего края волосяного покрова, казалось, что он угрожает вождю, и так он очень долго оставался без движения; и даже мы не выдерживали; лишь после всего этого он делал первое движение бритвой. Мао Цзэдун взглянул на часы, сказал:
– Ты давай побыстрее.
– Не спеши, не торопись, – Ван Хой, как все очень пожилые люди, любил поворчать и побрюзжать; он переменил место, снова занес бритву над головой Мао Цзэдуна; начал примериваться к волосам на виске Мао Цзэдуна с другой стороны; его рука, державшая бритву, беспрестанно дрожала; и опять он бесконечно долго выжидал, пока, наконец, не сделал второе движение бритвой. Затем он отступил на шаг назад и стал как бы любоваться своим произведением, начал всматриваться и вглядываться, и это тянулось и продолжалось без конца.
– Ну же, мастер Ван, ты не можешь побыстрее?
Мао Цзэдун начал нервничать, заерзал в кресле, но мастер Ван Хой, держа его за макушку и нажимая на нее, остановил его. По-прежнему медленно и слабым голосом сказал:
– Я же просил не нервничать. Не надо торопиться; я тебя не задержу и ладно, да?
Когда с немалыми трудами процесс бритья лица был завершен, Мао Цзэдун рукой вытер лоб; может быть, у него выступил пот? Затем он приподнялся, казалось, что он хотел было встать с кресла, но Ван Хой тут же удержал его голову, нажав на макушку:
– Чего это ты такой неслух? Я же тебе говорил: не нервничай, не волнуйся. Я тебя не задержу…
– Я хочу, чтобы ты действовал чуть побыстрее! – Мао Цзэдун не знал, то ли плакать, то ли смеяться.
– Соберись с духом и слушай меня. Выбрею тебя дочиста, как положено, и тогда пойдешь. – Говоря это, Ван Хой вдруг хлопнул Мао Цзэдуна дважды по затылку рукой, то есть просто-напросто шлепнул его, как это делают с детьми! Мы, присутствовавшие при этой сцене телохранители, буквально остолбенели от поступка этого старого человека!
Мао Цзэдун же не рассердился, а лишь непроизвольно глубоко вздохнул. Ван Хой, со своей стороны, как бы восстановив свой авторитет, сохранив свое лицо, стал подбривать Мао Цзэдуну затылок, одновременно бормоча и «поучая» Мао Цзэдуна:
– Вот ты – председатель государства, а председатель обязан и выглядеть как председатель. Ну а тут уж мое ремесло; если я побрею тебя не хорошо, то люди могут сказать, что Ван Хой никуда уже не годится, тогда конец и авторитету, и славе Ван Хоя… […]
16. Случалось ли Мао Цзэдуну бить своих детей?
Нет. По крайней мере, я не видел такого и не слыхал о таком. Мао Цзэдун принес на алтарь революции китайского народа жизни шести своих родственников. Он поистине до боли любил своих детей, предъявляя к ним суровые требования.
Мао Аньин – это старший сын Мао Цзэдуна. Он вернулся в Яньань после учебы в Советском Союзе. Мао Цзэдун послал ему несколько своих старых залатанных костюмов. Он хотел, чтобы Мао Аньин отправился в деревню поучиться тому, как обрабатывают землю, у передовиков труда в пограничном районе. Вся эта история всем давно и хорошо знакома. А здесь мне хотелось бы рассказать главным образом о том, как протекала жизнь в их семье.
В «Кан да» (то есть в Университете сопротивления Японии. – Прим. пер.) училась некая студентка по фамилии Фу, которая приехала из Бэйпина. Это была очень красивая девушка. Надо отдать справедливость Цзян Цин. Она действительно проявляла все-таки очень большую заботу о старшем сыне Мао Цзэдуна. Когда она увидела эту девушку по фамилии Фу, ей тут же в голову пришла вполне понятная мысль. В воскресенье Цзян Цин пригласила к себе Мао Аньина и эту девушку. Они вместе пообедали и поговорили; весело и в радости провели этот день.
После того как девушка ушла, Цзян Цин спросила Аньина:
– Тебе уже 23—24 года; пора подыскать себе кого-то. Как тебе показалась эта девушка по фамилии Фу?
Мао Аньин покраснел. Яньань – это ведь небольшой город. Да и действительно такие красивые девушки, как эта Фу, встречаются не так-то уж и часто. Чуть запнувшись, Мао Аньин пробормотал:








