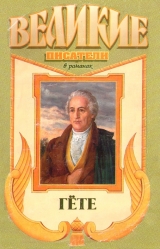
Текст книги "Гёте"
Автор книги: Юрий Нагибин
Соавторы: Жан Мари Карре,Николай Шмелев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Гёте не сомневался в чувстве девушки, да и не было такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейской трезвости и расчёта, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяюшки большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.
И всё-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты – из дружеской преданности к Кестнеру, так это выглядело, на деле – всё из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательства, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи; он и на брак с Кристианой решился после восемнадцати лет совместной жизни, когда погасла страсть и вошёл в возраст сын-бастард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года человек не обманывается в своих чувствах. Благодетельная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, не только душевной, но и физической. «У нас будут дети! – думал он горделиво. – И я уже не упущу их, как упустил бедного Августа».
В Ульрике с её тугими локонами, удлинёнными, широко расставленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с проницательностью мудрой, хотя ещё не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несносен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой пасует просвещённый, систематический ум мужчины.
В Ульрике поражала отзывчивость – на мысль, слово, чувство, прикосновение. Её всё захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда не излагал Гёте с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовала и воодушевила её идея о прарастении, над которой все издевались, – видимо, тут что-то соответствовало её жажде цельности и художественной завершённости мироздания; музыка и стихи слезили ей уголки широко расставленных глаз, а когда Гёте прикасался губами к её ароматной головке, она вздрагивала, прижималась к нему лёгким телом, сжимала отвороты его сюртука и полуоткрытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?
Никогда, даже в расцвете лет, Гёте не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и невыносливые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит своё окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть не смущала Гёте – он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из лёгкого недоверия к г-же Левецов. Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери, но кто поймёт этих мамаш! Может, у неё на примете другой претендент, не уступающий Гёте ни богатством, ни положением, но обладающий – в глазах глупцов – преимуществом молодости; нельзя исключать и чисто бабьего расчёта: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жёны её, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери – с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьёзность намерений «старого ловеласа», каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьёзности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.
Старый бурш, как называл Карла-Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутёвых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюблённостью в красивую, но малоодарённую и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвёл на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлёк к управлению третье сословие; то ссорясь, то мирясь с Гёте, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать «величайшего немца» к Веймару, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это – набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу-Августу, – в отличие от всех немецких князей, он способен быть не мелким.
Гёте хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл-Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удаться? Неужели Пандора не поймёт всех выгод этого брака – и сейчас, и особенно в будущем?..
Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутливо-странный вопрос.
– Я, кажется, спросил вас о чём-то, Фриц?
– Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, – с политичной уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.
– Напрасно, Фриц. Вы живете в моём доме, и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.
– Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.
– Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всём догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.
– Премного благодарен, ваше превосходительство, – поклонился слуга.
Своеобразный демократизм Гёте состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку и уважением – к каждому труженику, если тот знал своё дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, – как тут же становились для Гёте толпой, и он со смаком повторял изречение Аристотеля[225]225
Аристотель (384—322 до н. э.) – древнегреческий мыслитель; сочинения: «Физика», «Метафизика», «Категории», «Этика», «О душе», «Афинская полития», «Аналитики» (первая и вторая), «Политика», «Поэтика», «О возникновении животных», логические произведения, собранные под общим названием «Органон».
[Закрыть]: «Толпа достойна умереть, прежде чем она родилась». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольётся с толпой» презирая её своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин – бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл-Август задерживался.
К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тёзки Шиллера или рассыпался в доверительно-сентиментальных сарказмах Гердера.
– Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! – Гёте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно поражённый величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. – Молодость войдёт в наш дом, Фриц! – неискренним – от раздражения – тоном продолжал Гёте. – Нам обоим придётся помолодеть.
– Ваше превосходительство и так хоть куда! – отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. – А мне поздновато.
– Что вы мелете? – вскинулся Гёте. – Вы же моложе меня на шесть лет.
– Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счёт времени.
– Что это значит, Фриц? – серьёзно спросил Гёте, поражённый замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.
Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверясь странной несущей силе, продолжал, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия:
– Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время – не абсолютная категория, ваше превосходительство.
«Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении», – с досадой подумал Гёте.
– Как можете вы всё это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости?
«А и верно, где? – удивился Фридрих. – Черт его знает, что лезет в башку! Надо подтянуться. Не хватало ещё слуге наставлять господина. Такого господина!.. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош – зачем принуждать подневольного человека к неподобающим рассуждениям?» У каждого свои обязанности, его, Фридриха, дело – чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть. Иначе пытка доверием до добра не доведёт.
Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто, недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унёсся ввысь и потерялся там, а широкая белая кисть Гёте дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший: пошёл вон!
Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого избавителя, но и чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдавшиеся.
А Гёте видел Ульрику. Видел так Ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться её рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовой просвечивающей мочки. Он видел чёрные точечки в кобальтовых радужках, ямку в уголке губ, приютившую порошину тёмной родинки; двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убегала за обшитый кружевами корсаж. Жаркое лёгкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шёлковую ткань на груди, и он застонал, потому что благость облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить её с другими, кто промелькнул прежде в его жизни, точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюблённости. Да, всего лишь влюблённости, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном – творческой силе и даре любви.
– Его королевское высочество!.. – Голос Фридриха, грубо ворвавшись в очарованную тишину, будто подавился самим собой, – знать, принц оттолкнул слугу от двери.
– Я никудышный сват! – вскричал Карл-Август, – Напрасно вы доверились мне.
Гёте поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками и не понял смысла сказанного.
– Простите, ваше королевское высочество...
– Ох, старина, хоть бы в такую минуту – без китайских церемоний! – с досадой сказал Карл-Август.
Его раздражал принятый Гёте с некоторых пор обычай величать его этим пышным титулом; мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней короткости, но старый упрямец неизменно отталкивал его от себя.
– Слушаюсь, ваше королевское высочество...
– Несносный старик! – в сердцах сказал Карл-Август. – Так получайте: вам отказали.
– Что это значит? – отшатнулся Гёте.
Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее величавое ещё миг назад, прекрасное лицо, и впервые по-человечески пожалел Гёте.
– Пандора открыла свой ящик... Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерёшься, но гады выпущены на волю. А если без иносказаний – мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца. Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.
– Но Ульрика?.. Почему не спросили её?
Карл-Август колебался. Он думал, что Гёте примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой в общем-то унизительной истории. Он отошёл к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты «Турецкого марша» Моцарта.
– Я не знаю, – он говорил, стоя спиной к Гёте, – было ли у них отрепетировано заранее или старая Левецов решилась на экспромт. Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилось для неё неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре – она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику.
– И Ульрика?..
– Сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу.
– Но это неправда!..
– Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика – мягкий воск... Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что её привязывает к вам совсем не дочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьёз поверила, что дарила вам лишь детские поцелуи. Ульрика совсем не бунтарка, её очарование – в готовности принять любую форму. Этим она вас и прельстила. Но авторитет матери выше. Поймите это и смиритесь. Господи, да что, на ней свет клином сошёлся? Кругом столько красоток!..
Гёте не отвечал, и Карл-Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся, но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо величавого вельможи перед ним был согбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором.
– Боже мой!.. Что с вами? – вскричал поражённый Карл-Август. – Нельзя же разваливаться из-за юбчонки! Да будьте мужчиной, черт побери! Вы испытаны в страстях, как оперная дива, возьмите себя в руки!..
Гёте молчал.
«Похитить Ульрику и обвенчать их тайно? – пронеслось в голове старого бурша. – А хрычовку мать припугнуть, чтобы не подымала шума. Да не пойдёт на это наш поэт. А жаль!..»
– Может, тряхнём стариной? – предложил Карл-Август, – Помните, как мы повесничали в старое доброе время? Плюнем на этот тухлый Мариенбад и махнём в Вену. Инкогнито.
– Вы очень добры, ваше королевское высочество, – послышался тихий, но уже окрепший голос. – Примите мою глубочайшую благодарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь неловкой просьбой, но я должен сам объясниться с Ульрикой.
«Он будет жить! – восхитился Карл-Август. – Это железный старик!»
...Восемь дней осаждал Гёте Ульрику Левецов, и лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмышлёныша. Он укротил чувство и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие: подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезность и даже необходимость брака с семидесятичетырёхлетним стариком. Изощряясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую и смекалистую головку мысль о тщете, безнадёжности сопротивления избирательному сродству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного им ума, вдохновения и волевого напора хватило бы, чтобы закончить вторую часть «Фауста», растянувшегося на всю его жизнь, но великое, изощрённейшее витийство разбивалось о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой юность.
Впрочем, Гёте казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо всё, кроме одного – что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть. Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Он отнюдь не преуменьшал влияния Пандоры; у неё были преимущества места – всегда рядом с дочерью, – пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилен ум. Ну, а сила личности, а гениальность?.. И он стал гениален, отдав этой девочке больше, чем всему «Западно-восточному дивану», но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается её отзывчивая душа. Что-то намертво развело их. Что?.. Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящика таких гадов, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный Август и далеко не кроткая Оттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправданна. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо: я возьму в руки кнут и усмирю их. Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики. Может, объясниться с Пандорой, развеять её материнское беспокойство, дать какие-то гарантии? Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора? Да будь дело только в его семейных сложностях, практичная г-жа Левецов давно бы навела разговор на волнующие её обстоятельства, но она и не подумала этого сделать. Нет, она просто не хочет его для своей дочери, и всё тут! Осилить её можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная, она утратила свою горячность и непосредственность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Даже позволяя порой увлечь себя мыслью, образом, полётом воображения, она всё время оставалась начеку. Когда же ему изменяла выдержка и он не мог сдержать гневной боли, она остужала его чужими, заученными словами:
– Не надо сердиться. Будьте моим добрым, мудрым другом.
И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугой комок сердцу...
Прощаясь с Ульрикой перед отъездом – карета ожидала его у дверей, – Гёте заметил промельк смятения в кобальтовых с чёрными крапинками глазах: пусть на мгновение, но тайная душа её проговорилась о чём-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал:
– Если б вы были только красивы, только очаровательны и по-женски умны, Ульрика!.. Я был бы спокоен за ваше будущее. Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы ещё сами не понимаете этого, но, когда поймёте, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя моё. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте, мы никогда больше не увидимся.
Ульрике было грустно расставаться с Гёте; до чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень, очень близкого друга! – ей так нравилось целовать тёмные огненные глаза, заставлявшие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и, хотя у неё хватило вкуса, такта и снисхождения промолчать, даже потупиться с печальной покорностью: мол, что поделаешь, раз такова моя участь, – в душе она посмеялась над пророчеством Гёте, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа-аптекаря, ни о байроническом гофрате из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному, элегантному гёттингенскому студенту...
Чуть приоткрыв занавеску, Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезножевшего господина.
– Бедный, бедный дедушка!.. – вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала.
...Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомлённым членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гёте и не думал дёргать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха.
Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пище телесной, и г-н тайный советник в своём теперешнем состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблён/ ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку саднило, а голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с калёным лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нём не найдёшь союзника. Надо полагать, что и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понёс любовного поражения, но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление г-на тайного советника! Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбиваясь с ходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но, когда он по-настоящему пустит его в дело, лошади наверняка взбунтуются.
Фридрих вообразил себя лошадью, уже восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъёмов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает на уши, он ощутил напряжение в паху и подмышках, ломоту в крестце, услышал, как ёкает в брюхе селезёнка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками, – проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жёсткими ресницами; ягодицы ему натёрла шлея, он ёрзал, чтобы утишить резь; огромный, шершавый, закоженевший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу... Тут кучер, видать, дёрнул вожжу. Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дёргают за мизинец. Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и чёрными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом.
– Стой! – гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козел.
Он оступился, подвернув ногу; прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась и г-н тайный советник молодо спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь, на его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломлённости. Только с г-ном Гёте возможны подобные превращения: его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится, тому понадобилось заключить сделку с нечистым, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь её изжить, – г-н тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно фениксу, из пламени внутренних сил.
Бодрый, свежий, словно не испытавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаявшийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице, на ходу отдавая распоряжения:
– Устройте нам вкусный ужин, Фриц. На закуску два десятка устриц. Проследите, чтобы подали свежайшие. И холодный мозельвейн. – Затем секретарю: – Вы взяли свои письменные принадлежности?.. Отлично! Мы пройдём в гостиную и кое-что запишем. Фриц, велите подать туда по кружке светлого. И сухих вяленых рыбок.
Позже, когда Фридрих пришёл доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так нравившимся г-ну Гёте, только что записанные под диктовку стихи, сочинённые, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго не делали привала.
.......................
Там у ворот она меня встречала
И по ступенькам шатким в дом вводила.
Невинным поцелуем провожала,
Вдруг кинувшись вдогон, иной дарила
И образ тот в движенье, в смене вечной
Огнём начертан в глубине сердечной...
Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала.
– Любопытно, – сказал Гёте секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза. – Возраст всё-таки чего-то стоит. В юности понадобился «Вертер», чтобы уцелеть, сейчас обошлось одним стихотворением.
...Ульрика Левецов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений, она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо её удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гёте сбылось – она так никогда и не вышла замуж; на могильной плите почти столетней старухи было выбито; «Фрейлейн Левецов». В женихах не было недостатка, иным удалось затронуть её сердце, другим – разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажить естественной и полноценной женской жизнью. Но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память о старике с огненными глазами, но кто это знает?..








