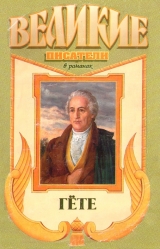
Текст книги "Гёте"
Автор книги: Юрий Нагибин
Соавторы: Жан Мари Карре,Николай Шмелев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Печаль сжимала его сердце. Никогда он не был слишком решительным человеком, никогда он не был узколобым, твёрдым, фанатичным преследователем одной какой-либо цели. И сейчас, когда неотвратимость выбора стала очевидной для него, он растерялся... Ах, как хорошо было утром, когда душа его была раскрыта солнцу, птицам, тихому лесному ветерку! Когда он так верил в себя и в свою звезду, когда он столь ясно ощущал своё Богом данное превосходство над всеми этими мелкими, ничтожными людишками, которые только мельтешили и путались у него под ногами! Какими жалкими, какими убогими представлялись ему ещё утром его противники... И каким умелым, мужественным, стойким политиком, каким мудрым и многоопытным государственным деятелем казался он сам себе... Всё, всё пошло прахом. Всё... Ну что ж! Если они хотят возврата к средневековью – пусть. Пусть! Но только без него. Да, он решился на выбор. Этот выбор ему подсказывает его совесть, его политическое чутьё, его безошибочное понимание блага государства и неизбежности движения общества по пути прогресса и справедливости. Не свирепостью, а милосердием воспитываются человеческие сердца! И не кнутом, не петлёй и топором, а разумным общественным устроением создаются порядок и сознательная гражданская дисциплина... Они отказываются это понимать? Тем хуже для них. Они дождутся своего... Они своего дождутся! Но тогда уже поздно будет воздевать руки к небу, поздно будет молить Создателя о прощении и снисхождении.
«Кровь... – думал он. – Я знаю, впереди только кровь. Потоки, моря, океаны крови, если они не спохватятся сейчас, пока ещё не поздно. Если они сами, по доброй воле не сделают того, что в противном случае вырвут у них силой. Не понимаете? Не чувствуете, что нависло над вами и над вашими ближайшими потомками? О, тупость человеческая! И худший её вид – немецкая тупость! Прощайте, господа. Я, как Понтий Пилат[211]211
Понтий Пилат – римский прокуратор (наместник) Иудеи в 26—36 гг.; утвердил смертный приговор Иисусу Христу, при этом, символически умыв руки, заявил, что не он, а иудейские жрецы хотят этой смерти (отсюда выражение: «Умыл руки, как Понтий Пилат»).
[Закрыть], умываю руки. Видит Бог, как я хотел, чтобы наше маленькое государство первым в Европе тихо и плавно, без судорог и страданий двинулось вперёд по пути прогресса. Хотел? Да, хотел. И хочу. И всё ещё хочу! И не хочу признавать себя побеждённым! Не хочу!.. Столько уже сделано, столько вложено в это ума и сил, и вдруг, ни с того ни с сего, на ровном месте – бах-трах-тарарах, и всё к чертям собачьим? Почему? По какому праву? И действительно, если подумать – ради чего? Господи, научи, Господи, помоги! Ты видишь, я изнемог... Крушение всех моих надежд, всех моих трудов, позор, улюлюканье, свист, презрение толпы – и ради чего? О Господи, ради чего?.. А там – дороги Европы, постоялые дворы, смиренное, унизительное сидение в приёмных владетельных особ, безденежье, неприкаянность, тоска... И получается, что меня, Гёте, подловили, загнали в ловушку – и кто? Какие-то крысы, какие-то канцелярские крючки! И на чём подловили? О Господи – на чём?! Как последнего дурака, как последнего раззяву на ярмарочной площади! Замотали, задурили, обчистили, вывернули карманы – и пожалуйста, господин великий поэт, пожалуйста, ваше превосходительство, господин премьер-министр: можете отправляться на все четыре стороны, отныне нам с вами не по пути!.. И я собираюсь это проглотить?!
Ах, нет! Не домой... Только не домой... Сейчас нельзя домой... Нельзя в этот устоявшийся годами комфорт, тишину, уют, уединение, где одного только взгляда на гравюры старых мастеров по стенам или на письменный стол у окна будет достаточно, чтобы лишить себя всякой воли к сопротивлению... Ну-ка, лошадка, сворачивай с дороги в лес! И давай труси куда глаза глядят, по ложбинам, по полянкам, по не топтанной никем траве, подальше от этого кишмя кишащего людского муравейника, в котором всеобщее благо может быть куплено только ценой ежеминутной, ежесекундной гибели не одного, так другого, не другого, так третьего из миллионов маленьких его обитателей... Господи! Творец всего сущего на земле! Так будет ли когда-нибудь найден ответ: как примирить суровую необходимость природы, интересы выживания и благо всего человеческого рода с интересами одного-единственного человека, безвинного в своём рождении и так же, как и общество, получившего от Тебя своё право на жизнь? Почему «или – или»? Неужели нет такого способа жить, чтобы тяжкое, безжалостное колесо общественной необходимости не давило бы в прах при каждом своём обороте сотни, тысячи, миллионы ни в чём не повинных существ, не успевших вовремя увернуться от него?.. Я могу объяснить любые войны, любые общественные катаклизмы. Я не могу объяснить только одного: за что убит вот этот солдат, за что сожжено вот это подворье и за что будет болтаться завтра на виселице эта деревенская дура, наверняка даже и не понимавшая, что творит?.. О, как болит душа, как тупо, вяло, тяжело ворочаются в голове мысли... И как же страшно сознавать, что ни мне, ни кому другому никогда не найти ответа на этот вопрос – может быть, главный вопрос».
Под одним из старых, широко раскинувшихся дубов он соскочил с лошади и в изнеможении бросился на траву. Покой и тишина леса охватили его. Солнце поблескивало сквозь листву, пересвистывались птицы, мохнатые пчёлы с тяжким гуденьем кружились над каким-то длинным цветком, торчавшим у самого его лица... Лошадь, постояв немного в раздумье и, видимо, сообразив, что это надолго, потихоньку отошла от него к другому краю поляны, где трава была погуще и посвежей. Вытянувшись в рост, он медленно, всё ещё чувствуя лёгкий хмель в голове, начал погружаться в забытье... Ах, как хорошо было бы лежать так и лежать до скончания всех времён, смотреть сквозь надвигающуюся дрёму на тонкие лезвия травинок, на жёлуди, прячущиеся в сухих листьях, на каких-то крошечных козявок, копошащихся внизу, под каждым стебельком. Лежать так и лежать, никому не делая зла и не отвечая ни за что...
«Но возможно ли это? – думал он. – Возможно ли прожить жизнь, никому не делая зла? Даже доброму, благожелательному человеку, не питающему злобы ни к кому?.. Не знаю... Думаю, что нет, невозможно. Мне, по крайней мере, не удалось... Гретхен, Фридерика Брион, Лили Шёнеман... Как ни зажмуривайся, а они всегда, до самого конца будут лежать тяжким бременем на моей душе. А были ещё, вероятно, и другие, мелкие, неявные грехи и жестокости, которых я даже и не замечал, когда они совершались, но которые тем не менее тоже записаны там где-то на мой счёт... Конечно, у меня всегда были серьёзные оправдания, этого тоже нельзя не учитывать... Скажем, если я бежал от Фридерики, то вовсе не потому, что я по натуре жесток и неблагодарен, а потому, что, останься я с ней, – и не было бы сегодня ни поэта Гёте, ни премьер-министра Гёте. То есть не было бы того, к чему меня предназначило Провидение и чему я сопротивляться был не вправе, даже если у меня хватило бы на это решимости и душевных сил... Но, однако, факт остаётся фактом: бедная девочка так и осталась без меня одна и, я уверен, так и останется одна до конца своих дней. И получается, что и здесь, в малом, всё точно так же, как и в большом! Чтобы людям было лучше, чтобы я мог совершить то, к чему меня уготовила судьба, кто-то один – и даже не один – должен быть несчастлив, должен быть раздавлен в прах, и винить в этом некого, потому что иначе и не могло быть. О Господи... Ты же знаешь! Ты же знаешь, что я не злой, не жестокий человек, что я пытаюсь в меру своих сил и возможностей делать добро людям! И не потому, что Ты или люди смотрят на меня, а потому, что такова моя природа, таково моё сердце, таков строй всех моих размышлений с тех пор, как я помню самого себя. Не Твоё одобрение и не одобрение людей движут мной. Мною движет моё «я»... Моё собственное «я»... Кто, к примеру, знает о Крафте[212]212
Крафт Иоганн Фридрих (имя не подлинное и кто он – никто не знал; ум. в 1785 г.) – подопечный Гёте, в 1778 г. обратился к нему за помощью, жил в Ильменау, был образован и сведущ в экономике.
[Закрыть]? Кто? Никто. Даже Кнебель, даже Шарлотта – и те не знают о нём ничего. А это не единственное доброе моё дело на земле и, я надеюсь, далеко не последнее...
Но если... Но если мне придётся в скором времени убираться отсюда? Или, что ещё хуже, если я превращусь в простого прихлебателя, бессильного приживала, которого лишь из милости терпят при дворе? О каких тогда сравнениях и сопоставлениях вообще может идти речь? На каких весах мне тогда взвешивать добро и зло, совершённые мной? Здесь, в моём сегодняшнем положении, одно, по крайней мере, бесспорно и очевидно: на одной чаше весов всё то доброе, что я делаю и уже сделал и что я ещё смогу сделать как премьер-министр, на другой – одна деревенская дура, имевшая несчастье попасть под колеса государственной машины. К тому же по всем законам отнюдь не безвинная... И какая из этих двух чаш перевесит другую – сомневаться не приходится... Но... Но всё дело, однако, в том, что всякое такое взвешивание нужно лишь для оправдания себя в глазах других. Для самого себя взвешивать бесполезно – перед собой не оправдаешься. Так же, как я никогда не смогу забыть и простить себе Гретхен, или Фридерику, или Лили, я никогда не смогу простить себе и эту дуру, если её в конце концов вздёрнут на виселице... Ах ты, Господи... Какой я несчастный, какой же я нескладный человек! Всё не так. Всё!
Несчастный? А почему, собственно говоря, вы вообще решили, что вы должны быть счастливы, господин великий поэт? Почему вы вообще решили, что вы будете единственным счастливым исключением из общего правила? Кто вообще из истинных художников прожил счастливую, неизломанную, негонимую жизнь? Чья жизнь из них была не жертва?.. Марк Аврелий[213]213
Марк Аврелий Антонин (121—180) – римский император в 161—180 гг., философ-моралист, вёл войны с парфянами, маркоманами, квадами, сарматами, автор произведения «К самому себе», в котором развивал положения стоицизма.
[Закрыть]? Он был императором. Монтень[214]214
Монтень Мишель де (1533—1592) – французский философ, гуманист; в своих «Опытах» (1580) развил систему скептицизма, эта книга была запрещена Людовиком XIV (1670) и Папой (1676).
[Закрыть]? У него был свой замок. Да и то запереться ему в нём удалось лишь на склоне лет... Кто ещё? Шекспир? Ну, уж тут-то позвольте вам и вовсе не поверить. Я знаю жизнь театра не понаслышке, а изнутри, и там, я утверждаю, нет и не может быть счастливых и независимых людей... Так, может быть, дело вообще не в этом проклятом указе, а в том, что пришла твоя очередь, господин великий поэт? И жертва теперь – это ты? Откуда вообще взялась эта твоя уверенность, что именно ты, Гёте, и будешь в мировой истории тем единственным, которому позволено всё и удалось все: власть, стихи, науки, слава, добро, достоинство и независимость, материальный достаток и всеобщие симпатии, любовь самых красивых, самых очаровательных женщин – и всё это почти задаром, без издержек, без уступок дьяволу, который тоже имеет право на свою долю и в мировых делах, и в человеческой судьбе? Кто дал тебе такие гарантии? Кто? Никто. Никто их тебе никогда не давал и не может дать... Что ж... Раз так... Собирай свою котомочку, поэт! По всей видимости, настал наконец и твой черёд...»
Что-то мягкое и тёплое вдруг ткнулось ему в плечо, и кто-то очень, видимо, большой тяжко вздохнул у него над ухом. Он вздрогнул, но сейчас же улыбнулся своему испугу. Это была лошадь, которой, наверное, наскучило щипать траву в одиночестве или просто захотелось проведать своего хозяина, слишком уж долго лежавшего в полной неподвижности на земле. Перевернувшись, он сел и прислонился спиной к дубу. Лошадиная морда, пожёвывая губами, мерно покачивалась у его лица, и её добрые, влажно блестевшие из-под чёлки глаза сочувственно смотрели на него: дескать, что ж ты так раскис, поэт? А? Повалился на траву, сжался весь, голова в плечи... Подумаешь! Было бы из-за чего... Солнце светит, птицы щебечут, лес стоит, и жизнь продолжается, и ты молод, ты здоров... Как-нибудь всё уладится, поэт, всё образуется само собой! А может быть, и все страхи твои напрасны, и опять, в который раз, прав будешь ты, а не они. Слишком много ты значил и значишь для герцога. И слишком всё-таки необычна твоя судьба, чтобы переломил её такой, по совести говоря, пустяк... Да-да, если здраво рассудить – пустяк, совершеннейший пустяк...
V
– Ваше превосходительство, вас ожидают. Уже часа два, не меньше, – сказал, принимая поводья, Филипп, когда он ловко соскочил с взмыленной лошади, ещё и вздыбив её напоследок у самого крыльца.
– Ожидают? Кто? И зачем? – Лицо Гёте выразило досаду: день уже кончался, и он надеялся, что уж теперь-то о нём забудут, хотя бы до завтрашнего утра. Ну, а завтра... Завтра, что называется, как Бог даст. Завтра увидим, что там будет и как... А славно, однако, они погоняли по полям, по лесам! Добрая лошадка, хорошая лошадка... Проклятый репейник! Не забыть бы сказать Филиппу, чтобы расчесал ей гриву и хвост...
– Я незнаком с этим господином. Он представился как господин Крафт и сказал, что, услышав его имя, вы непременно примете его... Он утверждает, что его визит должен представить для вас некоторый интерес. Я проводил его в гостиную.
– Крафт? Крафт... Ну что ж! Ничего не поделаешь. Крафт так Крафт. Не гнать же его. Займитесь лошадью, Филипп. И не забудьте почистить её. Мне она сегодня больше уже не понадобится...
При его появлении в гостиной с кресла, стоявшего в углу у изразцовой печки, поднялся худой сгорбленный человек неопределённых лет с измождённым, землистого цвета лицом и длинным носом, уныло свисавшим над глубоко запавшим ртом. Он был без парика, в очках, в наглухо застёгнутом поношенном сюртуке, из-под которого у шеи и на запястьях выглядывало подозрительного вида бельё. Свои длинные руки он держал прямо перед собой, не зная, видимо, куда их деть, и сцепив узловатые скрюченные пальцы внизу, у самых колен. От гостя пахло табаком и тем не передаваемым никакими словами запахом заброшенности и запустения, каким всегда пахнут старые холостяки, привыкшие прятаться от людей, но всё же вынужденные иногда по каким-то обстоятельствам вылезать из своего убежища на Божий свет.
Несмотря на робость, согбенные плечи и потрёпанную одежду, было, однако, очевидно, что гость знавал когда-то и лучшие времена. Это ощущение подтверждали и его глаза, в которых светился живой, быстрый ум, и остатки достоинства в движениях, и его постоянная, еле заметная усмешка, если и не презрительная, то, во всяком случае, достаточно двусмысленная, чтобы заподозрить её обладателя в весьма высоком мнении о себе и отнюдь не лестном – об остальной части человечества. Из кармана его сюртука торчала подзорная труба – вещь, несомненно, тоже не очень обычная для жителя тихих саксонских долин.
– Господин Крафт? Вот мы и встретились наконец, – сказал, подавая ему руку, Гёте.
Гость отступил шаг назад и, согнувшись в глубоком поклоне, попытался не пожать протянутую руку, а притянуть её к губам. Гёте сейчас же резким жестом отдёрнул ладонь назад.
– А вот этого делать не надо, господин Крафт... Мы ведь с вами пусть и по переписке, но старые друзья. Такие несуразности ни вам, ни мне не к лицу.
Глубокие, будто вырезанные ножом морщины на лбу гостя разгладились, в глазах его блеснули слёзы благодарности; он выпрямился и, вытащив из кармана сложенный вчетверо платок, свирепо высморкался в него. Всё, видимо, оказалось иначе, чем он ожидал, и теперь он был несказанно рад тому, что его благодетель и покровитель с самого начала вновь утвердил его в человеческом звании, совершенно ясно дав понять, что никак не намерен унижать его и тем более тыкать ему в лицо полнейшей зависимостью от его, покровителя, благосклонности. А между тем так оно, в сущности, и было: жизнь и смерть господина Крафта действительно в буквальном смысле этого слова зависели от Гёте. Вот уже около четырёх лет Крафт, не имея за душой ни гроша, жил целиком за счёт его регулярных субсидий, и, прекрати Гёте поддерживать жизнь этого странного, никому не нужного человека, у него оставалось бы только два выхода: либо в петлю, либо с протянутой рукой по большим и малым дорогам Германии, пока его не схватят где-нибудь за бродяжничество„и не упекут в тюрьму. Никакую обычную работу в силу своего душевного и физического состояния Крафт делать не мог, а если бы даже и мог, то всё равно бы не стал. Почему? Ну, это уж, как говорится, другой разговор...
– Ваше превосходительство, будьте снисходительны. Я сейчас плохо соображаю от счастья. Мечта всех последних лет моей жизни сбылась! Наконец-то я вижу вас воочию и могу сам, не прибегая к перу и бумаге, засвидетельствовать вам свою смиренную признательность за все ваши благодеяния по отношению ко мне... Вы спасли мне жизнь, ваше превосходительство, вы вернули мне надежду, вы заставили меня вновь поверить в Бога и людей. О, если бы вы знали, ваше превосходительство, из какой бездны отчаяния, из каких адских глубин безнадёжности вы вызволили меня!.. Я давно мечтал, я давно стремился сюда, чтобы припасть к вашим стопам и выразить вам всё, что я изо дня в день, из ночи в ночь повторял все эти годы в своих молитвах. И все эти годы я не мог преодолеть свой страх, я не решался показаться вам на глаза, потому что я боялся разочаровать вас, огорчить вас своей никчёмностью, своим нелепым видом, своими манерами сумасшедшего. Да-да, ваше превосходительство, не надо, не оспаривайте меня! Я-то знаю, кто я, и знаю свою истинную цену в жизни. И я знаю, что, если бы не ваше великодушие, если бы не ваша щедрость, достойные первых апостолов и первых мучеников во имя Господа нашего Иисуса Христа, я бы погиб. Погиб окончательно и бесповоротно... Люди заклевали бы меня до смерти, как гадкого, безобразного утёнка, затесавшегося в стаю лебедей... Я жалок, ваше превосходительство, я болен, я ем, сплю, хожу не так, как другие, я думаю не так, как другие. И мир, боясь заразы, вправе исторгнуть меня, вправе растоптать меня в прах... И если бы не вы, так бы оно, наверное, и было ещё четыре года назад. А вместе со мной, несомненно, погибла бы и моя маменька, моя голубка, единственное существо на земле, кому я ещё дорог и нужен... Я боялся, ваше превосходительство, я очень боялся. Но я решился! Да-да, ваше превосходительство, я наконец решился! Если всё герцогство, вся Германия будут завтра праздновать день рождения своего величайшего поэта и величайшего государственного деятеля, почему же самому ничтожному, самому несчастному из всех облагодетельствованных им людей нельзя хоть на мгновение прикоснуться к той руке, под защитой которой он смог укрыться от беспощадной судьбы, от всех дьявольских сил этого мира, ополчившихся на него? И я ещё вчера вышел из Ильменау, я шёл весь день, всю ночь и опять день, и вот, как видите, я здесь! Простите, ваше превосходительство, за это вторжение, но я льщу себя надеждой, что ваша благосклонность...
– Хорошо, хорошо, господин Крафт. Благодарю вас за ваше посещение и ваши поздравления. А теперь расскажите мне, как вы там живете, как ваши дела? Что нового в вашей жизни? Кстати, как там чувствует себя мой подопечный, юный Петер Баумгартен[215]215
...юный Петер Баумгартен. – Петер из Баумгартена (род. в 1766 г.) – подопечный Гёте; мальчик из Швейцарии, воспитанник барона фон Линдау, убежал из интерната, в 1777 г. появился в доме Гёте в Веймаре, прожил два года, был отправлен в Ильменау, бездельничал; в 1793 г. исчез бесследно, оставив жену и шестерых детей.
[Закрыть]? Он очень дорог мне, господин Крафт. Удаётся ли вам чем-нибудь помочь ему?
– О, это прекрасный мальчик, ваше превосходительство, это превосходный мальчик! Вернее, не мальчик, а уже почти юноша... Ваш воспитанник здоров, бодр и весел и, по-моему, благодаря вашей отеческой заботе уже достаточно крепко стоит на ногах. Думаю, что скоро его уже можно будет отдать в учение какому-нибудь серьёзному ремеслу. Мальчик, например, вполне может стать художником. Он великолепно рисует... Что же касается меня, то вряд ли я сумел оправдать ваши надежды, ваше превосходительство. Чему я мог научить его? Немножко фехтовать и немножко стрелять из пистолета? Отличать компас от барометра и барометр от стенных часов? Десятку-другому английских или французских фраз?..
– Ну, это как посмотреть, господин Крафт. И это уже немало, если это вам удалось.
– Ах, ваше превосходительство... Вы так всегда добры ... Ну, чему, скажите, серьёзному и нужному может научить юношу, вступающего в жизнь, бывший моряк, бывший ландскнехт, бывший бродяга и авантюрист, сам потерпевший крушение в жизненном море и выброшенный, как рыба на песок, подыхать? Солдат наёмной ганноверской армии, целых два года огнём и мечом опустошавший города и селения Америки, может хорошо научить только одному – убивать... Даже чувству ужаса перед убийством он не может научить, потому что просто так, умом, такие вещи понять и воспринять невозможно никому... Боже мой, Боже мой... Сколько уже лет прошло, а весь этот ужас так и стоит у меня перед глазами! И днём и ночью... И опять, как тогда, я готов бросить всё и бежать, спасаться, прятаться, дезертировать... Только теперь уже куда? И от кого?
– Мальчик вспоминает меня, господин Крафт?
– Каждый день, каждую нашу встречу, ваше превосходительство! Он очень привязан к вам... У мальчика доброе сердце, ваше превосходительство, и это сердце, смею вас уверить, целиком и безраздельно принадлежит вам.
– Я очень любил его покойного отца. Он был мой друг. Берегите мальчика, господин Крафт. Это как раз тот пункт, где и ваши интересы, и мои совпадают полностью. И моя совесть спокойна, и вы таким образом честно отрабатываете свой хлеб...
– Ваше превосходительство! Да неужели я не понимаю? Я ещё не настолько лишился рассудка, чтобы не понимать, насколько это важно для меня. Я был студент, я был моряк, я был офицер. Потом я был дезертир, преступник, гонимый, нищий, презираемый всеми изгой... К тому же повредившийся в уме, боявшийся всех и вся и выползавший из своего убежища, как крыса, только по ночам... Боже мой! Так я теперь хоть на улицу не боюсь выходить, не боюсь в лавку зайти, в трактир! Не боюсь смотреть людям в глаза!.. С тех пор как стало известно, что я являюсь в какой-то мере наставником вашего воспитанника, что вы, именно вы покровительствуете мне...
– А это стало всё-таки известно, господин Крафт?
– Не по моей вине, ваше превосходительство! Ради Бога не подумайте – не по моей вине... Клянусь, я свято соблюдал данное вам слово. Но, может быть, Петер кому-нибудь сказал. Или, может быть, почтмейстер догадался наконец, от кого поступают все эти щедрые дары на моё имя. А это очень плохо, ваше превосходительство, – эта огласка? Это очень вредит вам, да? Скажите только – и, если надо, я исчезну. Одно ваше слово – и я опять исчезну, и ни вы, ни кто другой из жителей герцогства Саксен-Веймарского никогда больше не услышит обо мне.
– Ах, да разве дело в огласке? Разве в этом дело, мой друг?
Гость, не зная, что ответить, замолчал, робко и встревоженно глядя на него из-под очков и опять вобрав голову в плечи, как будто в ожидании немедленного возмездия за свою неосторожность. Гёте отвернулся от него и принялся ходить из угла в угол. Да, так, значит, дело не в огласке, господин Иоганн Вольфганг фон Гёте? Не в этом, господин премьер-министр? А в чём же тогда, позвольте вас спросить? Нет, Вольфганг, не обманывай себя – в этом, именно в этом. В той сверхгордыне, в тех претензиях на сверхвеличие, которым этот бедняга Крафт не дал проявиться так, как ты того хотел. Ведь ты хотел, ты очень хотел, чтобы никто не знал о его существовании и о твоём участии в его судьбе? Почему? Разве человек должен стыдиться своих добрых дел? И разве люди не должны знать о них хотя бы затем, чтобы иметь перед собой пример, достойный подражания, пример, который нет-нет да и подтолкнёт иной раз кого-нибудь из них протянуть руку помощи ближнему? Так почему же тогда это твоё желание сохранить всё в тайне и это разочарование, что тайна в конце концов обнаружилась? Почему? А потому, господин великий поэт, что в своём безотчётном презрении к людям ты хотел, чтобы это доброе дело было лишь делом между тобой и Богом... Минуя «всю эту дрянь, что на земле живёт». Между твоим бессмертным «я» и его всевидящим, всезнающим оком... И значит, уже с самого начала этот твой порыв был порождён не человечностью, не бесхитростной любовью и состраданием к ближнему, а твоим высокоумием, твоим стремлением встать над миром и человеческим судом... А с другой стороны, не преувеличивай, Вольфганг! Не будь педантом. Какая в действительности разница, чем был продиктован этот твой порыв – умом или сердцем, гордыней или искренним состраданием? Результат налицо: этот бедняга жив и, наверное, проживёт ещё немало лет благодаря твоей помощи. А что двигало тобой, то или это, кому какое дело, в конце-то концов? Да и не всё так на самом деле просто, если подумать... Кто может отделить высокий ум от искреннего сострадания? И можно ли их вообще отделить? И разве не было в твоей жизни поступков, когда ничто, кроме прямодушия, кроме простого и бесхитростного сочувствия к людям, не двигало тобой? Было, и немало было. Тот же Петер Баумгартен, если уж на то пошло...
– Как продвигается ваша автобиография, господин Крафт? Судя по вашим письмам, это, наверное, теперь главное дело вашей жизни. Так? Или не так?
– И так и не так, ваше превосходительство... Не сама автобиография, а одна, но очень важная мысль, которую я намерен вложить в неё. Эта мысль и есть теперь моё главное дело в жизни. Признаюсь, я не такого уж высокого мнения о себе, чтобы считать, что моя особа как таковая может представить какой-либо значительный интерес для человечества. Если бы речь шла только обо мне, о событиях моей незадавшейся жизни – о, я, наверное, предпочёл бы умереть в ничтожестве и неизвестности, чем таким трудным, таким мучительным путём пытаться привлечь внимание людей к своей персоне!.. Но дело не во мне, ваше превосходительство. Дело в том выводе, который я извлёк из всех ужасов и страданий моей жизни. Нет ничего, ваше превосходительство, страшнее убийства на войне, нет ничего ужасней и нелепей этой бессмысленной бойни, в которой люди убивают друг друга неизвестно за что. Не будучи даже знакомы друг с другом и не имея никаких личных причин убивать своего противника. Нет, не своего противника, а своего собрата по несчастью. И нет ничего другого в мире, в чём бы люди были бы так виноваты – виноваты сами, по своей собственной глупости и слепоте, без всякого вмешательства в их дела каких-либо высших сил. Кто-то же должен, ваше превосходительство, сказать наконец об этом людям? Конечно, я сознаю, что многие до меня уже пытались это говорить. Но кто услышал их голос? Чьи воспалённые мозги им удалось образумить? Чьи окаменевшие сердца им удалось смягчить? Все, кто писал об этом, кто проповедовал это в церквах и на площадях, – все, все потерпели неудачу. Почему? Мне кажется, я знаю почему. Потому, что они не сумели найти тех слов, которые заставили бы людей опомниться и ужаснуться тому, что они творят. Ах, ваше превосходительство... Никто лучше меня не знает, что такое убийство и что такое война... И я... Именно я... Я должен эти слова найти! И я их найду... Я клянусь, найду!
Гёте даже попятился: внезапная перемена, произошедшая в госте, поразила его. Вместо робкого, униженного просителя перед ним стоял теперь Савонарола[216]216
Савонарола Джироламо (1452—1498) – итальянский монах (доминиканец), проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции; казнён как еретик сторонниками Папы Римского и тиранов Медичи.
[Закрыть], чьи горящие глаза, вздыбленные волосы, закушенные губы и яростно сжатые кулаки могли бы испугать кого угодно. Нет, никаких сомнений быть не могло: конечно же это был безумный человек! Счастье ещё, что с его, Гёте, помощью ему удалось спрятаться в Ильменау, в этом маленьком городке, затерянном в лесной глуши. В любом другом, более людном месте его, несомненно, весьма скоро упекли бы в тюрьму или в сумасшедший дом, А он ещё советовал ему обосноваться в Иене! Мало советовал – даже настаивал, чтобы он поселился там да ещё приписался к Иенскому университету... Нет, по-честному говоря, можно понять людей, которые предпочитают не видеть и не слышать этих проповедников, а держать их на цепи... И дело вовсе не в том, какая именно идея обуревает в данную минуту такого безумца. Это может быть призыв ко всеобщему покаянию и смирению, а может быть – к поголовному переселению куда-нибудь в Китай, а может быть – к избиению всех еретиков до единого – не важно же к чему. Важно не это, важно то, что ради своей идеи они ни на мгновение не задумаются сжечь всякого, кто не согласен с ними... Но, к сожалению, приходится признать, что именно эти люди движут миром. Кто отметил их, дьявол или Бог, – откуда нам знать? «Нет, господин Крафт, я не ошибся, когда протянул вам руку помощи. Чем черт не шутит, может быть, когда-нибудь вы действительно напишете книгу, которая будет жечь сердца и которая сделает людей чуть умнее, чем они были до вашего прихода в мир. Помогай вам Бог, господин Крафт! Только, пожалуйста, опустите кулаки: у меня слабые нервы и, откровенно говоря, я не большой любитель таких сцен. Хватит с меня и Шекспира в Веймарском театре... Кроме того, там хоть есть гарантия, что король Лир в экстазе не бросится с подмостков вниз крушить ложи и партер...»
– Поверьте, господин Крафт, я очень сочувствую вашей благородной идее и вашему великому делу. И я желаю вам всяческих успехов на этом поприще... Кроме того, признаюсь, вы возбуждаете во мне чисто профессиональный интерес. Как вы знаете, я ведь тоже литератор. Вы весьма справедливо заметили, что до сих пор по данной проблеме никому нужных слов найти не удалось. И, скажу вам, я не только как человек, но и как профессионал буду искренне рад, если вы будете первым, кто их наконец найдёт.
– Я найду, ваше превосходительство! Верьте мне: найду. Я обязательно найду!.. Но, Боже мой, если бы только кто знал, как же трудно их искать! Одно, другое, десятое, сотое – и всё не то, всё не то. Ничто привычное, тысячи раз слышанное здесь недопустимо... Слово это должно быть таким, чтобы, услышав его, каждый человек содрогнулся и возопил: «Отрекаюсь! Отрекаюсь убивать! За себя и за всех своих потомков – отрекаюсь от войны, от убийства, от грабежей и насилия. От всего, что сделало адом нашу жизнь на земле...»
– Да, нелёгкую задачу вы перед собой поставили, господин Крафт... Очень нелёгкую задачу. По-моему, даже Иисусу из Назарета найти таких слов не удалось. А он, согласитесь, был великим мастером по части слов. Так что, повторяю, я очень сочувствую вам, господин Крафт. Дай Бог вам эти слова найти.
– Иногда, ваше превосходительство, мне кажется, что я уже нашёл их. Да-да, несомненно, многие из них я уже нашёл. Но все они пока ещё как-то в беспорядке, вперемешку, кое-как. Их надо выстроить, привести в порядок... Нацелить в одну точку... Но это нечеловечески трудно, ваше превосходительство! Здесь нужна полная сосредоточенность, полная чистота и спокойствие души, отрешённость от всего низменного, от всех страхов и корысти. И я... Помогите мне, ваше превосходительство! Умоляю вас – помогите! Когда-нибудь... Кто знает? Может быть, когда-нибудь мне удастся вернуть вам сторицею все мои долги. Или, по крайней мере, там, на том свете, припадая к стопам Всевышнего, отмолить долгую и тихую жизнь вам и всем, кто вам близок. За вашу великую доброту и сострадание к людям... Час мой близок, ваше превосходительство, я знаю – близок. Как только я выполню свой долг, как только я найду то, что ищу, я уйду из этого мира. Я буду уже не нужен ему. И может быть, мой голос перед престолом Всевышнего будет самым сильным из всех тех бесчисленных, кто на земле и на небесах славит ваше имя. Имя, составляющее гордость и надежду не только нашей несчастной родины, но и всего человечества... Умоляю вас, ваше превосходительство! Помощи... Помощи прошу!








