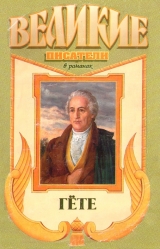
Текст книги "Гёте"
Автор книги: Юрий Нагибин
Соавторы: Жан Мари Карре,Николай Шмелев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Как всегда, им не нужно было выискивать темы для разговора. Герцога живо интересовало всё, что думал и чем был занят его премьер-министр: и что он, Гёте, ещё написал, и чего он достиг в своих научных изысканиях, и каковы были его взгляды относительно возможности сближения средненемецких государств в противовес давлению Пруссии и Австрии, и что он может посоветовать по такому животрепещущему и важному вопросу, как необходимость окончательного устранения графини фон Вертерн из жизни герцога... Им всегда было хорошо вдвоём, без всяких усилий хорошо, и оба они давно уже не представляли себе жизни без таких вот маленьких, скрытых от всех вечеров, без этого дружеского обмена мыслями и взаимными признаниями, в котором каждый из них ничего не терял, а только приобретал и от которого у обоих потом надолго оставалось ощущение теплоты, доверия и заботы друг о друге. И даже сегодня, несмотря на потрясение, которое только что пришлось испытать, Гёте не нужно было ломать и обуздывать себя, чтобы на любое приветливое слово герцога и любое проявление его участия отвечать ему тем же: глубокие симпатии к этому шумному, доброму и порывистому человеку давно уже жили во всём его существе. Мог ли он сердиться на него, мог ли он враждовать с ним, ненавидеть его, своего ученика? Нет, не мог. Единственное, что он мог, – это грустить, печалиться, сожалеть. Но и то предпочтительно не на глазах у герцога, а без него, одному. Не было у него зла против этого человека и не могло быть: разве его, герцога, вина, что ничего нельзя в этом мире изменить? И разве он виноват в том, что все его прерогативы, все его так называемые неограниченные права были в реальности ничто в сравнении с тёмной, всепобеждающей силой тесно спаянных между собой себялюбцев, которым наплевать и на Бога, и на людей, и на всё на свете, кроме себя, и которые вдруг почувствовали, что почва уходит у них из-под ног? «Да-да, он не виноват, – думал Гёте. – Но и я не виноват. И никто не виноват. А в результате – всеобщий паралич, всеобщее оцепенение, дурной, тяжкий сон, пробуждения от которого, боюсь, уже не будет никогда. И самое ужасное в том, что за каждым добрым начинанием опять всё та же ухмыляющаяся рожа Мефистофеля, который знает наперёд, что из добрых порывов и начинаний ничего, кроме безобразия и нового зла, никогда не выходило и выйти не может. Почему? Да потому, что человек всё норовит изменить других, а не себя. А надо в первую очередь себя и уж потом, может быть, – да, может быть! – других. Так где же выход, Господи, где? Покориться, смириться? Положиться на Тебя и на Твоего верного соратника и помощника – сатану? Дескать, что-нибудь когда-нибудь из всего этого да выйдет? Что-нибудь да получится? А что, где, когда – не спрашивай, не твоего ума это дело, человек... О Господи, как же это всё тяжело... Как же тяжело...»
Дежурный офицер доложил наконец о приходе музыкантов. Робко озираясь по сторонам, они сгрудились в углу гостиной, у клавесина, достав из футляров свои скрипки и ожидая распоряжений герцога. Карл-Август предпочитал обычно бодрую, веселящую душу музыку, но на этот раз, понимая состояние своего друга, он попросил сыграть что-нибудь потише, поспокойнее, что больше бы отвечало и позднему уже времени, и тому тихому, слегка меланхоличному настроению, в которое Гёте всё-таки, несмотря на все усилия герцога, впал и из которого его, по-видимому, и не следовало теперь выводить. Капельмейстер взмахнул своей палочкой, и какая-то трогательная, бесхитростная мелодия, похоже, что итальянская, заполнила собой зал...
О многом передумал господин тайный советник, пока продолжался этот маленький концерт. О многом: о прошлом, о будущем, о герцоге, о себе. Прошлое? А что прошлое? Может быть, ему и надо было жениться на Фридерике, жить тихой деревенской жизнью, смиренно слушать голоса природы, думать о Боге и о душе, вставать с восходом, ложиться с заходом солнца, читать толстые книги, беседовать по вечерам под кувшин сидра со старым пастором, её отцом... А может быть, ему надо было запереться на всю жизнь у себя в доме, во Франкфурте, в полутёмной мансарде под самой крышей, жить отшельником, и писать своего «Фауста», и разговаривать либо с собой, либо с теми, кого он создал сам, своим воображением, будь то люди или бесплотные духи. И с ними так и дожить до самой старости, потому что они умнее и лучше любых из тех бесчисленных, из плоти и крови, с кем его сталкивала жизнь... А может быть, надо было больше прислушиваться к тому здоровому, крепкому природному началу, которым его тоже в избытке одарил Господь, плюнуть на всякое слюнтяйство, на всякие стихи и мечтания о переустройстве мира, жениться на Лили, стать обладателем одного из самых крупных в Германии состояний, купить себе должность имперского советника или даже что-нибудь повыше, потом стать, как когда-то его дед, городским старостой – президентом вольного города Франкфурта, жить просто и весело, растить детей, любить жену, пировать с друзьями, радоваться богатству, власти, почёту, уважению сограждан...
«Ах, может быть, всё может быть... Но всё сложилось так, а не иначе, и теперь уже нет никакого смысла оглядываться назад и уж тем более о чём-то сожалеть... «Прошло и не были равны между собою...» Так если о своём прошлом человек не может сказать ничего с определённостью, тогда как же можно строить догадки о будущем? Пытаться проникнуть в него, заглянуть за эту завесу, которой, по милосердию Божию, скрыта от человека его судьба? Да-да, именно по милосердию... В этом и есть самое главное свидетельство милосердия Божия, что человеку не дано знать своего будущего: что с ним случится, что его ждёт, и каков, и где, и когда будет его конец... И всё-таки... И всё-таки одно, по-видимому, ясно: надо выбираться помаленьку отсюда, из этой кучи дерьма. Долг, крест, бремя обязанностей, доверие герцога – это всё, конечно, хорошо, это всё важно и нужно. Но если ты поэт и будущее твоё – это будущее поэта, надо отсюда так или иначе выбираться... В Италию! В солнечную, тихую, мирную Италию! В Рим! И не помнить никого из вас, и всё забыть, и ни о ком и ни о чём не сожалеть... Нет, Карл-Август, нет, дорогой мой друг и воспитанник, не обольщайся: не будет такого времени, когда ты станешь хозяином в своём государстве, когда ты сможешь повелевать своим стадом овец. Не будет! По пустякам – пожалуйста! Ты монарх, у тебя власть, ты сидишь на троне, и вокруг тебя только склонённые головы и спины, и больше ничего. Но всерьёз? Но всерьёз ты раб, марионетка, кукла на верёвочках, за которые дёргает кто-то за сценой. Кто-то, кого не знаем ни ты, ни я. И у кого нет ни имени, ни лица. Сегодня благодаря тебе, Карл-Август, тебе и этому дурацкому указу я это понял полностью и окончательно. И надеюсь, понял на всю оставшуюся мне жизнь... Смешно! Подумать только: ещё сегодня утром я пыжился перед зеркалом, надувал щёки, мнил себя самым ловким, самым умелым человеком на свете, способным ради торжества добра и справедливости на земле обмануть, перехитрить всю эту свору подлецов, обложивших меня со всех сторон. Смешно!.. О, гордыня человеческая... Что я могу? Один, один как перст? Составить новый охотничий устав? Да, конечно, это я могу. И могу добиться, чтобы из церквей и молельных домов не изгоняли матерей внебрачных младенцев. Впрочем... Нет, Вольфганг, не обольщайся! Даже и этого ты не можешь. Пройдут ещё сотни лет, прежде чем люди перестанут браконьерствовать в лесах. И пройдут ещё поколения, долгие поколения, прежде чем перестанут свистеть, улюлюкать и пинать ногами женщину, осмелившуюся переступить эту веками назад проведённую черту... Да, надо выбираться, Вольфганг, из этого всего. Надо! И чем скорее это получится, тем будет лучше для тебя. А может быть, и не только для тебя. Может быть, и для других тоже. Боюсь, дорогой мой, что покойный фон Фрич был всё-таки прав: не за своё ты дело взялся, Вольфганг. Не за своё!.. «Зачем так страстно я искал пути, коль не дано мне братьев повести...» Пиши свои вирши, копайся в своих камушках, а судьбы человечества оставь Провидению. Не тебе их решать... Не мне? Да, не тебе. Не тебе. Но как же подмывает всё-таки... Как же хочется всё-таки вскочить и заорать в самое небо: не мне?! Тогда кому же, Господи? Кому?!»
Было уже около полуночи, когда герцог наконец отпустил его. Взошла луна, крупные августовские звёзды поблекли в её свете, стали мельче и отдалённее, и белая, усыпанная мелким гравием дорога между деревьями была теперь видна как на ладони. Они постояли немного в молчании на крыльце, прислушиваясь к ночной тишине и наслаждаясь прохладным, горьковатым воздухом, в котором уже чувствовалось приближение осени.
– Карл-Август... А знаешь, что ещё, мне кажется, нам надо с тобой сделать? – пожимая протянутую ему на прощание руку, сказал Гёте. – Надо отменить наконец этот варварский обычай спрашивать у входящих или въезжающих в город их имя. Да ещё заносить его потом в книгу. Согласись, дальше так нельзя. Последняя четверть восемнадцатого века, а мы...
– А, так ты не домой?! Дело! Дело, старый бурш! Желаю тебе провести приятную ночь, старина. Только не увлекайся, завтра ты мне нужен живой и здоровый. Мой совет: если хочешь избежать объяснений у ворот, надень мой плащ и треуголку. Тогда тебя примут за меня и не посмеют окликнуть. А если всё-таки окликнут, запомни пароль: Казань.
– Казань? Что такое Казань?
– А чёрт его знает что. Спроси у гофмаршала... Кажется, какой-то татарский город в России. Да какая тебе разница? Запомни только, и всё. Это мой пароль, не твой.
– Да, вы правы, ваше высочество. Вы правы, как всегда... Действительно, какая мне разница? Никакой. Доброй ночи, ваше высочество! Доброй ночи! Ваш верный и преданный слуга...
Ах, как тихо было в лесу, на пустой дороге! Как хорошо было идти ночью, одному, мимо молчаливых лесных великанов, смотреть на звёзды, на серебристую листву, прислушиваться к звукам собственных шагов, вдыхать запах прелых листьев, чувствовать на разгорячённом лице каждое дуновение лёгкого ночного ветерка... Нет, не то, а это его мир, это его жизнь, это его счастье, а всё другое, оставшееся там, за спиной, – это только тяжкий мутный сон, от которого он никак не может пробудиться, но от которого он всё-таки очнётся когда-нибудь... Очнётся? Конечно очнётся! Обязательно очнётся. Только вот где? Здесь? Или где-то там, в горних высях, в иных мирах?.. О, Господи... Опять эти попытки проникнуть туда, куда смертному входа нет и не будет никогда. Подожди, не торопись. Узнаешь... Когда-нибудь и ты всё узнаешь. Когда-нибудь и ты отдохнёшь от этого тяжкого, безобразного сна... «Подожди немного – отдохнёшь и ты...»
Господину тайному советнику повезло. То ли порядки в государстве действительно совсем расшатались, то ли хмурый, заспанный стражник, узнав его, просто не посмел ничего спросить, но его пропустили в город без всяких паролей и объяснений. Тяжёлые ворота тихо задвинулись за ним, и он остался один на узкой, мощённой булыжником улице, ведущей к рыночной площади. Утомлённый дневными трудами, измученный борьбой за жизнь, за кусок хлеба, за свои жалкие радости, Веймар спал. И только в одном старом доме в переулке у Фрауэнплан, он знал, на окне второго этажа горела свеча: там не спали и ждали его.

Юрий Нагибин
О ТЫ, ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ!..

Он велел подать себе фрак. Старого слугу Фридриха это не удивило: уже перевалило за полдень, а г-н тайный советник Гёте, случалось, надевал фрак и к завтраку, когда что-то внутри него требовало торжественности. При этом он вовсе не ждал, что домашние последуют его примеру и облекутся в парадные одежды. Его щегольской, странный и строгий вид являл резкий контраст с утренней небрежностью и покойной советницы, которой после ежевечерних танцев до упаду и обильных возлияний было не до туалетов – дай Бог как-нибудь натянуть капот на жирные телеса, и сына Августа, франта[217]217
...сына Августа, франта... – См. примеч. № 104.
[Закрыть], но только не спросонок, когда голова трещит с похмелья, и пребывающей в рассеянном утомлении от балов и поклонников невестки Оттилии[218]218
...невестки Оттилии... — См. примеч. № 174.
[Закрыть], и её вздорной, всегда прибранной сестры[219]219
...её вздорной, всегда прибранной сестры... — Погвиш Ульрика фон – сестра Оттилии Гёте; жила в доме Гёте, страдала психическим расстройством.
[Закрыть] – бедняжка слегка повредилась головой, уроненная в вальсе нерасторопным кавалером. Г-н тайный советник, вовсе не строивший из себя аскета – он много и со смаком ел, любил общество и ежедневно осушал две-три бутылки рейнского вина, – как бы противопоставлял свою подтянутость, порядок внутри себя распаду близких людей. А может, хотел вдохнуть в них бодрость, уверенность: мол, продолжайте в том же духе, дорогие, я крепок, я на посту.
Относясь с удивительной снисходительностью к людским слабостям, он не делал исключения и для родственников, прощая им все заблуждения, ошибки, даже пороки.
Старый Фридрих так долго находился при Гёте, что в конце концов научился думать. Он и сам не мог сказать, как проникла в него эта зараза, но вместо прежних вялых видений, обрывков каких-то воспоминаний, всплывающих со дна памяти, которые он не пытался ни продлить, ни сочетать с другими, дабы получить цельную, законченную картину смутных образов, вдруг возникающих из тумана и вновь поглощаемых им, ныне под черепной крышкой свершалась непрерывная работа, причинявшая немалое утомление, но вроде бы и удовольствие, когда в результате крайнего напряжения он приходил к каким-то выводам. Фридрих не отдавал себе отчёта, зачем ему это нужно, – чуждый лакейским сплетням, малообщительный, он все свои наблюдения, соображения и умозаключения хранил про себя, но, если бы даже захотел сейчас, не смог бы остановить беспокойного, изнурительного шевеления в голове. И положа руку на сердце, едва ли б согласился вернуться к прежнему умственному сну, дарившему невозмутимое спокойствие. Наблюдать за г-ном тайным советником было интересно, а ещё интереснее – разгадывать загадки его величаво-ровного со стороны, на деле же весьма странного и непредсказуемого поведения.
Казалось бы, свет не видывал лучшего семьянина, чем г-н Гёте, столь внимательного, снисходительного, заботливого, готового – при всей загруженности государственными делами – шикать в каждую мелочь домашней жизни, если это могло помочь его ныне покойной жене или новой хозяйке г-же Оттилии, равно и столь деликатного, когда его вмешательство не требовалось. Фридрих, впрочем, сомневался, можно ли считать Оттилию, на редкость безразличную к дому, мужу и семье, новой хозяйкой, скорее уж на это звание претендовала её сестра – до того как её уронили на скользком паркете. И во дни Кристианы, которую г-н тайный советник, спасая своё изнемогшее в скорби сердце, даже не проводил до места упокоения, и в нынешнее междуцарствие он охотно погружался в хозяйственную жизнь дома – пустейшая кухонная забота казалась ему стоящей внимания, и при этом мог без подготовки и предупреждения разом всё бросить и уехать надолго в Иену, где у него было холостяцкое убежище, или на курорт. Он, правда, и оттуда не оставлял советами брошенное семейство, но коли собственное присутствие не способствовало поддержанию порядка в расползающемся доме, то уж подавно бессильными оказывались наставления издалека.
После смерти жены г-н Гёте стал проводить по полгода в Карлсбаде, куда уезжал ещё до открытия летнего сезона, а возвращался осенью, в последнее же время сменил карлсбадскую, клубящуюся испарениями целебных источников скалистую щель на плоский, как лепёшка, Мариенбад – не из-за лечебных свойств этого преимущественно женского курорта, а ради тёмных глаз юной Ульрики Левецов, дочери энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием[220]220
...энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием. — Левецов Амалия фон (род. в 1787 г.) – мать Ульрики Левецов, увлечение Гёте в 1806—1821 гг.
[Закрыть]. Наверное, в ту далёкую пору, думал Фридрих, эта дама занимала более высокое положение в обществе, а сейчас, будучи владелицей большого и мрачного дома, содержала гостиницу, служившую, как болтали злые языки, и для скоротечных свиданий.
Вспомнив о г-же Левецов в этот солнечный мариенбадский полдень, когда г-н тайный советник потребовал фрак, Фридрих привычно присовокупил к ней недавно узнанное от гостей хозяина и пленившее его выражение: «следы былой красоты». Слова эти околдовали развившийся ум Фридриха; приглядываясь к гуляющим по нарядным улицам модного курорта, удручённым женскими болезнями дамам, Фридрих отыскивал в их чертах следы былой красоты. И он научился угадывать даже самые слабые, занесённые прахом лет и недугов знаки минувшей прелести на увядших лицах. Но на просторном и чистом лице г-жи Левецов следы эти были столь очевидны и щедры, что Фридрих искренне недоумевал: зачем его господин хлопочет, точно шмель, над нераспустившимся цветком – над девятнадцатилетней Ульрикой, когда к его услугам чуть пожухший, но ещё пышный и яркий бутон – старшая Левецов? В конце концов, г-н тайный советник, первый министр великого герцогства Веймарского, далеко не юноша...
Фридриха огорчало, что язык того светского круга, в котором он преимущественно вращался, обслуживая друзей и гостей хозяина, остаётся ему зачастую непонятен. Ускользало одно-единственное слово, а с ним терялся весь смысл. Фридрих налёг на справочники и толковые словари, которые брал из хозяйской библиотеки. Они расширяли кругозор, обогащали множеством ненужных сведений, но чаще лишь сгущали туман. Фридрих прослышал, что в пору своего увлечения старшей Левецов г-н тайный советник называл её Пандорой[221]221
Пандора – в древнегреческой мифологии прекрасная женщина, посланная Зевсом на землю с сосудом (или ящиком), содержавшим бедствия; она открыла сосуд, и бедствия распространились среди людей (отсюда «ящик Пандоры» – источник всяческих бедствий).
[Закрыть]. И прозвище сохранилось по сию пору. Обратившись к энциклопедическому словарю, Фридрих выяснил, что Пандора – имя женщины, созданной Гешефтом (так ошибочно прочиталось имя Гефест[222]222
Гефест — в древнегреческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла, сын Зевса и Геры; у римлян – Вулкан.
[Закрыть]) и наделённой наряду со множеством достоинств и редкой красотой, хитростью, любопытством и коварством. Её послали на землю, чтобы погубить род людской, снабдив ящиком, наполненным всякой мерзостью. В словаре не было объяснено, знала ли Пандора о своём предназначении и о содержимом ящика. И почему его открыла – из неуёмного бабьего любопытства или по сознательной злобе. Так или иначе, она выпустила наружу всю нечисть, а на дне осталась лишь обманчивая надежда. Что имел в виду г-н тайный советник, назвав г-жу Левецов – в пору своего увлечения – Пандорой, оставалось неясным: то ли её изобильные прелести, то ли тайное криводушие, то ли готовность дамы выпустить в мир омерзительных чудищ. Нынешнее сближение его господина с семейством Левецов тревожило лакея Фридриха.
И сейчас, в последний раз обмахивая метёлочкой из чёрных страусовых перьев тугую гладкость фрака, прекрасно сидящего на крепкой фигуре хозяина, Фридрих изо всех сил напрягался мыслью, чтобы постигнуть то новое, что исподволь вызрело в размеренной мариенбадской жизни и достигло критической точки сегодня, когда г-н Гёте после визита к нему герцога Веймарского Карла-Августа, которого, пользуясь старой дружбой, принимал по-домашнему, хотя величал даже с глазу на глаз «ваше королевское высочество», потребовал подать весь парадный доспех.
Он придирчиво осмотрел чёрную пару, атласный жилет, рубашку и шейный платок, велел убрать звёзды и усыпанный алмазами орден на шёлковой ленте, глазами показал на несколько седых волосинок, приставших к воротнику, и с обычной неторопливой энергией принялся одеваться. Помогая своему господину, Фридрих жадно следил за ним, но тайный советник ничем себя не выдал: движения его сохраняли обычную механическую чёткость, он сразу попадал в штанины и рукава, садился, когда надо, и, когда надо, вставал, гибкое тело безотчётно облегчало работу слуги. Но что-то необычайное всё-таки было... О да, блеск, «лихорадочный блеск», вспомнил Фридрих подходящее выражение, тёмных, глубоких глаз г-на тайного советника.
Поразительно, что семидесятичетырёхлетний старик сохранил такие живые, горячие, чёрно-сверкающие глаза. Впрочем, г-н Гёте и вообще замечательно сохранился. Ему даже вино шло на благо, нежно подрумянивая чистую кожу мясистого, но ничуть не обрюзгшего лица с крупным, решительным носом и тронутым лишь над бровями долгой тугой морщиной высоким, крутым лбом, слегка потеснившим к темени плотные белые волосы, красиво вьющиеся на висках и затылке. Прямая спина, неторопливый твёрдый шаг, гордый постав головы придавали ему величавость.
Но сегодня г-н тайный советник не просто выглядел моложаво, он и впрямь был молод и сам чувствовал в себе эту молодость. Он напрягал икры, что было заметно сквозь тонко-плотную ткань панталон, поводил плечами, выпячивал грудь, его переполняла жажда движения. Но выйти из дома он почему-то не мог. Наверное, кого-то или чего-то ждал. Он ненавидел пустой расход времени, того мешкания, до которого столь охочи все несобранные люди, особенно женщины. Человек уже давно собрался, а всё не может сделать решительного шага, мнётся, мельтешит, шарит по карманам, хлопает ящиками бюро, открывает и закрывает дверцы шкафа, но он ничего не ищет, просто страшится переменить обстановку. Нет, г-н тайный советник Гёте всегда знал, чего хочет, и находил кратчайший путь к цели. Если он собирался из дома, то был готов к выходу в ту же секунду, когда заканчивал сборы, никогда ничего не терял, не забывал, хотя делал сотни дел, держал в памяти весь предстоящий день, наполненный работой, диктовкой секретарю произведений изящной словесности, научных трудов, деловых бумаг, распоряжений, встречами с разными людьми, официальными и светскими визитами, прогулками – пешком и на коне – и Бог весть ещё чем. День г-на Гёте был неизмеримо насыщенней и словно бы длиннее дня любого другого человека. Вынужденный прервать диктовку, порой не на минуты, а на часы, он продолжал с того самого места, на котором остановился, хоть с полуфразы. Фридрих изо всех сил старался сделать свой ум таким же цепким и ясным, но, хотя забот у него было куда меньше, ничего из этого не вышло. Стоило одному делу наложиться на другое, и Фридрих настолько терялся, что забывал оба дела.
Г-н тайный советник конечно же и сейчас не испытывал колебаний и сомнений в отношении того, что ему делать дальше, он просто ждал. Неторопливо ждал какого-то известия, чтобы начать действовать, но известие запаздывало, и это нарушало его спокойствие. Сама собой тугая, медленная, но не сбивчивая мысль Фридриха связала нетерпение хозяина с той переменой в его жизни, которая с некоторых пор стала казаться неизбежной.
Когда умерла старая хозяйка, Фридрих мог бы кошелёк, набитый талерами, поставить на заклад против кружки пива, что г-н тайный советник навсегда останется вдовцом. И вовсе не потому, что он так пламенно и верно любил жену, с которой прожил почти тридцать лет. Конечно, её смерть явилась для него тяжёлым ударом, он даже изволил пролить слезу, впрочем, слеза была тем единственным напутствием, которым он провожал в небытие самых близких людей: жену, баронессу фон Штейн, г-на Шиллера... Не было случая, чтобы он хоть взгляд бросил на дорогие, но уже заострившиеся черты. То ли г-н тайный советник хотел сохранить живой образ усопшего, то ли боялся смерти, то ли слишком презирал её. Возможно, он считал, что там, где начинается держава смерти, кончаются его солнечные владения, и прекращал всякие отношения с теми, кто предпочёл госпожу Смерть его обществу.
Отдав дань извинительной слабости, омыв – и смыв – слезой дорогой образ, г-н тайный советник возвращался к делу жизни с особой энергией, словно бы освежённый и помолодевший. Что касается покойной советницы, то задолго до её кончины он предоставил и себе и ей полную свободу: ей – веселиться, танцевать до упаду и кутить в обществе бравых офицеров (шампанское пенилось вокруг г-жи Гёте, как пена морская вокруг Афродиты[223]223
Афродита – в древнегреческой мифологии богиня любви и красоты; в Риме отождествлялась с Венерой.
[Закрыть]), себе же оставил уединённый труд, государственные заботы, встречи с замечательными людьми, красное вино и летом – восторженный щебет молодых женщин.
После смерти жены г-н Гёте словно принял на себя оброненную ношу усопшей, обрёл вкус к балам, пикникам, повесничанию и долгому уединению с юными красавицами. Казалось бы, что может быть лучше такой жизни, дающей все радости и почти ничего не требующей взамен, но с некоторых пор рассеянный свет его внимания собрался, как в фокусе, на юной Ульрике Левецов. Это не было похоже на другие, быстро проходившие увлечения. Крепко запала в душу Фридриха фраза, оброненная как-то г-ном Гёте за семейным обедом, когда несдержанный, всегда раздражённый Август в очередной раз сцепился с откровенно презирающей его Оттилией: «Вся беда в том, что наш состав неполон». Занятые своей ссорой, молодые люди пропустили слова главы семьи мимо ушей, они и вообще не баловали его почтительностью, а может, сочли бессильной жалобой вдового старика, лишь повредившаяся в уме сестрица Оттилии метнула в его сторону короткий злобный взгляд. А им стоило бы прислушаться, ибо г-н тайный советник впервые – и сознательно – проговорился о своих намерениях.
Смущало Фридриха лишь одно: наивность этого заявления, – неужели великий ум может настолько заблуждаться в своих близких? Появление новой тайной советницы внесёт такой же мир и лад в смятенную жизнь дома, как содержимое ящика мифической Пандоры. И даже обманчивой надежды не останется. Конечно, Август и Оттилия объединятся в ненависти к новой «мамочке», ущемляющей их наследственные права, но едва ли об этом мечтает г-н Гёте.
Ныне Фридрих склонен был фразу, услышанную за столом и оставленную без внимания молодым поколением, связать с лучезарно-беспокойным обликом г-на тайного советника. Не должно ли сегодня решиться то, что сделает полным «семейный состав», принесёт мир и покой дому, – «кошмар и ужас», твёрдо определил будущее своего хозяина научившийся мыслить Фридрих. Для себя лично он не ждал перемен, ибо принадлежал к тому священному и неприкосновенному обиходу г-на тайного советника, который был исключён из домашних потрясений. И всё-таки ему было не по себе...
Ну а как же иначе? Ведь не было у Фридриха другой жизни, кроме той, что уже несчитанные годы незаметно день за днём проходила в доме г-на тайного советника Гёте. Бывает, что слуги, при всём своём зависимом положении, не только влияют на домашние и прочие дела хозяина, но и направляют их, – поведение советника полиции Бруннера в семье и на службе целиком зависит от того, с какой ноги встал и как обиходил его красноносый лакей Михель, брюзга и пьяница, с которым хозяин не расстался бы за все блага мира. Фридрих не пользовался влиянием на своего хозяина, и никто другой не пользовался: г-н тайный советник умел закрывать глаза на домашние безобразия, но не плясал под чужую дудку. Фридриху достаточно было наблюдать и делать выводы – совершенно бескорыстно, ибо он и так имел всё необходимое для душевного довольства: чёткий круг необременительных обязанностей, сносное жалованье, независимость, обеспеченную подчинением лишь одному человеку, добрый стол с хозяйским вином, крепкий табак, опрятную постель, хорошее платье и достаточно свободного времени, чтобы посидеть в погребке и перекинуться шуткой с какой-нибудь Кетхен или Лизхен. Будучи лишь немногим моложе хозяина, Фридрих, подобно ему, не держал двери на запоре. Он знал, что г-н тайный советник неисповедимыми путями – доверительных разговоров меж господином и слугой не велось – осведомлен о его галантных похождениях и относится к ним с одобрением. Г-ну Гёте было по душе всякое проявление жизненной силы, но омерзителен, как бы ни скрывал он свои чувства, пьяный, грубый разврат Августа.
Фридрих желал счастья своему господину, но неужели тот действительно верит, что избалованная девочка поможет обуздать бешеного Августа и своенравную Оттилию? Эта мысль так озаботила Фридриха, что он перестал обмахивать веничком плечи г-на тайного советника и замер с поднятой рукой, сжимающей букет из облезлых страусовых перьев.
– Я разрешаю вам обратиться ко мне с вопросом, Фриц, – с улыбкой – не губ, а глаз – сказал г-н тайный советник.
– С каким вопросом, ваше превосходительство?
– Не лукавьте. Вас давно томит вопрос: уж не хочет ли барин жениться?
Взгляд Гёте вдруг отдалился, затуманился и вовсе покинул остекленевшие глаза. Непостижимым образом Фридрих угадал выпадение своего господина из данности, вслед за тем с лёгкой дурнотой ощутил, что и его затягивает, заверчивает странная, не из яви воронка и брезжит что-то не имеющее ни образа, ни подобия, из какого-то чужого обихода, с чужими запахами, чужим воздухом, чужой заботой, он понял, что это барин затащил его туда, где ему вовсе незачем быть, и тоска сдавила сердце.
А Гёте, не в первый раз пережив мгновенное погружение в стихию иного времени, иного бытия, предстоящего ему, видимо, после износа этой жизни и этого образа, опять, как и во всех прежних случаях, кроме одного-единственного, относящегося не к будущему, а к прошлому, где он оказался могучим туром, зазывно трубящим в золотистой лесной просеке, тщетно пытался ухватить тот сдвиг, из которого возникла странная, не свойственная ему фраза. Снова ничего не получилось, он уловил лишь, что там была не Германия, может, и вообще не Европа, но и экзотикой не повеяло, самое же поразительное, что рядом с ним по-прежнему находился Фриц, другой, как и он стал другим, – новая ипостась Фрица. Неужели возможно такое вот спаренное перевоплощение?.. По чести, он предпочёл бы, чтобы не Фриц, при всех его несомненных достоинствах, сопутствовал ему в новом существовании... Ах, если бы договорить, доспорить с Шиллером!.. А увидеть вновь юную Фридерику, доверчивую, трогательную Фридерику, которую он так внезапно бросил, не воспользовавшись плодами победы, спасая себя от неё, а её – от себя, – почему в молодые годы им владела неодолимая страсть к разрывам? Наверное, то было безотчётное, самосохраняющее чувство: кто-то в нём, более умный, нежели он сам, знал, что чудо жизни даровано ему не для того, чтобы изойти томлением и восторгом у женской юбки. Но как они были прелестны! И Фрид ерика, навек запечатлевшаяся в нём тонкой болью, и нежная Шарлотта Буфф, ставшая г-жой Кестнер и тем подарившая ему и веку «Вертера», и страстная, смелая Лили, так бурно любившая, готовая бежать с ним в Америку, и стойкая, гордая, измучившая его больше всех женщин, вместе взятых, прежде чем подарить своей близостью (неудивительно, что перетянутая струна вскоре лопнула), баронесса фон Штейн, и обречённая пленять всех, кто неосмотрительно приближался к ней, Минна Херцлиб – сам Эрот[224]224
Эрот – в древнегреческой мифологии бог любви, сын Афродиты; изображался в виде мальчика или юноши с луком и стрелами; в римской мифологии ему соответствует Купидон (Амур).
[Закрыть] придумал эту фамилию, – и даровитая, таящая пламень под личиной холодного прекраснодушия Марианна Виллемер, с которой он вновь стал Вертером, правда умудрённым годами и застрахованным от поражения. Но всё самое нежное, трепетное и одухотворяющее сосредоточилось в его последней любовнице Ульрике Левецов, нет, всё же не любовнице, хотя были и поцелуи и объятия, такие пылкие! – а ведь ей всего девятнадцать, это он, седовласый, разбудил невинное создание для чувственной любви. Да будет с ним лишь она, одна она, во всех последующих превращениях, его душенька, его богиня, которую он вскоре назовёт женой перед небом и людьми.








