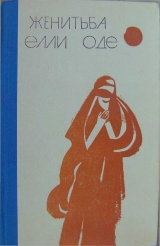
Текст книги "Женитьба Элли Оде (сборник рассказов)"
Автор книги: Юрий Белов
Соавторы: Валентин Рыбин,Ата Каушутов,Вячеслав Курдицкий,Сейитнияз Атаев,Огультач Оразбердыева,Ашир Назаров,Ходжанепес Меляев,Бекге Пурлиев,Агагельды Алланазаров,Байрам Курбанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Нариман Джумаев
Старый чабан и пустыня

Солнечный день как-то сразу притух. Заметив это, Гулназар-ага оглянулся и увидел, что на краю горизонта нагромождаются бурые гряды облаков.
Он поставил верблюдицу на колени и принялся доставать тёплую одежду. Тем временем ветви саксаула закачались, зашевелился песок на гребнях барханов, – призрачно-лохматое чудовище, наметившее себе жертву и уверенное, что ей от него не уйти.
Зимняя медлительная буря, в отличие от своих знойных июльских собратьев, не вздымалась песчаными вихрями в небо, не спешила расправиться с солнцем. Она неторопливо волокла за собой тяжёлые тучи, что мимоходом затмят белый свет, упрячут под завесу снега всё осеннее очарование Каракумов.
– Ага! Так и есть! Не послушались стариков, а теперь будете каяться! – в сердцах воскликнул старый чабан.
Жирный суслик, сидевший на задних лапах под кустом селина, юркнул в свою норку. Его нисколько не интересовало, чем так недоволен старый чабан и к кому обращена его речь здесь, среди безлюдных барханов. Может быть, и эта беззаботная тварь поняла бы досаду старика, если бы узнала, что по настоянию заведующего колхозной фермой перегон на зимние пастбища долгое время задерживался и только позавчера они наконец двинулись в далёкий, трудный путь.
Гулназар-ага накинул на себя тяжёлый чекмень с кошмовой подкладкой и уселся на землю, прислонясь спиной к верблюдице. В тот же миг верблюдица вздрогнула: упругая ладонь бури с силой хлестнула по ней, по видавшему виду чабанскому чекменю…
Когда Гулназар-ага, отбросив в сторону отяжелевший чекмень, встал на ноги, в воздухе уже носились снежные хлопья.
Мягкое осеннее солнце Каракумов надолго померкло. Поседевший небесный купол низко навис над землёй. Ветер налетал яростными белыми порывами, запутывался в зарослях саксаульника, метался, завывал, как раненый волк. Но старому чабану чудилось, будто весь мир заворожён белоснежной тишиной…
«Сейчас отары, наверно, перевалили через тёмные барханы и находятся невдалеке от Горького колодца. Значит, если я пойду наперерез им, встретимся где-то возле Голой впадины…» – сосредоточенно размышлял старик.
Только после того как тронулся в обратный путь, он вспомнил, что должен был поспеть на колхозные торжества, которые устраивались в честь уходящих на пенсию.
Всю прошлую зиму небо скупилось на тучи. Пустыня ни разу не обрядилась в белоснежное одеяние. А теперь вот небо, опустившееся под тяжестью туч до самой земли, расщедрилось, как никогда…
Засыпала убаюкиваемая зимней стужей пустыня, мерно покачивалось большое деревянное седло под бегущей иноходью верблюдицей, но не наливались дремотной тяжестью плотные веки старого чабана. Гулназар-ага размышлял. Уже неделю преследовала его одна мысль, вот он и додумывал её – не любил, чтобы в голове копошились нераспутанные, неясные мысли.
Неделю назад к чабанам приезжал безусый лектор. Рассказывал он вещи слышанные-переслышанные, но чабаны народ гостеприимный, какой бы ни был захудалый лектор, а всё же в собеседники за чашкой чаю годился…
– Возьмём пример, так сказать, из местного материала, – говорил, между прочим, молодой лектор. – Всем известно, что Гулназар-ага всю свою жизнь был чабаном в глухой пустыне. А вот сын его – инженер. Теперь всем у нас открыты пути в интересную, полноценную жизнь.
– Погоди-ка, дорогой, – прервал его Гулназар-ага. – Не понял я: чем же это не интересна чабанская жизнь?
Лектор густо покраснел.
«Напрасно я из-за каких-то двух слов разошёлся и обидел гостя. Может быть, он просто оговорился», – пожалел он потом парня.
«Нет, не оговорился, – думал теперь, покачиваясь в седле, старик. – Это лектор с пренебрежением смотрит на барханы, те самые, на которые лет двадцать назад капнула кровь из его пупка. А как он за чаем расписывал городские рестораны! Чуть не подавился собственной слюной…»
Уж, наверно, Гулназар-ага больше его перевидал на своём веку разных ресторанов. На курортах бывал. Медали на Всесоюзной выставке получал. Но и после всего этого чабанская палка не казалась тяжёлой. Плохая это жизнь, ничего она не стоит, когда ради сомнительных удовольствий приходится каждый день мучить себя нелюбимой работой…
Луна ещё наводила на себя румянец перед тем, как отправиться на прогулку за дальние барханы, но ночной тьме не удавалось накинуть на землю свою чёрную кошму. Необычно крупные звёзды горели так ярко, будто старались и за себя, и за опоздавшую луну. К тому же им помогал отсвет чистых, белых снегов.
Любил старый чабан каракумские ночи. Как бы бури ни бушевали днём, как бы ни давил гнетущий зной, ночью их побеждали трезвый покой и чистота.
«Надо быть гнилым саксаулом, чтобы равнодушно устоять перед колдовскими чарами Каракумов, – подумал старик. – Каракум! Обитель моя Каракум! Как мне рассказать о твоей неброской красоте? Сравнить ли её с ухоженными руками красавиц доярок, что весной доят стриженых большеголовых овец? Или рассыпать похвалы твоим весенним лугам, покрытым яркими тюльпанами? А может, начать перечислять твои несметные богатства? Упомянуть о подземной нефти Каспия? Нет, моё скудное красноречие бессильно перед твоей красой и изобилием. Не стану превозносить тебя, стоя у глобуса и утверждая, что кет на земном шаре такого уголка, где бы не переливались солнечными бликами туркменские смушки, где бы не ценились наши цветистые ковры, где не славились бы статью и резвостью ахалтекинские кони…»
Гряды серебристо-серых барханов казались однообразными, как пепельные стада овец. Но старый чабан различал, знал, как называется каждая из окрестных возвышенностей, холмов, урочищ, так же как приметы любой из овец своей отары. Разве найдётся в Южных Каракумах такое урочище, где бы не дымился костёр, разожжённый Гулназаром-чабаном?!
Вот наконец из-за двугорбого холма выглянула луна. Это тот самый бархан, у зелёного подножия которого лет пятьдесят тому Гулназар был произведён из подпасков в чабаны. Старик-отец, вручая ему свою чабанскую палку, наказывал быть терпеливым, не ссориться с хозяевами. «Ибо силы ваши неравны», – предостерегал он, подразумевая под силой хозяина количество овец, которыми он владеет. Не подозревал тогда Гулназар, что скоро соотношение сил изменится самым простым путём: стада будут отданы тем, кто трудится.
«Отара наша вечная, – говорил тогда отец Гулназара, – как вечны Каракумы. Будут обновляться овцы и бараны в стаде, будут умирать наши верные помощники – собаки и рождаться новые щенки, будут сменяться их хозяева, но эта чабанская палка должна жить и передаваться из поколения в поколение…»
Палка твёрдая, тяжёлая, будто железная. Никто не знает её возраста и происхождения. Но всем известно, что она существует с тех пор, как существует чабанский род Гулназаров.
Художница-луна, взобравшись на самую макушку стройной песчаной акации, одиноко стоящей на высоком холме, мигом разрисовала бледное полотно пустыни причудливыми угольно-чёрными тенями.
По расчётам старого чабана, скоро он вступит в пределы древнего разрушенного города. Хоть это место для него связано с дорогими воспоминаниями, Гулназар-ага не старался приближаться к нему. Всякий раз, когда меж холмами внезапно всплывал веретенообразный купол гробницы, величаво дремавший в самом центре развалин, сердце Гулназар-ага выходило из повиновения, оно начинало бешено колотиться, как у юнца при первом свидании с любимой. И не удивительно: ведь в сердце жила память о том, что происходило здесь давным-давно, когда он тайно встречался с длиннокосой Сяхрагуль…
С тех пор на барханах и лугах сорок пять раз расцветали и увядали тысячеликие цветы Каракумов. Не встречает его больше на пороге дома улыбающаяся Сяхрагуль, оставившая ему сына и двух дочерей. Но Каракумы хранят память о ней, то здесь, то там напоминая Гулназару о неповторимых днях счастья.
Вон вдали уже возникли знакомые очертания купола. Сердце старого чабана застучало сильнее. И вспомнилось, как однажды на том месте, где сейчас находился, он на людях невзначай обнял свою жену. Молва о чабане, который поцеловал свою жену при народе, распространяясь от колодца к колодцу, перехлестнула через границы Каракумов. Удивляясь необычному поступку чабана, люди качали головами. Эх, не знали они, что за красавица жена у Гулназара-ага! Не ведали и того, что каждое возвращение из пустыни домой было для Гулназара истинным праздником, что он всегда переступал порог своего дома с таким трепетом, будто входил к невесте впервые после свадебного обряда.
От горизонта до горизонта распластался мёртвый город. Огромное пространство усеяно глазурованными и неглазурованными, расписными и однотонными, орнаментальными и гладкими черепками. Можно подумать, что здесь на протяжении сотен лет проводились всемирные состязания по битью кувшинов и разной посуды.
Скитаясь по пустыне, Гулназар-ага встречал немало таких разрушенных городов. И ни в одном из них не замечал уцелевших от разрушения дворцов или каменных жилых зданий. Лишь гробницы со следами былой роскоши молчаливо ожидали своей естественной смерти.
«Да, древние захватчики уничтожали то, что завоёвывали, избирательно они щадили лишь кладбища и гробницы», – подумал Гулназар-ага.
И вспомнил, как некоторые из первых грамотных людей, появившихся здесь лет сорок назад, винили в гибели этих древних городов пески.
«Да и сейчас многие боятся пустыни. Напрасно. Добр и плодороден мягкий песок Каракумов, если он лежит под травяным одеянием. И лишь когда сорвут с него покров, голый песок становится добычей бездумных ветров. Сколько ни ездил по пескам, редко встречал место, где бы ничего не росло. Даже на такырах приспособились сеять хлопчатник. А у Каракум-реки – так он называл канал – уже несколько лет разравнивают бульдозерами барханы и собирают отменные урожаи. Видно, не за горами то сказочное время, когда в Каракумах отарам будет тесно от садов и посевов…»
На краю мёртвого города старого чабана подстерегала беда. Если не считать пребывания в госпитале после ранения на войне, Гулназар-ага никогда не приходилось иметь дела с врачами и лекарствами. И вот он лежит на снегу с искажённым от боли лицом, не в силах шевельнуться. А в головах у него уныло, с виноватым видом стоит верблюдица. Это она сбросила своего хозяина, ступив в яму, занесённую снегом. О том, что он недолго был в беспамятстве, Гулназар-ага узнал по расположению луны, которая желтела на небе, словно яичный желток.
Старый чабан попытался встать, но острая боль в ноге не позволила. «Похоже, и вправду придётся обратиться к этой самой… пепсин», – вздохнул он, снова покорно укладываясь на снег.
И представил себя пенсионером. Вот он лежит под тенистым карагачем на ковре, подложив под локоть мягкую подушку, и пьёт чай. Свежие газеты уже прочитаны, и, движимый неясной надеждой, он то и дело оглядывается на калитку. Но нет, калитка не скрипнет. Люди на работе. Охая, старик поднимается и, опираясь на свою бывшую чабанскую палку, бредёт в чайхану. Там перед пузатыми чайниками, как обычно, сидят благообразные старики…
«Что за чушь лезет в голову!» – опомнился Гулназар-ага и снова попытался встать на ноги. Но и в этот раз ничего не получается. Больно, колени дрожат. Ничего не поделаешь, снова лёг.
– Неужели придётся распрощаться со всем этим?.. – говорил он, оглядываясь вокруг.
Ему показалось, что чёрная стена разлуки, словно пыльная буря, неотвратимо надвигается между ним и пустыней. Любимая степь останется за этой стеной. Она будет жить и цвести без него, Гулназара. Её будут любить и украшать без него…
Из глаз Гулназара-ага покатились слёзы. Такие же крупные и горячие, как в день смерти жены. И эти тёплые капли внезапно отрезвили старика, будто его окатили ведром студёной воды.
– Слезами обливаешься, Гулназар? Может, ещё шёлковый платочек на голову накинуть?! – выкрикнул он и, сорвав с головы папаху, утёр ею лицо.
Прикосновение ли мохнатой папахи успокоительно подействовало на него или собственный окрик, но Гулназар приободрился.
– Не знал я, оказывается, себя, – пробормотал старик. – Не думал, что у меня внутри припасён целый бурдюк слёз. Ничего, это из меня ненужная слабость вышла. Сил ещё хватит. Не дадут отару – останусь работать при колодце. Не у меня одного больное сердце, и другие трудятся. Председатель наш, к примеру. У него ведь работа тяжелей…
Эта мысль окончательно укрепила Гулназара в решении возвратиться в пустыню.
Только сейчас он вспомнил о лекарствах, которые хранились у него в хурджуне…
Гулназар услыхал едва уловимый рокот мотора и уверенно определил, что что это едет вездеход с буровой, где работал мастером его сын.
«А может, и сын едет?» – радостно пронеслось у него в голове. И впервые за последние годы поймал себя на мысли, что душой примирился с сыном и радуется встрече с ним.
Хотя старый чабан никогда ни словом об этом не обмолвился, всем было известно, что Гулназар-ага в обиде на своего сына, который, «сойдя с дедовских троп», вместо известной всему Каракуму чабанской палки взял в руки гаечный ключ…
Но с тех пор, как, открыв в сердце Каракумов подземное озеро с чудесной водой, сын его прославился на всю пустыню, Гулназар-ага стал замечать у себя привычку заводить разговор о подземных кладовых, таящихся в глубинах под песками.
А сейчас ему вдруг нестерпимо захотелось пожать руку сына, ощутить всем сердцем, что есть на свете родные сильные руки, работающие на благо Каракума. Он даже решил передать в эти руки дедовскую палку.
Вездеход ещё не остановился, а Гулназар-ага уже успел заметить в кабине щегольскую папаху зоотехника, заведующего фермой.
«Неужели едет за помощью? Что-то случилось?..»
Но, не обнаружив на лице у заведующего фермой признаков тревоги, старик вздохнул с облегчением.
Вслед за обладателем белой папахи из машины выскочил сын Гулназар-ага.
– Здравствуй, отец! Куда держишь путь? – осведомился он, здороваясь.
– Мой путь известен! Вот вы куда? Как овцы?
– Отары сразу повернули назад. Сейчас уже, верно, приближаются к месту. Спасибо буровикам! Это они вовремя подсобили! – сообщил зоотехник.
– А если так, куда спешите? – старый чабан подозрительно уставился на заведующего фермой. «Вместо того, чтобы в такую погоду быть при деле, носится по пустыне, ищет заблудившегося старого чабана Гулназара».
Старику уже мерещилось, как по Каракумам распространяется молва об этом постыдном для него случае.
Заведующий фермой, уловивший недовольные нотки в голосе чабана, сразу смекнул, в чём тут дело.
– Не думай, Гулназар-ага, – начал он, – что я по своей воле отлучился от поста. Так решили чабаны и буровики. Съезди, мол, в аул да по пути захвати Гулназара-ага…
– Откуда ты начал путь?
– От длинных хребтов.
– Ты бы мог ехать не таким окольным путём.
– Сейчас я тебе всё объясню. Путь этот – тоже плод коллективных раздумий. Сперва мы вспомнили, в какое время тебя проводили. Затем рассчитали, где и когда тебя могла настигнуть буря. По нашим расчётам вышло – возле Красивых пастбищ. Верно?
– Да-а..
– Затем обмозговали твой обратный путь, наперерез отарам…
Гулназар-ага слушал, а на душе у него всё теплело и теплело. Ему казалось, что в сердце засветилась радуга, которая своим благодатным сиянием обнажила всю тщету и мелочность недавних опасений, как бы не поползла о кем недобрая молва.
– Верблюда оставим сыну. А мы с тобой поедем в село, – решительно сказал заведующий фермой.
– Но вы же сами рассчитали – мне не в ту сторону… Ты поезжай в село. А мы с сыном поместимся на моём мохнатом «В-4», – кивнул старик на верблюдицу.
Сын в это время разглядывал чёрную яму, мятый снег вокруг неё и догадался, что здесь произошло. «Вот почему он не разжёг костра, – соображал он. – Домой бы ему сейчас».
То же самое думал и зоотехник. Он тоже обратил внимание на яму. Но оба знали, что нет на свете силы, которая заставит старого чабана свернуть с пути, так верно рассчитанного его друзьями.
Перевод И.Савенко
Аллаберды Хаидов
Барс

Острые отроги гор похожи на зубы в ощеренной пасти какого-то неведомого зверя. Они темнеют, когда случайное облако приглушает солнечный свет; они влажно и хищно взблескивают, когда вновь обрушивается на них поток света. Кажется, чудище затаилось и терпеливо ждёт свою добычу – ждёт час, день, вечность.
Но это чисто человеческая фантазия. У барса горные отроги не вызывают никаких ассоциаций. Он лениво лежит в тени на скальной площадке, почти неотличимый по цвету от каменной россыпи. Он сыт, полон истомы и мог бы даже замурлыкать от избытка благодушия. Однако понимает, что не к лицу властелину гор мурлыкать словно несмышлёному котёнку, и поэтому сдерживает своё желание.
Жёлтые, похожие на янтарь глаза барса полузакрыты. Но и сквозь узкие щёлочки он прекрасно видит всё, что творится в ущелье. Вон крадётся знакомая куцая лиса. Особой симпатии к ней барс не испытывает – сказывается врождённая неприязнь кошачьей породы к лисам, шакалам, волкам и прочей собачьей братии. Но куцую не трогает: привык к ней. Живёт она тихо и скромно. Правда, порой таскает остатки его, барсовой, добычи. Он это терпит: джейранье стадо, которое он «пасёт», велико, недостатка в свежей еде не ощущается.
За кем же охотится куцая? Ага, понятно: куропатка ведёт на водопой своих великовозрастных отпрысков, и лиса решила воспользоваться удобным моментом. В данном случае сочувствие барса на стороне лисы. Кекликов он недолюбливает. Мясо у них вкусное, однако слишком мало его и слишком много перьев. А главное – очень уж суматошны и бестолковы. Крадётся барс к джейранам, а куропатки в траве. Нет, чтобы потихоньку убраться с дороги, – сидят, затаившись, до тех пор, пока носом в них не ткнёшься. Тогда только улетают и шуму поднимают столько, что уж ни о какой охоте думать не приходится. Хоть бы всех их куцая передавила!
Барс непроизвольно подбирается, и мускулы его начинают подрагивать, словно это он охотится, а не лиса. Внимательно следит за куцей, уже откровенно заинтересованный исходом охоты. Вот лиса затаилась. Прыгнула. Поспешила! Улетели, только несколько пёрышек осталось. Ну и дура, ходи голодная. Барс презрительно отвернулся от неудачницы.
Солнце поднималось всё выше, тени перемещались. Жёлтое пятно света легло на край площадки, поползло к лапе барса. Покосился на пятно, подтянул лапу. Пожалуй, пора домой – пещера хранит ласковую прохладу ночи, там он сладко уснёт до захода солнца.
Последний раз окинув взглядом ущелье, барс приподнялся. И замер. Звук, заставивший его насторожиться, не оставлял сомнений – это перепуганные джейраны. Плотным табунком выскочили они из-за поворота и, не сбавляя скорости, промчались мимо. Барсу ничего не стоило поймать одного из них, но он был сыт, а для забавы не убивал.
Его в этот момент занимало другое: кто напугал джейранов? Его джейранов, его собственное стадо, на которое никто, кроме него, не имел права. Как-то попыталось оспорить его право семейство пришлых волков. Все вместе они были сильнее барса, но он выследил их поодиночке и убил – волка, волчицу и двух волчат-переростков. Потом заявился бродяга-барс. Это был бой на равных, и чужак убрался подобру-поздорову. Может, снова он? На этот раз так легко не отделается.
Барс усиленно принюхивался и раздражался от того, что ветер дует не к нему, а в сторону неведомого врага. Вспомнилось, что ещё на заре, далеко в низине, скрытой от взора зарослями арчи, кто-то долго выл и рычал дурным голосом. Может, это он гонится теперь за джейранами?
Наконец чуткое ухо уловило шорох катящихся камней, и барс сжался в тугой ком мускулов, готовых каждый миг бросить его на пришельца. Шорох становился всё явственней. Потом из-за поворота появился Двуногий. Барс вздрогнул и чуть расслабился.
Вышел второй Двуногий. Они присели на корточки возле большого валуна и стали смотреть по сторонам. Наклонились к земле. Может, они не джейранов вынюхивают, а его, барса? Но почему же они не чуют запаха, ветер-то дует прямо на них? И зайца не чуют, хотя тот совсем рядом с ними притаился.
Вот выпрямились, пошли по тропинке. Заяц сиганул в сторону и юркнул под арчовый куст. Двуногий дрогнул, замер. Испугался? Но зайца не боятся даже джейраны! А что, если рявкнуть на двуногих погромче, предупредить, чтобы убирались с чужого участка?
Но барс не рявкнул – что-то его удержало. Он весь дрожал от желания прыгнуть, когда двуногие проходили мимо, и опять же смутное опасение принуждало его не шевелиться, лишь плотнее прижиматься к скале.
Когда двуногие скрылись из виду, барс мягко, не шевельнув ни единого камешка, спрыгнул на тропу, понюхал следы. Они пахли так же, как прошлой веской, когда двуногие появились в его владениях.
Собственно, была ещё самая ранняя весна, и её хмельное дыхание туманило голову владыки гор, как и всему живому. Барс по натуре отшельник, он предпочитает и жить, и сражаться, и умирать в одиночку. Однако в конце зимы, когда оглушительным становится птичий гомон и свист, когда тёплой волнующей влажностью начинает дышать сама земля, даже барс начинает тяготиться одиночеством. Неприкаянно бродит он по своим владениям, часто не обращая внимания на лёгкую добычу, и не рычит, а громко мурлычит, как большая тоскующая кошка. Он беззастенчиво и бездумно нарушает границы чужих владений и не успокаивается, пока не услышит ответного мяуканья.
Любовный хмель проходит быстро. Расставаясь с подругой, барс уже посматривает ка неё холодновато.
Так было и в прошлый раз. Покинув мать своих будущих детёнышей, которых он, по всей вероятности, никогда и не увидит, барс возвращался в своё ущелье – усталый, голодный, полный стремления хватать и терзать живую плоть. Путь пролегал через предгорную низину, а там он вдруг увидел притаившееся незнакомое существо. Очертаниями и грязноватоблеклой окраской – жёлтое с зелёным – око напоминало черепаху. Но, во-первых, таких огромных и нелепых черепах ему ещё никогда не встречалось, во-вторых, пахло оно незнакомо: едко и отвратительно. Барс даже чихнул, потёр нос лапой и на всякий случай негромко зарычал, хотя существо, кажется, не собиралось на него нападать.
Осмелев, он походил вокруг, и ноздрей его коснулся новый запах. Запах вёл в горы, в ущелье! Барс вознегодовал и немедленно кинулся по следам пришельцев, пылая жаждой убийства. Следы становились всё отчётливее, к ним примешался запах джейранов. Для барса было ясно, что эта матка с детёнышем и что пришельцы идут именно за ними. Это был грабёж, наглое нарушение всех законов. Но тут ухнул и прокатился по горам удар грома, за ним – второй и третий. Горы, как барс, любящие покой, отозвались негодующим ворчанием, глухим гулом недовольства.
Барс остановился и недоумённо поднял морду. Он знал, что за грохотом обычно сверху льётся вода, это неприятно, и надо прятаться в укрытие. Однако небо было безоблачным, дождём к не пахло. Но гром остудил ярость зверя, вернув ему обычную осторожность, – он свернул с тропы и полез по скалам. И вовремя: на тропе появились двуногие. Один из них тащил на спине джейраниху, другой нёс две кривые палки.
До этого барсу не приходилось встречаться с людьми, и раздражение уступило место любопытству. Вслед за двуногими он спустился в лощину. Здесь он стал свидетелем новых чудес. Двуногие разодрали панцирь черепахи, и там образовалось нечто похожее на небольшую пещеру. В неё швырнули джейраниху, залезли сами. Черепаха хрюкнула, затряслась и вдруг дико взревела. Барс от неожиданности подскочил на месте, как мячик, и тоже рявкнул. Из черепахи сверкнул огонь, грохнуло, что-то со свистом стегнуло по веткам арчи, под которой укрылся барс. Он не знал, что это картечь, но почуял опасность и поспешил убраться подальше. Уже издали он видел, как черепаха тронулась с места, поползла всё быстрее и быстрее, пока не скрылась из глаз.
За год барс успел позабыть об этом происшествии. Ко вот двуногие появились снова, и в памяти зверя зашевелилось что-то недоброе и тревожное. Он пошёл по следу охотников.
Долго выискивали убежавших джейранов двуногие. Барс смотрел на них и удивлялся их глупости: чего они карабкаются по скалам, когда даже кеклики знают, что джейраны по выступам, опоясывающим гору с севера, давно уже вернулись на то место, откуда их спугнули. Он сам, когда не было особой охоты размять мускулы в погоне, пользовался этой глупой привычкой джейранов, чтобы, спугнув, залечь на их обратной тропе и взять прямо налетавшую на него добычу.
Уже совсем стемнело, когда охотники не солоно хлебавши, конвоируемые барсом, спустились из ущелья в низину. Они развели костёр, подвесили над огнём чайник, достали из машины снедь и бутылку водки.
А для барса наступило время охоты, но он колебался, издали наблюдая, как двуногие возятся вокруг своей черепахи. Охотиться не хотелось: слишком обильным был завтрак, к тому же не удалось отдохнуть.
Пока он гадал, в низине вспыхнул огонь. Барс удивился, так как свет был необычен – неравным, движущимся, словно живое существо. Зверь долго смотрел на него, пока любопытство не возобладало над всеми прочими чувствами. И тогда барс подобрался поближе, прилёг в зарослях ежевики. Двуногие ели, махали передними лапами, издавали громкие неприятные звуки. Особенно раздражали резкие, однообразно чередующиеся возгласы. Барс не понимал, что люди хохочут, и в горле у него рокотало сдерживаемое рычание.
Охотники кончили ужин. Один из них швырнул пустую бутылку в кусты ежевики. Барс воспринял это как нарушение нейтралитета и перестал сдерживать рвущийся из горла рык. Он не собирался нападать, он просто заявлял двуногим о своём присутствии и о своём праве на эту землю.
Двуногие заметались. Один из них схватил палку. Из палки вырвалось ослепительное пламя, грянул гром, и острая боль обожгла бедро барса. Он знал, каким горячим бывает накалённый солнцем камень, но эта боль была горячее, и барс большими прыжками помчался в темноту. За спиной ещё раз грохнуло, неведомый жук свирепо провыл над головой.
Барс не пошёл в свою пещеру, а отыскал себе укромный уголок в ближних скалах и всю ночь зализывал рану. Его слегка лихорадило. Перед рассветом он спустился к ручью, но много лакать не стал – вода расслабляет, а он должен чувствовать себя сильным для борьбы. Война объявлена не им, но она – объявлена. И теперь оставалось либо признать силу двуногих и покинуть обжитые места, либо сражаться. Барс предпочёл последнее.
Когда верхушки гор стали розовыми, двуногие зашевелились. Их голоса доносились до него, как дальний комариный писк, но барс зло прижал уши, оскалился и глухо заворчал.
Потом двуногие пошли в горы. Барс пропустил их и пошёл следом. Древний инстинкт, который ещё в незапамятные времена заставлял его предков уступать дорогу человеку, подсказывал, что враги сильнее его. И потому выбрал тактику, которую применил когда-то в борьбе с волчьей стаей, – он решил нападать на двуногих поодиночке.
Случая пришлось ждать долго. И постепенно боевой пыл остывал, уступая место усталости. Тем более, что раненая нога ныла, ступать на неё было больно, и голод начал заявлять о себе. Барс проглотил на ходу несколько ящериц, ко это была не пища, а так, недоразумение одно.
Всё же терпение его было вознаграждено: двуногие решили наконец разойтись. Один направился дальше по джейраньей тропе, а другой стал спускаться, пробираясь сквозь заросли арчи. Барс поколебался несколько мгновений и двинулся за ним.
Он полз между камнями и сам походил на продолговатый камень. Он ступал мягкими подушечками лап по мягкой траве, и шаг его был неслышным, как полёт совы. Если бы ещё чуточку улеглось раздражение, не так бы сосало в желудке и не болела нога!..
Охотник присел отдохнуть. Барс тоже прилёг. Их разделяло не больше десяти шагов – два прыжка, а может, и один. Щелчок зажигалки заставил зверя вздрогнуть и подобраться. Но страшного ничего не последовало, лишь дым пощекотал ноздри барса и заставил его сморщиться, чтобы не чихнуть. Он смотрел на красноватый уголёк сигареты в руке двуногого, а охотник, озираясь, обводил биноклем вокруг.
Неизвестно, что заставило старого козла тёке – ворчуна и отшельника – спуститься с кручи. То ли искал уединения после драки с молодым и сильным соперником, то ли потянуло на свежую травку. Барс услышал его шаги и сварливое бормотание, когда козёл был ещё далеко. Но он шёл прямо на барса, и надо было что-то предпринимать. Случись это в иной обстановке, зверь не задумался бы свернуть козлу шею, но сейчас перед ним противник, и барс пополз в сторону.
В этот момент заметил тёке и охотник. Он знал, что этот козёл находится под защитой закона, но он и на джейранов охотился незаконно весной, когда у них маленькие детёныши, да и слишком сильным было искушение заполучить великолепные рога.
Охотник затаился, ожидая, когда козёл подойдёт. И тот действительно появился из зарослей.
Произошло что-то нелепое и страшное. Грянул гром, козёл рухнул подкошенный, но тут же стремительное, как молния, тело рванулось из кустов и упало человеку на грудь, сшибло с ног, и тот покатился….
После первой атаки барс отскочил – свирепый и взъерошенный. Он ждал ответного нападения, чтобы с новой яростью сомкнуть клыки на горле врага. Но двуногий лежал не двигаясь. Барс слизнул с усов незнакомую на вкус кровь и вызывающе зарычал.
Двуногий продолжал хранить молчание. Барс осторожно подошёл, понюхал, потрогал лежащего лапой, каждую секунду готовый ударить. Двуногий был жив, но почему-то притворялся мёртвым. Он не пытался укусить хотя бы раз – так не поступает даже суслик: один из них, пойманный барсом, довольно крепко цапнул его за нос, прежде чем испустил дух.
С врагом, который не сопротивляется и не бежит, барс драться не мог. Его сородичи пользовались у людей дурной славой, но разве ведомо людям, что у барсов существует своё понятие чести?
Он повернулся, чтобы уйти. И увидел второго двуногого. И тотчас увидел бледное жало пламени, но не услышал выстрела. Просто рухнула на голову гора и – свет померк.
Потом он вскочил и прыгнул. Не на двуногого, а в промоину, оставленную горным потоком. Сзади трескуче рвался воздух, а он мчался всё выше и выше, к спасителям-скалам. Из-под его лап с шумом сыпались камки – он не обращал на них внимания.
Добравшись до пещеры, барс забился в самый дальний угол, Он лежал там, пока зашло солнце. Но и с наступлением темноты не оставлял убежище, а только подвинулся к выходу из пещеры. Ныла нога, жгло голову, на которой пуля, ударившись вскользь, вспорола кожу. Недоумение и растерянность томили барса. Ночь, когда он чувствовал себя неподвластным владыкой, сегодня таила в себе что-то новое, угрожающее, неодолимое. Ночь стала не союзницей, а врагом, подкрадывающимся со всех сторон.








