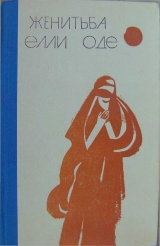
Текст книги "Женитьба Элли Оде (сборник рассказов)"
Автор книги: Юрий Белов
Соавторы: Валентин Рыбин,Ата Каушутов,Вячеслав Курдицкий,Сейитнияз Атаев,Огультач Оразбердыева,Ашир Назаров,Ходжанепес Меляев,Бекге Пурлиев,Агагельды Алланазаров,Байрам Курбанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Вот так будет лучше, – удовлетворённо вымолвил Реджепкули и пустил коня вскачь, чтобы догнать музыкантов. За ним помчалась чуть ли не целая сотня его джигитов…
Перевод Н.Золотарёва
Байрам Курбанов
Вода

Давно посохли травы в Каракумах, в дождевых ямах – ни капли воды, они – как пустые глазницы, дно их потрескалось от зноя. Нигде не найдёшь становищ – с наступлением лета отары ушли на дальние колодцы. И только старый чабан Чары задержался возле дождевой ямы Кулангырлана. Одиноко маячил на склоне крутого бархана его шалаш.
Дни становились всё жарче, зной и по ночам не давал вздохнуть полной грудью. Смолкли звонкие голоса жаворонков. Птицы прятались в скудной тени кыртыча и коджелика, беспомощно волоча по песку крылья. Серые барханы казались обсыпанными золой. Причудливо дрожало и переливалось марево, до неимоверных размеров оно увеличивало каждый кустик, каждый бугорок…
В яме Кулангырлана каким-то чудом до сих пор держалась вода. Покрытая ржавчиной, она блестела на самом дне. Воды оставалось на один водопой, не больше. Чары пригнал сюда отару и, пока овцы жадно утоляли жажду, стоял на вершине бархана.
Высокий, чуть сгорбленный, старик задумчиво смотрел вдаль, его лицо – смуглое, в крупных морщинах – было неподвижно.
Овцы уже напились и кучно легли отдыхать неподалёку от ямы, а старый чабан всё стоял и глядел туда, где полуденное марево, обманывая глаза, создавало полноводные озёра с шуршащими по берегам камышами. Чары думал о том, что нужно гнать отару дальше. Воды в Кулангырлане больше не хватит чаю вскипятить, не то что напоить отару…
– Чары-ага, твой чай остынет, – окликнул его Язлы, коренастый подвижный подпасок, вместе с которым они делили нелёгкую чабанскую жизнь.
Услышав про чай, Чары облизал сухие, потрескавшие губы и вдруг почувствовал, как хочется ему пить. Предвкушая удовольствие, он, не торопясь, подошёл к костру и сел на кошму. Лицо его было по-прежнему задумчиво, глаза прищурены.
– Будем перегонять отару, – сказал старик, принимая пиалу из рук Язлы и прихлёбывая душистый, крепко заваренный чай. – Больше нам здесь делать нечего.
– Будем перегонять, – кивнул Язлы и тоже отхлебнул чаю.
Он уже второй год ходил с таким уважаемым чабаном, как Чары-ага, и ему хотелось быть похожим на старика во всём – так же держать пиалу и носить тельпек, так же до тонкостей постигнуть сложное чабанское дело.
– Хайт, проклятые! – крикнул Язлы басом и с палкой в руках бросился разнимать вцепившихся друг в друга собак.
Под вечер чабаны разобрали свой шалаш, подняли отару и покинули яму Кулангырлана.
Путь их лежал в глубь Каракумов, к колодцу Зэкли.
Изнурённые долгой тяжёлой дорогой овцы с трудом держались на ногах. Плохо приходилось им на прежнем пастбище, жёсткая вода в колодце Зэкли была горько-солёной, она только обжигала губы, почти не утоляя жажды. Да и той оставалось очень мало. Надо было думать о новом пастбище…
С вечера Чары погнал отару в пески на поиски корма, а Язлы остался возле колодца. Поднявшись чуть свет, он пригнал верблюда и начал наполнять водой узкое и длинное деревянное корыто, потемневшее от времени.
Старый облезлый верблюд исполнял команду «вперёд», «назад», он размеренным шагом отходил от колодца на всю длину тонкой мохнатой верёвки, сплетённой из шерстяных нитей. Вода из кожаного ведра выливалась в корыто, и верблюд возвращался к колодцу, чтобы снова, отойти по тропинке, вытоптанной в плотном, слежавшемся песке. И так без конца.
Язлы не отходил от подъёмного колеса, он торопился, сердито понукая верблюда. Уже взошло солнце, и Чары вот-вот должен пригнать отару на водопой. А какой же он, Язлы, подпасок, если не наберёт к этому времени воды?
Наконец огромное корыто наполнилось. Довольный тем, что работа сделана вовремя и Чары-ага одобрительно взглянет на него из-под – лохматых седых бровей, Язлы отпустил верблюда пастись, а сам отдохнул немного возле колодца и принялся кипятить чай.
Солнце поднималось всё выше над барханами. Зной усиливался. «Где же Чары-ага, почему он до сих пор не гонит к воде овец?» – думал Язлы.
Чай в тунче [6]6
Тунче – медный сосуд для кипячения воды.
[Закрыть]несколько раз кипел, остывал и снова бил ключом, а Чары всё не появлялся. Это было не похоже на старого опытного чабана. Солнце стояло уже над головой, короткая тень падала под ноги. Полдень. Уж кто-то, а Чары-ага знает, что в самую жарищу не погонишь по пескам отару. Сам учил этому своего подпаска…
«Тут что-то неладно!» – тревожился Язлы. Он не мог усидеть на месте, поднимался на вершину самого высокого бархана. Много раз ему казалось – он слышит далёкий шум отары, лай свирепых овчарок. Но это ветер звенел в песках. Отары не было ни видно, ни слышно.
И Язлы решил отправиться на поиски. Может быть, Чары не нашёл корма, овцы теперь выбились из сил и не могут двигаться к колодцу? Да мало ли что может случиться там, в песках. И старый чабан ждёт, надеется на помощь Язлы.
Он навьючил на верблюда два бочонка с водой, подвязал покрепче на ногах чарыки. Следы найти было нелегко. Всю ночь дул ветер, мела песчаная позёмка.
Пройдя метров триста в ложбинке между барханами, Язлы утерял следы. Он погнал верблюда обратно и начал поиски от колодца. Дошёл до ложбинки и взял влево. Метрах в стах, у подножия одного из барханов, кустики травы были помяты, тут же виднелись еле приметные следы овечьих копыт. Выбрав направление, Язлы двинулся в путь.
Он надеялся встретить Чары с отарой где-нибудь поблизости, он ехал на верблюде, час, другой, а всё никого не встретил. На вершине песчаного перевала Язлы сделал остановку.
От палящего солнца совершенно негде было укрыться. Язлы опустился на раскалённый песок. Он не знал, что и думать. Где Чары, где отара?… Он сто раз задавал себе этот вопрос и не находил на него ответа. Заблудиться не мог. Нет, тут может быть только одно, только одно – Чары заболел, но не сказал ему об этом вчера. Язлы теперь даже показалось, что старик как-то неохотно пил накануне вечером чай и ел коурму [7]7
Коурма – жареное мясо.
[Закрыть], был малоразговорчив… И теперь он не в состоянии добраться до колодца!
Эта мысль заставила Язлы вскочить на верблюда. Он начал бить его по бокам палкой. Верблюд ошалело замотал головой и бросился во всю прыть с перевала в лощину. Но бежал он недолго. Вскоре устал, пошёл шагом.
Солнце уже повисло над извилистой линией барханов. Сколько километров осталось позади, Язлы и сам не знал. Верблюд еле переставлял ноги, а Язлы с трудом держался, то и дело хватаясь руками за бочонок, чтобы не упасть.
Тропу снова преградил высокий перевал, возле которого виднелись свежие следы овец. Измученный верблюд не смог сразу подняться на крутогор, остановился, тяжело упал на колени, лёг. Язлы соскочил на песок, дал верблюду немного передохнуть. А сидеть на месте нельзя. Надо искать, искать надо.
Он хотел пойти пешком на острый гребень бархана, но остановился в нерешительности. Что он там увидит, по ту сторону перевала? На песке – подыхающие овцы. Старик Чары уже не в силах подняться на ноги, он ползёт от одного кустика селина к другому, беспомощно останавливается и снова ползёт в сторону колодца, загребая жилистыми руками песок.
Удары палки подняли с земли верблюда, с трудом заставили его идти. Взобравшись на перевал, Язлы окинул взглядом широкую долину, открывшуюся перед ним. И вдруг прикрыл глаза рукой, потом резко отдёрнул её. Он не верил своим зорким, далеко видящим глазам…
На пологом склоне огромного бархана, под охраной лежавших на песке собак, паслась отара. Овцы вовсе не тыкались бессильно в песок, как он представлял себе, поднимаясь на перевал, а бодро щипали траву, переходя с одного места на другое. Всё было в порядке.
Откуда-то доносилась песня, весёлая, раздольная песня. Язлы прислушался, и голос показался ему знакомым.
– Да ведь это же Чары-ага! – воскликнул он удивлённо. – Сам Чары-ага!..
Старик стоял на бархане, опершись на длинную палку. Много троп измерили они вместе в пустыне, и ещё никогда не слышал Язлы от своего учителя такой весёлой песни. Весной, когда в Каракумах, радуя глаз, зеленела трава, цвели яркие цветы и было много воды для овец, Чары-ага тоже пел. Но даже тогда – не так, как сейчас. С какой это радости старик запел и почему он поёт, а не гонит овец к колодцу Зэкли?
Спрыгнув с верблюда, Язлы бросился к Чары. От старых людей он слышал, что солнце и жажда, случается, отнимают у человека разум…
Чары сделал несколько шагов ему навстречу, улыбнулся и обнял своего помощника. И Язлы был горд, что нашёл отару.
– Я воду привёз, – ничего не понимая, задыхаясь от волнения, прошептал Язлы. – Сейчас, яшули, потерпи ещё немного, я принесу тебе напиться.
Он бросился было, чтобы снять с верблюда бочонок, но Чары остановил его.
– Спасибо тебе за заботу, сынок, – сказал он. – Но ты зря вёз сюда солёную воду, которая только обжигает рот и почти не утоляет жажду. Здесь вода есть, и она получше, чем в колодце Зэкли! Я утром собирался за тобой. Посмотри-ка туда…
Старик протянул руку. Язлы взглянул на широкий проход между барханами.
– Что это?
– Разве ты не видишь? – спокойно ответил Чары. – Машина. Машина, которая роет канал. Пока мы с тобой черпали из ямы Кулангырлана ржавую, тухлую воду, а из колодца Зэкли – солёную, строители Каракумского канала дошли уже до наших пастбищ. И вот чудо, Язлы, – идут строители, и следом за ними идёт вода. Помнишь, ты читал мне газету? Амударьинская вода пришла на наши пастбища.
Затаив дыхание, он следил за тем, как земснаряд медленно, но верно прокладывает путь воде.
Ночевали они на склоне этого бархана, а утром Язлы отправился в обратный путь к колодцу Зэкли. Надо было разобрать шалаш. Отара откочевала на новое место. А свой шалаш они поставят недалеко от канала, недалеко от воды. Где-где, а здесь, в песках, ей знают цену.
Перевод П.Карпова
Ашир Назаров
Солнечный Свет

Мы пили чай в доме тракториста Союна Мовламова и беседовали. Беседа собственно носила несколько односторонний характер: Союн спрашивал, я отвечал. Хотя по логике вещей спрашивать полагалось бы мне, так как приехал я в этот отдалённый колхоз с заданием от редакции, и моя записная книжка была ещё далеко не полна. Несколько робких попыток перехватить инициативу в разговоре окончились неудачей.
Просидели мы так не один час. И когда наконец удовлетворённый Союн угомонился, у меня уже не достало решимости задавать свои вопросы. Зайду перед отъездом в правление колхоза, решил я, там мне подберут необходимые факты, кое что у меня уже есть – достаточно для очерка.
На тумбочке у окна щёлкнул и зашипел репродуктор. Потом мягкий грудной голос дикторши стал сообщать колхозные новости за день, и я обрадованно схватился за блокнот – они были как раз о том, о чём я собирался расспросить Мовламова. В заключение дикторша сказала:
– Сегодня в клубе состоится большой концерт нашей художественной самодеятельности под руководством Арслана Галпакова. После концерта будет демонстрироваться кинофильм «Обыкновенный фашизм».
Репродуктор снова зашипел и щёлкнул. Наступила тишина. Сцеживая из чайника в пиалу последние горькие терпкие капли, Союн пробормотал:
– «Обыкновенный»… чтоб тебя…
Конца фразы я не расслышал, но и без того смысл был ясен – что кроме можно сказать о фашизме?
– Пойдём в клуб? – спросил Союн.
Я заколебался.
– Пойдём, пойдём, не пожалеете. Оркестр у нас хороший и хор отличный – спасибо Арслану. Да и сам он как заправский бахши поёт – стоит послушать.
– Он что, специально учился музыке?
Союн неодобрительно крякнул, словно я сказал какую-то бестактность.
– Учился… Научили его фашисты под Кюстрином! Так научили, что… Однолетки мы с ним, понимаете? Росли вместе, в школу вместе бегали, в альчики играли. Но он всегда меня обыгрывал – глаз у него точный был. А потом разошлись наши интересы: он в педучилище пошёл, я – по сельскому хозяйству. Когда война началась, меня не взяли: камни какие-то в почках обнаружились. А он пошёл на фронт. Сражался геройски, награды получал, офицером стал. Мы его письма всем колхозом в сельсовете читали. А потом вот случилось это…
Союн закурил и замолчал, пыхтя сигаретой.
– Да не тяни ты, бога ради! – не выдержал я. – Что он, калекой вернулся, что ли? Без рук, без ног?
– Слепым он вернулся! – Союн смял окурок в пепельнице. – Ну, как, идёте в клуб или отдыхать будете?
Я поднялся.
– Собирайся быстрее и догоняй нас! – крикнул Союн жене. – Мы на концерт пошли.
Влажным дыханием весны повеяло с полей. Фруктовые деревья стояли в сплошной кипени цветов. Солнце уже село, но было ещё светло, а алое многоцветье заката высвечивало западный край неба. Краски были настолько чисты и градация их так непередаваемо богата, что невольно подумалось: нет для человека большего счастья, чем лишиться возможности видеть всю эту красоту мира – огромного, яркого и прекрасного. Можно представить себе всё: что ты глух, нем, лишён возможности двигаться, но нельзя представить себя живущим за сплошной – без единого проблеска! – стеной мрака. От одной этой мысли можно с ума сойти…
Со всех сторон по направлению к клубу двигались люди. Шла не только молодёжь, шли пожилые, и даже старики, в одиночку, группами, семьями, шли принаряженные, как на праздник, оживлённые, словно и не было сегодня многотрудного дня весенней полевой страды.
– Крепкий он был, – задумчиво произнёс Союн, как бы продолжая наш разговор. – Из него слезу выжать было – что из камня воду. Один только раз и видал я, как он заплакал…
Я деликатно промолчал, ожидая, что Союн закончит свою мысль. Но он не торопился. И тогда я задал наводящий вопрос:
– Он один живёт?
– Зачем один? – удивился Союн. – Женат. У него ребят – дай бог каждому: восемь душ и один другого лучше! Послушайте, а правду говорят, что, когда муж и жена очень сильно любят друг друга, дети рождаются красивыми?
Я пожал плечами.
– Не знаю. Возможно, что и так, хотя, по-моему, все дети – красивы.
– Не спорю, – согласился Союн. – Но у него – особенные, как на подбор. Наверно всё-таки правду люди говорят.
Клуб заполнился быстро.
Мы отыскали местечко поближе к сцене. Мовламов положил на соседнее кресло шапку: занято, – вытягивая шею, стал высматривать жену, так и на нагнавшую нас по дороге к клубу. Наконец увидел, замахал рукой.
– Сидите, – отказалась она, – я здесь с ребятами останусь.
Союн хотел что-то возразить, но тут в зале раздались аплодисменты, и мы повернулись к сцене.
Там уже рассаживался оркестр дутаристов. Солист настраивал свой инструмент, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. Это был красивый, плечистый, по-военному подтянутый человек в новеньком, с иголочки костюме и чёрных очках. Весь его облип Совершенно не соответствовал представлению о слепом калеке, и я не сразу понял, что это и есть Арслан Галпаков.
Добившись нужной тональности от дутара, он заиграл, и оркестр подхватил за ним звучную мелодию Чары Тачмамедова «Мои друзья». За ней последовала вторая мелодия, третья… Я зачарованно слушал и смотрел на чуткие пальцы солиста, на его одухотворённое лицо. Я не видел перед собой человека, обойдённого судьбой, угнетённого своей неполноценностью. Нет, не видел. Потому что в музыке, которая рождалась под пальцами дутариста, искрилось яркое солнце, качались под ветром багряные чашечки весенних маков, взблескивала вода горного ручья, плыли воздушные облака по бездонной сини неба, скакали по траве игривые жеребята. Радостью, полнокровной радостью жизни и счастья звенел и пел дутар Арслана Галпакова.
А потом запел сам Арслан. У него был не очень сильный, но исполненный такого проникновенного чувства голос, что я вполне разделял восторженность слушателей и вместе со всеми аплодировал каждой песне, не жалея ладоней.
Да, этот человек не мог быть и не был пасынком жизни.
Не успел окончиться концерт, как киномеханик включил радиолу и первые пары молодёжи закружились в проходе между креслами и сценой.
Мы вышли покурить на крыльцо.
Здесь Союн и познакомил меня с Галпаковым.
Арслан оказался очень живым и остроумным собеседником, и вскоре от моей первоначальной скованности, равно как и от желания сочувствовать, не осталось и следа.
Во время киносеанса мы сидели рядом. Изредка я посматривал на соседа. Он сидел в свободной, непринуждённой позе. Но по его сосредоточенному лицу и нервно вздрагивающим крыльям носа чувствовалось, что он сейчас видит значительно больше, чем происходит на экране, что он – не здесь, в вале колхозного клуба, а там, где ахает от взрывов земля и скрежещут гусеницы танков, где безымянный капитан поднимает в атаку роту. Это он, капитан Арслан Галпаков, поднимает своих бойцов для последнего удара по обыкновенному, по трижды на веки веков проклятому фашизму!..
Я видел этот фильм ещё в Ашхабаде – сначала в кинотеатре, потом на экране телевизора, и тем не менее острота впечатлений сохранилась прежняя. Мне тоже временами казалось, что на плечах моих майорские погоны, а в руке – пистолет, что не проекционный аппарат, а пулемёт стрекочет в темноте за спиной и луч прожектора протянулся через зал до экрана, оживляя давно минувшие годы, оживляя пройденное и пережитое.
Когда мы вышли на улицу, я с невыразимым облегчением вдохнул ночной воздух, ощутив, что сквозь аромат цветущих садов пробирается не гарь пожара, не кисловатый запах тротила, а добрый, мирный, домашний дух тамдыра, что не танки, а трактора рокочут где-то далеко на поле, и в небе сияет просто луна, а не осветительная ракета, «люстра», как мы их называли.
– Арслан, давай зайдём к нам, выпьем по пиалке чая, – предложил Мовламов. – Вот товарищ из Ашхабада тоже фронтовик – побеседуете с ним, расскажешь ему о себе.
Порыв ветра прошумел в ветвях деревьев, по спокойному лицу Арслана скользнула тень.
– Не люблю я болтать, – ответил он неохотно и тут же, спохватившись, поправился: – Извините… рассказчик из меня не шибко складный, да и старое не воротишь… Однако, как говорится, гость старше отца… Только уж милости прошу в мой дом – он поближе.
Мы согласились.
Не первой молодости, но удивительно сохранившая свою миловидность и статность женщина – жена хозяина – расставила перед нами чайники и пиалы и ушла, пообещав скорый ужин. Я перехватил её взгляд, брошенный от двери на Арслана, и невольно вспомнил слова Союна о красивых детях. И ещё я подумал, что нет, вероятно, большего счастья, чем заслужить вот такую любовь, над которой не властны ни житейские невзгоды, ни время, – ничто.
Арслан рассказывал.
Сперва он был суховат и сдержан. Однако постепенно разговорился и уже, казалось, просто вспоминал вслух, вспоминал для себя, позабыв о гостях.
…Военная судьба благоволила к нему: за всё время на фронте он ни разу не был ранен, даже легко. Он был отважен, хотя и не слишком верил в солдатскую примету, что смелых, мол, и пуля сторонится – рядом погибали безусловно храбрые, большого мужества люди. Просто ему везло. Он получил медаль «За отвагу», потом – Красную Звезду, потом – орден Отечественной войны. На его солдатских погонах появились сперва сержантские лычки, за ними – офицерские звёздочки.
Беда пришла внезапно, как и всегда она приходит, хотя б её ждали с минуты на минуту. Был бой. Рота шла в атаку. Громыхнул разрыв снаряда, с треском разорвав перед стеной тьмы полотнище дня. И мир исчез.
Вновь ощутил себя Арслан уже в госпитале. Он слышал шаги, голоса в палате, улавливал запахи лекарств, чувствовал вкус пищи, веяние сквозняка из открытой форточки, прикосновение рук санитарки и сам мял в пальцах жёсткое полотно госпитальной простыни. Мир возвращался – мир звуков, запахов, осязания, вкусовых ощущений, биения мысли. Не возвращался только свет – мир красок и образов навсегда остался за чёрной стеной тьмы.
Это были дни кошмаров, метания и безнадёжности. Нет, он не бился в истерике и не требовал пистолет, хотя неизвестно, как бы он поступил, попади ему б руки оружие. Он то погружался в безмолвную бездну отчаяния, то грыз подушку и глухо, тихо рыдал, сдерживая клокочущие в горле спазмы. Сон приходил как великое благо. А проснувшись, Арслан усиленно моргал и протирал глаза, лишь через несколько мгновений соображая, что всё это – ни к чему, всё напрасно. И снова накатывала тяжёлая тоска.
Постепенно он затих и успокоился, насколько можно было успокоиться в его положении. Умирать он не собирался, но как жить дальше?
Он думал о матери. Для неё сын желанен всегда, каким бы он ни вернулся. Но страшно было возвращаться искалеченным. Конечно, он не сядет на материнскую шею – ему назначат пенсию, он станет работать…
Работать? А на какую работу способен слепой? Был в их селе Кешик-ага, ослепший от трахомы. Постукивая перед собой клюшкой, он медленно бродил от дома к дому. К нему относились уважительно, усаживали на почётное место, поили чаем, слушали немудрые стариковские рассказы, соглашались с его советами. Не потому слушали и соглашались, что это было интересно и правильно, скорее из молчаливого сочувствия к человеческому несчастью. Арслан тоже жалел старика и одновременно испытывал какую-то робость: казалось, не живой человек, а бесплотная тень ходит по земле, казалось, какая-то невидимая таинственная преграда отделяет слепого Кешика-ага от остальных людей. Неужели и ему суждено то же самое?
Он содрогался от этой мысли и снова думал, думал, думал. Он перебирал в памяти всё, что только могло подсказать ему воображение. Об одном лишь он боялся, не хотел, не смел думать – о Гулялек. Она для него уже не существовала, она исчезла за той снарядной вспышкой, на том поле, под Кюстрином…
Разрешиться сомнениям помог сосед по палате – безногий флотский старшина. Это был самый беспокойный из раненых – скрипя костылём, целый день скакал он по палате, балагурил с санитарками, рассказывал невероятные фронтовые истории, вслух строил фантастические планы своего будущего. На первых порах он невыносимо раздражал Арслана, но он же всё-таки и помог восстановиться душевному равновесию.
Как-то старшина подсел на койку к Арслану и полюбопытствовал:
– У тебя что, капитан, ни родных, ни знакомых не имеется в наличии?
– Имеется, – хмуро ответил Арслан, не расположенный к разговорам.
– А почему писем не получаешь и сам не пишешь?
Арслан взорвался.
– Вот сейчас сяду и напишу! Мелешь сам не знаешь что… Ты вприжмурку писать не пробовал?
– Видали чудака? – удивился моряк. – А локоть друга на что? Диктуй – я тебе в полном аккурате всё на бумаге изложу!
– По-туркменски изложишь? – спросил Арслан и злорадно усмехнулся, уловив замешательство флотского.
Помолчав, тот спросил уже не так уверенно:
– Что ж, у вас русского никто не разумеет, что ли?
– Ну, уж тут ты меня извини! – отрезал Арслан. – Мать у меня – туркменка!
Однако старшина оказался не обидчивым и настырным. Арслан, сам не понимая, как это получилось, выложил ему всё. И сразу на душе стало как-то легче, просторнее, словно вынырнул из воды на поверхность.
Выслушав Арслана, моряк крякнул, спустил его по семиэтажной лесенке и решительно заявил, что только самый распоследний галах может говорить такие глупые слова, когда дома его ждёт старушка-мать. Что касаемо девушки, то тут он, старшина, гарантий дать никаких не может, девушка она есть девушка и вольна поступать, как ей сердце укажет. Да ведь ка ней, на одной, свет клином тоже не сошёлся. А что до остального прочего, подытожил старшина, то руки-ноги есть, голова имеется – прибьёшься к своему месту в жизни, не пропадёшь.
Старшина был горазд не только на слова. Он ухитрился разыскать в госпитале раненого туркмена, привёл его в палату и заставил Арслана диктовать письмо. Когда из села пришёл ответ, попросил перевести его по русски. Словом, стал он для Арслана ближе близкого, и, когда его выписали из госпиталя, Арслан тужил, будто с братом родным расстался.
Вскоре выписали и Арслана.
Он много думал о встреча с матерью и земляками, готовил себя к ней, перебирая все, казалось бы, возможные варианты. И всё же неспокойно, смутно было на сердце, тем тревожнее, чем ближе становился дом.
Из всех ушедших на фронт односельчан он возвращался первым. Встретили его без малого всем колхозом. Не играл оркестр, не было торжественных речей, но от тёплых, сердечных слов приветствия, которые неслись со всех сторон, волнение всё туже стискивало горло Арслана. Ведь никто, ни один человек не упомянул о его несчастье, не раздалось ни одного слова жалости! К нему обращались так, будто ничего-то с ним и не случилось!.
Он не видел, как, теряя с головы платок и старенькие ковуши с ног, бежала к нему мать. Он только почувствовал, как прильнуло к нему её сухонькое тело, прижалось к груди лицо, и гимнастёрка на груди стала горячей и мокрой. Он боялся, что не совладеет с волнением, и поэтому молчал. Молчал и гладил простоволосую материнскую голову.
Он вслушивался в голоса сельчан и радостно узнавал то одного, то другого. Тьма постепенно отступала, серела, сквозь неё уже просвечивали какие-то неясные контуры.
– Ты не думай, парень, что прохлаждаться приехал, – гудел под его ухом басок, и Арслан убеждался, что по голосу очень явственно представляет себе облик председателя колхоза, его манеру теребить в пальцах редкую бороду. – Не думай о вольных хлебах. Мы уж тут прикидывали, какую тебе должность сообразно твоему званию капитанскому назначить. Так что долго бездельничать не дадим, не рассчитывай.
«Дорогие мои! – хотелось крикнуть Арслану. – Да не собираюсь я бездельничать!.. Спасибо вам за всё!..» Но он не решался заговорить и лишь гладил материнские волосы да делал глотательные движения, стремясь освободиться от удушья.
Вдруг голоса как-то очень быстро, один за другим, затихли. Молчание удивило и встревожило Арслана, не понимающего, что случилось. На секунду кольнула шальная мысль, что всё это – только сон, что его протянутая рука сейчас нащупает жёсткую госпитальную простыню…
Он протянул в пустоту руку, и тотчас её коснулась другая рука – очень маленькая, очень нежная. Арслан вздрогнул, как от удара электрического тока, а тихий голос Гулялек сказал:
– Здравствуй, Арслан… Мы тебя так ждали!
И тогда Арслан заплакал…
Мы молчали, взволнованные этой бесхитростной и светлой человеческой историей. Арслан снял свои тёмные очки и сидел, закрыв лицо ладонью. Пальцы его дрожали.
– Да, сильно вы её любили, – сказал я.
Он встрепенулся, тряхнул головой.
– Не в этом дело, что любил… Передо мной, понимаете, словно бы солнечный свет засиял. Как-то сразу я поверил в свою полноценность, в свои возможности, в будущее. Я снова был в строю, вместе со всеми. Вот потому и не сдержался…
Его лицо было уже спокойно, ка губах появилась лёгкая улыбка – он как бы извинялся за то, что так просто раскрыл перед нами сокровенные уголки своего сердца.
А я смотрел на его глаза – живые, ясные, без единого изъяна глаза – и верил, что они видят и солнце, и горы, и людей, и полевые маки, и влажную черноту пашни – видят всю огромную, всю сказочную красоту мира.
Перевод В.Курдицкого








