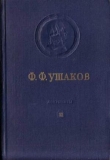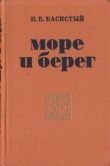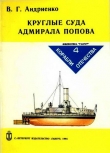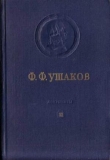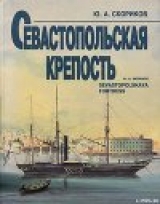
Текст книги "Севастопольская крепость"
Автор книги: Юрий Скориков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Крепость с 2 по 14 сентября 1854 г.
Сражение на реке Альме. Затопление кораблей на фарватере. В. А. Корнилов и Э. И. Тотлебен. Организация оборонительных работ. Введение осадного положения. Состояние сухопутной обороны
Севастопольская крепость не была подготовлена к отражению высадившегося десанта. Следовало остановить войска союзников на пути к городу и дать возможность защитникам главной военно-морской базы укрепить свои позиции. Главнокомандующий князь Меншиков имел в своем распоряжении на территории Крымского полуострова около 51 тысячи человек сухопутных войск, из них менее 30 тысяч находилось вблизи Севастополя, остальные размещались в Керчи, на Перекопе и в других местах. Для сражения с экспедиционным корпусом князь Меншиков выбрал удачную позицию на реке Альма: левый фланг позиции у устья реки защищал холм с крутым, обрывистым склоном. Противник, продвигаясь к Севастополю, должен был форсировать под артиллерийским и оружейным огнем речку, а затем атаковать русские войска, взбираясь вверх по склону холма. С 2-го сентября на месте будущего сражения стали сосредоточиваться войска. У них было достаточно сил и средств, чтобы должным образом укрепить выбранный рубеж, однако был сделан только эполемент на 12 орудий в районе главной дороги; ни траншей, ни завалов, ни брустверов не возводили, так как главнокомандующий не придавал этому серьезного значения. Был допущен и второй крупный просчет, имевший в дальнейшем роковые последствия: посчитав кручи склона холма на левом фланге неприступными для противника, главнокомандующий не поставил там ни одного солдата.
В сражении, начавшемся 8 сентября 1854 г., со стороны русских участвовало около 33 тысяч человек с 84-мя полевыми орудиями, союзники же имели почти 62 тысячи человек и 134 полевых орудия. Русские войска, нередко побеждавшие противника и при худшем соотношении сил, на этот раз столкнулись с хорошо вооруженным и сильным врагом. Дело в том, что в русской армии нарезное оружие только еще начало поступать на вооружение. В армии Меншикова, сражавшейся на реке Альме, было всего 2 тысячи штуцеров, а у противника – до 30 тысяч; русские гладкоствольные ружья поражали врага на расстоянии 300 шагов, а штуцера в четыре раза дальше. Построенные в колонны русские полки сразу попали под губительный артиллерийский огонь англичан, наступавших в центре и на правом фланге. Только при сближении и в штыковом бою русские солдаты могли проявить свои лучшие качества и отбросить противника назад. Тем временем наступавшие на левом фланге французы, с трудом вскарабкавшись по круче, оказались на холме, и будь здесь хоть небольшое количество наших войск, они легко сдержали бы французские дивизии. Теперь же русские войска оказались под перекрестным штуцерным огнем и несли большие потери. Князь Меншиков пытался исправить положение, но сражение фактически вышло из-под контроля главнокомандующего и было проиграно. Русские войска отступили, потеряв в бою около 6 тысяч человек, в том числе 5 генералов и почти 200 офицеров. Экспедиционный корпус потерял 3,5 тысячи человек.
Сразу после отхода русских войск к реке Кача князь Меншиков приказал приехавшему туда начальнику штаба Черноморского флота вице-адмиралу Корнилову затопить несколько старых кораблей на входе в Севастопольскую гавань между Александровской и Константиновской батареями. Он справедливо полагал, что эта мера лишит союзную эскадру возможности предпринять попытку ворваться на рейд и позволит сосредоточить все силы флота на сухопутной обороне города. Руководить обороной Северной стороны, которая, по мнению главнокомандующего, будет атакована в первую очередь, было поручено вице-адмиралу Корнилову, а подготовка к обороне южной части города – командиру эскадры вице-адмиралу Нахимову. Привлечение адмиралов к командованию сухопутной обороной объяснялось весьма просто – все основные силы и средства для укрепления Севастополя мог дать только флот. На 1 сентября 1854 г. во флотских экипажах числилось 18 501 человек и в командах на оборонительных линиях 1612 моряков. На судах и в арсеналах имелось около трех тысяч морских орудий на станках, в то время как на складах было всего около двухсот крепостных пушек на высоких лафетах, да и то малого калибра. Наличие у союзников осадной артиллерии большого калибра вызывало необходимость устанавливать на укреплениях орудия соответствующей мощности для контрбатарейной борьбы, а пушки и мортиры 24-фунтового и большего калибра имелись только у моряков.
Утром 9 сентября начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Корнилов собрал на военный совет флагманов и командиров судов. Объявив собравшимся, что союзники могут в ближайшие дни занять слабо укрепленную Северную сторону Севастополя и сжечь артиллерийским огнем стоящие на рейде суда, Корнилов предложил выйти в море и атаковать неприятельский флот. Он полагал, что в случае удачи корабли противника будут рассеяны, а при неблагоприятном ходе сражения надо сцепиться с вражескими кораблями и взорвать пороховые погреба на судах. Это оставит армию союзников без поддержки флота и даст возможность удержать Севастополь до прибытия подкреплений, которые и уничтожат экспедиционный корпус. Однако соотношение сил было неравным. Союзники имели 89 военных судов, в том числе 50 колесных и с винтовыми движителями, а Севастопольская эскадра – 45 военных судов, из них 11 колесных пароходов. Таким образом, неприятель превосходил русские силы почти в два раза как по количеству единиц, так и по артиллерийскому вооружению. А многократное преимущество неприятеля в маневренных и паровых судах лишало Севастопольскую эскадру возможности произвести внезапное нападение. Учитывая это, большинство адмиралов и офицеров, принимавших участие в военном совете, высказались против выхода кораблей с Севастопольского рейда.
Вскоре после проведенного совета вице-адмирал Корнилов был вызван к князю Меншикову, прибывшему в Севастополь. На повторное приказание главнокомандующего затопить корабли Корнилов заявил, что "как вице-адмирал и генерал-адъютант исполнения этой последней меры на себя не примет". Ответ исполнительного и пользующегося отличной репутацией на флоте адмирала удивил Меншикова. Он объявил, что выполнение приказания возложит на вице-адмирала Станюковича – командира порта и военного губернатора города, а генерал-адъютанту Корнилову предложил выехать в Николаев. Но Корнилов не мыслил оставить Севастополь, его хладнокровие и рассудительность одержали верх над эмоциями. 11 сентября Корнилов направляет официальный рапорт князю Меншикову: "Имею честь донести до вашей Светлости, что корабли "Три святителя", "Уриил", "Селафаил", "Варна", "Силистрия" и фрегаты "Флора" и "Сизопль" согласно приказанию Вашему затоплены на здешнем фарватере. Подлинный подписал генерал-адъютант Корнилов"[81]81
Камовский А. Некоторые ошибки и заблуждения в рассказах и сочинениях о Крымской войне. СПб., 1859.
[Закрыть].
В ночь с 11 на 12 сентября главнокомандующий князь Меншиков покинул Севастополь и отвел армию к Бахчисараю. Он мотивировал это необходимостью сохранить войска, чтобы не дать союзникам захватить весь Крым. Город, в котором осталось только восемь батальонов резервной бригады и один саперный батальон, был фактически брошен на произвол судьбы. Моряки начали срочно формировать восемнадцать батальонов из личного состава флота.
Тем временем экспедиционный корпус также начал движение, но, вопреки всем ожиданиям, вместо наступления на Северную сторону он устремился в обход бухты к южной части Севастополя. Такое решение объяснялось рядом обстоятельств. Главная причина заключалась в том, что, понеся значительные потери в открытом поле на реке Альме, союзники опасались более кровопролитных и упорных сражений на рубежах сухопутных укреплений города. На кратчайшем пути к бухте находилось только устаревшее Северное укрепление, но выйдя к Бельбеку, экспедиционный корпус мог наблюдать, как справа и слева от этого верка возводятся и вооружаются новые батареи, – возникала сплошная линия обороны, поддерживаемая мощной артиллерией стоящих на рейде русских кораблей. К тому же через бухту могли подходить русские подкрепления с Южной стороны, что грозило наступлению союзных войск превратиться в длительную осаду, но предвидя и такой ход событий, союзные войска имели осадные орудия и необходимые инженерные средства. Однако при осаде Северной стороны тыловой базой становилась Евпатория, которая находилась на значительном удалении, и чтобы отражать фланговые удары русской армии вдоль линии подвоза боеприпасов и прочего обеспечения, корпусу пришлось бы выставить большое количество войск, а войск не хватало. В то же время на Южной стороне Севастополя укрепления отсутствовали на большей части обвода города, а тыловые базы можно было развернуть поблизости от позиций в Балаклавской, Камышовой и других бухтах. Полученное в последний момент известие о затоплении русских кораблей у входа в бухту укрепило союзников в их решении, поскольку возможность прорыва англо-французской эскадры на рейд для подавления русских судов, имевших первостепенное значение при обороне Северной стороны, теперь исключалось. Однако действия экспедиционного корпуса оказались далеко не бесспорными. Такой вывод можно сделать при анализе состояния обороны Севастополя в сентябрьские дни.
В начале сентября 1854 г. князь Меншиков поручил подполковнику Э. И. Тотлебену, прибывшему 8 августа из Дунайской армии в его распоряжение, подобрать позиции для усиления обороны Северной стороны. Эдуард Иванович Тотлебен имел за плечами большой опыт военного инженера. Окончив Николаевское инженерное училище, он два года проходил службу в инженерных командах, где освоил крепостное строительство. В 1839 г. он по собственному желанию перевелся в гренадерский саперный батальон и на протяжении девяти лет изучал минное дело, возведение полевых укреплений, осадные работы и прочие многочисленные функции саперных войск. В 1848 г. капитан Тотлебен командируется в действующую армию на Кавказ. Здесь он отличился в боях, участвовал в штурме укрепления Ахты против десятитысячного отряда горцев Шамиля, а в последние четыре месяца заведовал всеми осадными работами. Служба в действующей армии на Кавказе помогла Тотлебену развить тактические способности, чувство местности и понимание того, что использование выгодных позиций позволяет и слабым войскам бороться с сильным противником, а главное, воспитала в нем такие качества, как мужество, отвага и сила воли.
Вернувшись в 1850 г. с Кавказа, капитан Тотлебен около года состоял адъютантом при начальнике инженеров генерале Шильдере в Петербурге, а затем перевелся в гвардейский саперный батальон, где заведовал практическими занятиями. В начале Крымской войны генерал Шильдер, получив назначение начальником инженеров в Дунайскую армию, предложил Тотлебену прибыть на театр военных действий. В январе 1854 г. Э. И. Тотлебену присваивают звание подполковника саперных войск и с середины февраля он уже в действующей армии. При осаде Силистрии подполковник Тотлебен назначается траншей-майором, а после ранения генерала Шильдера занимает его место. С началом осадных работ начальник инженеров Э. И. Тотлебен большую часть суток проводил в траншеях. 7 июня 1854 г. под его руководством минеры взорвали турецкий форт Араб-Табия, создав условия для успешного штурма Силистрии. Войска готовились к атаке, но в это время пришел приказ отступить на левый берег Дуная, а затем под давлением Австрии русской армии пришлось покинуть пределы Дунайских княжеств.
Командующий Дунайской армией князь Горчаков, желая помочь своему старому товарищу князю Меншикову, решает направить в Севастополь подполковника Э. И. Тотлебена. В сопроводительном письме он характеризует Тотлебена как лучшего ученика генерала Шильдера, разумного, деятельного и храброго офицера.
Но главнокомандующий князь Меншиков встретил подполковника Тотлебена очень холодно и предложил вернуться назад, так как считал, что никакой высадки десанта союзники осенью не предпримут, а в его подчинении имеется саперный батальон, укомплектованный офицерами. В конце концов он милостиво разрешил подполковнику задержаться для ознакомления с Севастопольской крепостью. Так подполковник Тотлебен оказался в самом центре военных действий.
Трудолюбивый офицер быстро составил план усиления обороны города, наметил конкретные меры для его исполнения и свои соображения изложил в записке, поданной вице-адмиралу Корнилову[82]82
Описание обороны Севастополя. Составлено под руководством генерал-адъютанта Тотлебена. В 2 ч. СПб., 1863. Ч. 1, отд. 1. С. 201.
[Закрыть]. Тотлебен предусматривал вести оборонительные работы на Южной стороне, считая возможными действия неприятеля и в этой части города. Основные предложения его заключались в следующем. Для укрепления Южной и Северной сторон надо выделять ежедневно по тысяче солдат; кроме работающих на Северном укреплении саперов, сформировать команду плотников из 50 солдат под началом офицера; срочно заготовить 40 тысяч мешков и половину из них доставить на Северную сторону, туда же завезти по сотне бревен и досок различных размеров. Чтобы упорядочить обеспечение строительных команд инструментом, необходимо организовать депо, куда собрать имеющиеся в наличии лопаты, ломы, кирки и прочий инструмент из саперного батальона, войск и от местных жителей. На Северную сторону выделить 800 лопат, 1600 кирок, 50 мотыг и 40 ломов, а так как потребность в инструменте будет возрастать из-за поломки и расширения фронта работ, следует приступить к его изготовлению в мастерских Морского, Артиллерийского и Инженерного ведомств. Это был конкретный и четкий план действий, предложенный мало кому известным в Севастополе подполковником.
Руководство морскими батальонами, направляемыми на Северную сторону, вице-адмирал Корнилов поручил контр-адмиралу Истомину. Вместе с подполковником Тотлебеном Истомин приступил к укреплению обороны Северной стороны и установке на сухопутных позициях орудий, снятых с кораблей. На высоты были доставлены 20 пушек большого калибра. Из-за крайне ограниченных сроков Тотлебен наметил создать линию обороны протяжением в полторы версты от четвертой приморской батареи до Северного укрепления и далее к берегу моря. Над обрывом установили две батареи, которые огнем четырнадцати 24-фунтовых пушек должны были контролировать прибрежную полосу и препятствовать кораблям противника приближаться к берегу. На левом фланге отрыли две стрелковые траншеи. Для усиления действия артиллерии по фронту на левом и правом фасах Северного укрепления сделали барбеты для 10 орудий. На правом фланге оборонительной линии возвели батарею на 12 орудий, соединенную рвом и бруствером с Северным укреплением; за бруствером оборудовали позиции для стрелков. Таким образом, перед союзными войсками находилась очень слабая оборонительная линия с 29 орудиями, действующими по фронту. Гарнизон Северной стороны состоял из 11 тысяч человек.
11 сентября вице-адмирал Корнилов назначил начальником штаба контр-адмирала Истомина и отдал приказ подготовить войска к сражению. Защитники Северной стороны решили не покидать позиций и погибнуть с честью.
Однако экспедиционный корпус устремился в обход рейда к южной части города, где в распоряжении вице-адмирала Нахимова для защиты семиверстной линии обороны имелось всего 5 тысяч человек. К тому же на Корабельной стороне фактически не было никакой оборонительной линии, а были слабые, отдельно стоящие земляные укрепления, между которыми союзные войска могли выйти к Южной бухте и рейду.
13 сентября 1855 г. Севастополь приказом начальника гарнизона был объявлен на осадном положении. А 14 сентября командир Севастопольской эскадры вице-адмирал Нахимов отдал приказ о затоплении всех кораблей и присоединении экипажей к защитникам крепости. Он выразил уверенность, что моряки до конца выполнят свой долг и будут сражаться до последнего человека. В этот же день, когда угроза нападения на Северную сторону миновала, на Южную сторону прибыл вице-адмирал Корнилов.
Уезжая из Севастополя, главнокомандующий князь Меншиков не назначил старшим ни одного из адмиралов и общее командование оставил за начальником Севастопольского гарнизона генерал-лейтенантом Моллером. Престарелый военачальник Моллер был командиром 14-й пехотной дивизии и как старший по возрасту, чину и званию возглавлял местный гарнизон. Он слыл покладистым, добродушным, забывчивым и нетребовательным человеком и годился разве что для проведения приемов и парадов, но никак не для организации обороны военно-морской крепости. Меншиков знал об этом, но, покидая Севастополь, считал, что город обречен, а кто возглавит его агонию – не столь уж важно. Но истинные патриоты России рассуждали иначе. На совещании командного состава гарнизона вице-адмирал Нахимов" заявил, что, хотя он и старше годами и службой, но подчинится только адмиралу Корнилову. Его поддержали все генералы и адмиралы. Так без официального назначения вице-адмиралу В. А. Корнилову было доверено командовать обороной и защитой Севастополя. И Корнилов приказал немедленно перевести с Северной стороны на Южную 15 морских батальонов с двумя батареями, приостановить подготовку кораблей к затоплению и назначил начальником оборонительных работ подполковника Тотлебена.
С момента высадки десанта союзников до 14 сентября 1855 г. на Южной стороне были выполнены следующие оборонительные работы. На пятом бастионе отсыпали фасы на высоту 6 футов и приспособили к ружейной обороне (грунт для этого пришлось подносить более чем за 100 м). За каменным завалом между четвертым бастионом и беседкой "Грибок" установили восемь 12-фунтовых карронад. На Корабельной стороне возвели у Лабораторной балки батарею №5 (Никонова) на 10 орудий, которая могла вести огонь на подступах к третьему бастиону и скатам Зеленой горы. На третьем бастионе удлинили фасы и приспособили их к ружейной обороне. Между Малаховым курганом и Доковой балкой сделали завал для полевой артиллерии. Батарею первого бастиона увеличили на 5 орудий.
Таким образом, артиллерийское вооружение оборонительной линии Южной стороны увеличилось за указанный период на 27 единиц и составляло 172 орудия. Ее гарнизон вместе с морскими батальонами насчитывал 16 тысяч человек и 32 полевых орудия. На Северной стороне были оставлены войска в количестве 3,5 тысяч человек для отражения возможного десанта союзников на Качу, Бельбек и в тыл Константиновской батареи. Кроме того, на судах флота находилось около 3 тысяч моряков.
Оборонительная линия была разделена на три дистанции, или отделения. Первое отделение от десятой приморской батареи по редут Шварца возглавлял генерал-майор Асланович. Далее, до Южной бухты, простирались позиции второго отделения, начальником которого был вице-адмирал Новосильский. На Городской стороне находилось около 8 тысяч войск. Столько же солдат защищало и Корабельную сторону – третье отделение, которое возглавлял контр-адмирал Истомин.
Союзная армия после Альминского сражения насчитывала 58 тысяч человек, т. е. имела многократное превосходство. Начав немедленный штурм, союзная армия могла взять крепость. Вице-адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов и другие военачальники гарнизона, зная соотношение сил и состояние укреплений, не тешили себя какими-либо иллюзиями.
Крепость с 15 сентября по 4 октября 1854 г.
Организация круглосуточных работ по строительству укреплений. Роль моряков Черноморского флота в создании обороны Севастополя. Осадные работы и контрмеры защитников крепости
В Севастополе 15 сентября по всей оборонительной линии был крестный ход. Вице-адмирал Корнилов в этот день объехал все укрепления, и, стараясь воодушевить защитников, обратился к каждому батальону со словами: «Ребята, мы должны драться с неприятелем до последней крайности; мы должны скорее все здесь лечь, чем отступить. Заколите того, кто осмелится говорить об отступлении! Заколите и меня, если бы я приказал вам отступить!»[83]83
Там же. С. 244.
[Закрыть] Солдаты кричали: «Умрем за родное место!»[84]84
Сборник рукописей, представленных его императорскому величеству государю наследнику цесаревичу о Севастопольской обороне севастопольцами. СПб., 1872. Т. II. С. 79.
[Закрыть] А в Санкт-Петербурге господствовали другие умонастроения. Как бы прозрев после многих лет недооценки событий, в обществе критиковали действия властей и более не ожидали ничего хорошего от Восточной войны. Фрейлина жены будущего императора Александра II А. Ф. Тютчева сделала в своем дневнике 24 сентября 1854 г. такую запись: «Моя душа полна отчаяния. Севастополь захвачен врасплох! Севастополь в опасности! Укрепления совершенно негодны, наши солдаты не имеют ни вооружения, ни боевых припасов; продовольствия не хватает! Какие бы чудеса храбрости не оказывали наши несчастные войска, они будут раздавлены простым превосходством материальных средств наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики, проводит время в военных упражнениях и парадах, забавляется смотрами, восхищается маневрами. А в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных на парадах, не оказалось ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не могут защищаться за неимением оружия и часто за неимением пищи.»[85]85
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания и фрагменты дневника фрейлины двора. М. Мысль, 1990. С. 72.
[Закрыть]
К счастью для России, военные моряки всегда отличались передовыми для своего времени взглядами, высоким патриотизмом и представляли наиболее организованную и образованную часть армии. Именно силами Черноморского флота, его адмиралами, офицерами и матросами была создана в необычайно короткое время сухопутная оборона города. Она была вооружена морскими орудиями, которые обслуживали матросы. До последних дней осады моряки поддерживали и усиливали огненную мощь укреплений, отдавая последние материальные средства и силы.
Организатор обороны Севастополя вице-адмирал Корнилов умел подбирать офицеров и направить на пользу дела их способности. Назначив подполковника Тотлебена начальником инженеров гарнизона, Корнилов предоставил ему полную свободу действий, высоко ценя его обширные знания, логическое мышление, умение предвидеть ход событий и главное – талант организатора. Не случайно в письме-журнале В. А. Корнилова появилась в сентябре 1854 г. такая запись: "... в неделю сделано больше, чем прежде делали в год"[86]86
Яковлев В. Эволюция долговременной фортификации. М.: Воениздат, 1931. С. 110.
[Закрыть].
Начальник инженеров гарнизона организовал работы на укреплениях беспрерывно в две смены. В каждую смену назначалось до 6 тысяч рабочих из саперов, солдат и матросов. На каждом отделении заведовал работами старший офицер, как правило, из военных инженеров; у офицеров в подчинении имелось несколько помощников, которые руководили работами на бастионах и батареях. Общее руководство и контроль за ходом инженерных работ было возложено на начальников отделений. Офицеры из войск, возглавлявшие рабочие команды, постоянно находились на работах и ежедневно отчитывались о выполнении заданий личным составом.
Первоначально все силы были направлены на быстрое возведение брустверов и установку орудий. В это время никто не думал об изменении и улучшении ранее выбранных позиций сухопутной линии обороны. Бастионы и куртины возводились на местности согласно утвержденному проекту, но в упрощенном виде. Для ускорения работ разработку скальных пород не вели; во рвах снимали только верхний слой грунта и отсыпали в бруствер, туда же укладывали камень и щебень с поверхности, а землю подносили с окружающей территории.
На Городской стороне в центре внимания были четвертый и пятый бастионы. Здесь трудилась основная масса рабочих. В промежутках и рядом с бастионами заложили несколько новых батарей для обстрела лощин и подступов к этим укреплениям.
Для поддержки третьего бастиона у вершины Южной бухты стал на якорь 84-пушечный корабль "Ягудил". На Пересыпи и рядом с ней заложили три новые батареи. Вместе с кораблями они образовали вторую линию обороны в тылу у третьего бастиона. На укреплении установили орудия, фланкирующие Малахов курган и четвертый бастион. По обе стороны третьего бастиона начали рыть траншеи для ведения огня по прилегающим склонам балок.
У одиноко стоящей башни на Малаховом кургане с обеих сторон возводились пятиорудийные батареи №17 (Сенявина) и №18 (Панфилова). Их 24-фунтовые пушки были направлены по фронту, а для фланкирования второго и третьего бастионов установили на оконечностях гласиса по два орудия. С кургана начали отрывать траншеи в сторону Докового оврага и второго бастиона. Каменный завал, обсыпанный грунтом, превратили в батарею с нормальным профилем, получившую наименование "Жерве". На втором бастионе приступили к удлинению левого фланга для установки четырех орудий. От этого укрепления повели траншею по направлению к первому бастиону.
Тем временем баркасы подвозили к Екатерининской, Павловской и Госпитальной пристаням орудия, снятые с кораблей, а от пристаней смекалистые и ловкие матросы перевозили пушки весом более трех тонн на бастионы и батареи. Порой приходилось преодолевать крутые подъемы и кручи не только при помощи конных артиллерийских передков, но и вручную, однако делалось это лихо и с умом, так что задержек с вооружением укреплений не было. Орудия устанавливали как только возводился бруствер и барбет, остальные конструкции доделывали позже.
Для доставки артиллерии, боеприпасов и строительных материалов были задействованы все армейские повозки. Но их не хватало и приходилось брать лошадей у горожан. Из арсенала отправляли мешки, металлические цистерны для воды, такелаж, инструмент, а из инженерных команд – лес, доски, лопаты, ломы и все необходимое для строительных работ. Сотни фур, телег, двуколок вереницами следовали во всех направлениях.
Жители Севастополя добровольно участвовали в работах на строительстве оборонительной линии и несли службу в городских караулах. Дети помогали отцам, подносили еду и воду; женщины шили мешки для земли, строили баррикады и батареи на улицах города. Даже арестанты не остались в стороне и активно работали на сооружении укреплений. Нависшая над городом опасность сплотила всех. В. А. Корнилов и П. С. Нахимов ежедневно объезжали всю оборонительную линию, осматривали сделанное за сутки, подбадривали и воодушевляли матросов, солдат и горожан, вели контроль за бесперебойным обеспечением материалами и доставкой артиллерии. Работы продвигались очень быстро на всех направлениях.
15 сентября разъезды союзников показались на Воронцовской и Саперной дорогах и у хутора Сарандинаки; в этот же день пароходы союзников заходили в Камышовую, Казачью и Стрелецкую бухты. В последующие двое суток войска неприятеля стали лагерем на высоте перед четвертым бастионом и у Балаклавской дороги вне досягаемости наших выстрелов. Небольшие отряды экспедиционного корпуса передвигались по местности и производили рекогносцировку, но при приближении к бастионам их обстреливали из орудий. Одним из первых действий союзников, направленных против города, стало перекрытие водопровода, проложенного от Черной речки к новому Адмиралтейству и из Сарандинакской балки к городскому фонтану. Войска и горожане стали брать воду из колодцев. В остальном экспедиционный корпус не проявлял боевой активности. Союзники обосновали свои тыловые базы в Балаклавской и Камышовой бухтах и приступили к выгрузке артиллерии и боеприпасов.
18 сентября на Северную сторону пришли войска князя Меншикова. И уже на следующий день из армии светлейшего на Южную сторону переправили три полка пехоты, около 8 тысяч штыков. Теперь стало ясно, что союзники упустили самый выгодный момент для захвата Севастополя, когда гарнизон был малочисленным.
Главнокомандующий сухопутными и морскими силами Крыма осмотрел состояние оборонительной линии. Увидев изменения, которые произошли за одну неделю, он не мог не оценить роли вице-адмирала Корнилова и приказал начальнику гарнизона генерал-лейтенанту Моллеру назначить В. А. Корнилова начальником штаба гарнизона. С 19 сентября адмирал Корнилов стал отдавать приказы и распоряжения как официально назначенное лицо.
Для управления войсками и работами с 20 сентября оборонительную линию разделили на четыре отделения. Первое и второе на Городской стороне сохранили без изменений и под прежним командованием. Линию обороны Корабельной стороны разделили на две части. От Городской высоты до Докового оврага был участок третьего отделения с главным опорным пунктом – третьим бастионом; начальником отделения назначили вице-адмирала Панфилова. От Докового оврага до рейда протянулось четвертое отделение под командованием контр-адмирала Истомина; основными укреплениями на этом участке были Малахов курган, первый и второй бастионы.
Войска гарнизона распределили следующим образом: на Городской стороне сосредоточилось около 13 тысяч человек и 24 полевых орудия; на Корабельной стороне – около 11 тысяч человек и 8 полевых орудий. Однако в ходе боевых действий осуществить переброску части войск с Городской на Корабельную сторону и обратно было бы крайне затруднительно. Чтобы обеспечить необходимый быстрый маневр войсками, по приказанию вице-адмирала Нахимова через Южную бухту соорудили наплавной мост, использовав различные малые суда и плоты.
Вице-адмирал Корнилов уделял большое внимание взаимодействию флота с сухопутными силами. Для обеспечения поддержки обороны города он утвердил расстановку пароходов эскадры: пароход "Херсонес" должен был обстреливать Инкерманскую долину; суда "Владимир" и "Крым" обстреливали Киленбалочное плато и фланкировали первый и второй бастионы; пароход "Эльбрус" контролировал Ушакову балку и прикрывал русские войска в случае отступления к Павловской батарее, откуда их эвакуировали суда "Грозный", "Турок" и "Дунай"; пароходы "Бессарабия", "Громоносец" и "Одесса" фланкировали правый фланг оборонительной линии, контролировали Карантинную бухту и охраняли по ночам проход, оставленный в заграждении рейда.
Но главная задача этого периода состояла в максимальном ускорении оборонительных работ и поддержании боевого духа войск. Вице-адмирал Корнилов старался ободрить войска и настроить их на решительную битву с врагом. Например, к солдатам Московского полка В. А. Корнилов обратился с такими словами: "Московцы, вы находитесь здесь на рубеже России, вы защищаете дорогой уголок Русского царства. На вас смотрит царь и вся Россия. Если только вы не исполните вполне своего долга, то и Москва не примет вас как московцев ..."[87]87
Описание обороны Севастополя. Ч. I, отд. I. С. 265.
[Закрыть] Своими беседами, заботой и энергичной деятельностью адмирал заслужил доверие простых солдат, понимавших и ценивших неподдельные человеческие чувства.
Тем временем союзники приняли окончательное решение не производить немедленного штурма Севастополя, а, установив осадную артиллерию, подавить русские орудия, разрушить укрепления и с малыми потерями занять город. Разделив свою армию на две части – осадный и обсервационный корпуса, они с 19 сентября начали занимать позиции. Французские дивизии осадного корпуса стали лагерем перед четвертым, пятым, шестым и седьмым бастионами на расстоянии трех верст от города. От Сарандинакской балки до Черной речки расположились английские войска, они также входили в состав осадного корпуса. Над обрывами Сапун-горы, фронтом к Балаклаве и Федюхиным высотам, обосновались французские дивизии обсервационного корпуса под командованием генерала Боске. Его задача заключалась в охране осадного корпуса от нападения русских войск со стороны Балаклавской долины и Черной речки. В случае необходимости обсервационный корпус должен был оказать помощь английской армии. Турецкая дивизия, расположенная на правом фланге обсервационного корпуса, находилась в резерве.