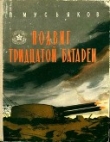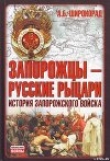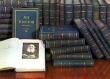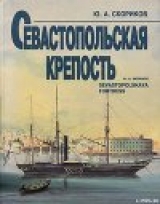
Текст книги "Севастопольская крепость"
Автор книги: Юрий Скориков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Крепость с 10 февраля по 26 мая 1855 г.
Возведение Волынского, Селенгинского редутов и Камчатского люнета. Создание контр-апрошных плацдармов. Вторая бомбардировка Севастополя. "Обер-крот" А. В. Мельников. Подземная война. Третья бомбардировка Севастополя
Активная деятельность французских войск на Корабельной стороне требовала пристального внимания и соответствующих мер по предупреждению захвата Малахова кургана. Между ним и осадной армией находился так называемый Зеленый бугор, который возвышался над Малаховым курганом. Ни союзники, ни русское командование не придавали ему ранее большого значения и, несмотря на неоднократные предложения контр-адмирала Истомина, этот пункт не включили в состав оборонительной линии. Теперь признали, что здесь необходимо возвести укрепление, но прежде надо захватить и закрепить позиции на нейтральной территории плато за Килен-балкой, откуда противник не только мог вести фланговый обстрел Малахова кургана и Зеленого бугра, но и опасно приблизиться к рейду. Возведение на плато редутов возложили на Селенгинский и Волынский полки под началом генерал-майора Хрущова, который ранее командовал полком в Альминском сражении и прикрывал отход войск.
Вечером 9 февраля с Северной стороны подвезли на баржах инструмент и туры. По приказу вице-адмирала Нахимова из плавсредств сделали мост через Килен-бухту. Пароходы "Владимир", "Херсонес" и "Громоносец" стали на якоря у Килен-бухты и Георгиевской балки, чтобы поддерживать своим огнем отряд генерал-майора Хрущова. Как только стемнело, флигель-адъютант полковник Тотлебен и штабс-капитан Тидебель под прикрытием пластунов произвели на местности разбивку редута. Он располагался в 450 саженях от второго бастиона и 400 саженях от передовых позиций противника. От укрепления к рейду разметили траншею для сообщения и для обороны склона холма. Затем генерал Хрущов и полковник Тотлебен расставили войска. Один батальон рассыпали цепью поперек хребта, а остальные поставили в колонном строю изготовленными к атаке. Вскоре прибыли от Килен-бухты с турами и инструментами три батальона Селенгинского полка. Их распределили следующим образом: во рву работало шесть рот, внутри редута – две, в траншее – две роты, а остальные подносили материалы. Солдат расставили с интервалом в один шаг. По главному фасу редута протяженностью 210 м и вдоль гребня контрэскарпа установили один ряд туров и начали заполнять их землей. К утру туры на контрэскарпе заполнили землей и они могли в дневное время защищать работающих во рву солдат от штуцерного огня.
Роты за ночь возвели по одному ложементу примерно на полпути между укреплением и французской траншеей. Из этих окопов, которые заняли сто штуцерных Волынского полка, хорошо просматривались французские позиции и впадины на местности, невидимые с редута. Строительные работы были обнаружены французами только с наступлением рассвета, но, кроме ружейного огня, они никаких действий не предпринимали. Днем Волынский полк отдыхал на склоне Килен-балки, а солдаты, работавшие ночью на редуте, были отведены во второй бастион. Их сменил батальон Селенгинского полка, который трудился под прикрытием туров до наступления темноты.
Следующую ночь возведение укрепления продолжалось. На бруствере установили второй ряд туров, что позволяло работать внутри укрепления и днем. Перед редутом появились еще четыре ложемента. Днем 11 февраля присыпали грунт к верхнему ряду туров, делали банкеты, траверсы и пороховой погреб. Противник обстреливал работающих из штуцеров, не причиняя, впрочем, никакого вреда, и накапливал силы для атаки.
Ночью с 11 на 12 февраля неприятель внезапно напал на солдат, находившихся в цепи и работающих на редуте. Генерал-майор Хрущов сигналом приказал пароходам открыть огонь по заранее пристрелянным французским позициям и руководил боем. В рукопашной схватке его спас от гибели солдат, заколовший штыком француза, занесшего саблю над головой генерала. Селенгинцы, отбив первый натиск противника мотыгами и кирками, по приказанию штабс-капитана Тидебеля разобрали стоящие в "козлах" ружья и с банкета стреляли в нападавших. Распорядительность и личное мужество генерал-майора Хрущова свели на нет преимущества противника при внезапном нападении. В атаке принимали участие пять батальонов. Продолжавшаяся около часа рукопашная схватка закончилась поражением французов, у которых было убито около 100 человек, а русских солдат было убито 67 человек.
Дальнейшее строительство Селенгинского редута продолжалось без особых помех. В ночь с 16 на 17 февраля в 300 саженях от французской траншеи заложили Волынский редут. Укрепление имело прямоугольную форму с фасами протяженностью 260 м. Работы организовали точно так же, как на Селенгинском редуте, только теперь Селенгинский полк находился в охране, а Волынский возводил сооружение. К концу февраля 1855 г. оба редута были завершены. Брустверы имели высоту 2 и толщину 4,2 м. Оба укрепления соединили небольшой каменной стеной, обсыпанной грунтом. Для фланкирования Волынского редута возвели батарею №83 (Венецианскую) и соединили ее с укреплением траншеей, приспособленной к ружейной обороне. Перед редутами построили 12 ложементов на 200 стрелков. Таким образом, на Киленбалочном плато за две недели были созданы контр-апрошные укрепления, состоящие из трех линий. В первую входили ложементы, во вторую – Волынский редут и батарея №83, а третья линия состояла из Селенгинского редута и траншеи, ведущей к рейду. Укрепления имели на вооружении 24 орудия крупного калибра. Позиции занимали шесть батальонов пехоты под началом генерал-майора Хрущова, который подчинялся начальнику четвертого отделения контр-адмиралу Истомину.
Все это время работы по усилению оборонительной линии продолжались. На Городской стороне завершили строительство редутов Ростиславского, Чесменского и Язоновского, предназначенных для внутренней обороны. По приказанию вице-адмирала Нахимова на рейде, между Николаевской и Михайловской батареями, затопили шесть кораблей, так как первая линия заграждения была повреждена осенне-зимними штормами.
18 февраля 1855 г. князь Меншиков был освобожден от должности по состоянию здоровья и отбыл из армии. Это было последнее распоряжение, отданное Николаем I по Восточной войне. Новым главнокомандующим Крымской армии назначили генерал-адъютанта князя М. Д. Горчакова, сохранив за ним командование Южной армией. До его прибытия должность главнокомандующего исполнял начальник Севастопольского гарнизона генерал-адъютант Остен-Сакен, возложивший командование гарнизона на вице-адмирала Нахимова. А через несколько дней французский парламентер сообщил о том, что 18 февраля скончался Николай I. По официальной версии смерть наступила от гриппа, осложненного воспалением легких, но в высшем обществе считали, что император отравился. После Альминского сражения император потерял сон, а с конца января постоянно жаловался на недомогание. Близко наблюдавшая его при жизни фрейлина А. Ф. Тютчева писала в своих воспоминаниях: "... В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которые он воображал, что поднял Россию ..."[97]97
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров... 1990. С. 36.
[Закрыть]. И далее: «... Он умер не потому, что не хотел пережить унижения собственного честолюбия, а потому, что не мог пережить унижения России. Он пал первой и самой выдающейся жертвой осады Севастополя»[98]98
Там же. С. 37.
[Закрыть].
После плацдарма на Киленбалочном плато предстояло возвести укрепление перед Малаховым курганом, чтобы не допустить приближения французских позиций к кургану и обеспечить фланговый обстрел траншей английской армии, выдвинувшихся к третьему бастиону.
В ночь с 26 на 27 февраля три батальона Якутского полка заняли Зеленый бугор и приступили к работам. Разбивку сооружения на местности произвели флигель-адъютант полковник Тотлебен и штабс-капитан четвертого саперного батальона Сахаров, которому было поручено руководить работами. Укрепление представляло собой люнет с фасами длиной 80 и 100 м. Когда-то на этом месте была каменоломня, и разбросанные на поверхности камни стали собирать и укладывать в брустверы, контрэскарп и траверсы. Перед рассветом стали отрывать ров в слое глины, которую использовали для обсыпки бруствера из камня. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, работы на укреплении продолжались и днем.
На следующую ночь французы, зная об отсутствии на строящемся люнете артиллерии, проложили перед ним новую траншею. Чтобы пресечь дальнейшее продвижение французов вперед, между Камчатским люнетом и французскими позициями возвели ложементы и прицельным огнем из них препятствовали осадным работам противника.
4 марта 1855 г. начальником войск на Корабельной стороне был назначен генерал-лейтенант Хрулев. Уже в следующую ночь ему пришлось командовать сражением за ложементы перед Камчатским люнетом. Вначале французам удалось занять ложементы, но их оттуда выбили и преследуя, после рукопашной схватки заставили отступить.
10 марта французы под покровом ночи внезапно захватили ложементы и начали их переделывать для размещения своих стрелков. Генерал-лейтенант Хрулев повел в контратаку десять пехотных батальонов, выбил противника, занял первую параллель французов и преследовал их дальше. Солдаты сражались с воодушевлением, видя рядом с собой бесстрашного генерала. Команда саперов восстановила ложементы, и к утру их опять заняли русские стрелки.
В скором времени Камчатский люнет был полностью завершен и вооружен 14-ю орудиями большого калибра. Между ними возвели траверсы, построили два пороховых погреба, два блиндажа и отрыли траншею для сообщения с Малаховым курганом. Перед люнетом создали двойной контр-апрошный плацдарм из двух линий ложементов, соединенных между собой траншеями. Передовые окопы находились в 300 шагах от французской параллели, что позволяло стрелять из гладкоствольных ружей, имевшихся на вооружении у всех пехотных частей. Здесь сосредоточили до батальона пехоты, которая постоянно вела прицельный огонь. Вправо и влево от люнета до Докового оврага и Килен-балки отрыли траншеи, в них разместили резерв и небольшие орудия для обстрела осадных работ противника.
Жизнь на Камчатском люнете постепенно наладилась. Гарнизон укрепления приспособился к постоянному обстрелу: восстанавливал брустверы и амбразуры, тушил пожары и засыпал воронки. Унтер-офицер третьей роты шестого саперного батальона Федор Яковлев бессменно находился на люнете с момента его заложения. Изучив направление выстрелов с неприятельских батарей, он предупреждал офицеров и солдат об опасности. Яковлев спас жизнь поручику Есиповичу и прапорщику Орде, прикрыв собою от падающего снаряда. При этом он получил ранение, но из госпиталя снова вернулся на Камчатский люнет. Отважный сапер погиб на Малаховом кургане в последние дни обороны Севастополя.
Защитники крепости продолжали совершать ночные вылазки в стан неприятеля. Так, 28 февраля «охотники» предприняли нападение на позиции англичан и захватили 180 туров. 3 марта 690 солдат ворвались во французские траншеи у Карантинной бухты. Выведенные из терпения, французы атаковали 6 марта ложементы, из которых производились вылазки, и захватили их, но долго там не продержались под картечным огнем и отошли на свои позиции. Окопы быстро исправили и к утру в них разместились русские стрелки. Русские «охотники» в качестве трофеев брали не только оружие и инструмент, очень ценились и шерстяные пледы, которыми укрывались английские солдаты ...
Осажденные испытывали недостаток не только в теплой одежде. Военное ведомство оказалось бессильным наладить регулярный подвоз пороха в Севастополь. В марте вице-адмирал Нахимов запретил открывать огонь по осадным работам противника без разрешения начальников отделений; в сутки из всех орудий производили около 500 выстрелов. В приказе по гарнизону, подписанному вице-адмиралом Нахимовым 2 марта 1855 г., говорилось: "... Я считаю долгом напомнить всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число людей для неразлучных с боем работ было ограничено крайнею необходимостью. Заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда отыщет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности... Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой пальбы. Кроме неверности выстрелов – естественного следствия торопливости, трата пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, никакая заслуга не должны оправдать офицера, допустившего ее ..."[99]99
Описание обороны Севастополя. 1871. Ч. II, отд. I. С. 39.
[Закрыть]
20 марта 1855 г. вице-адмирал Нахимов вступил в должность командира порта и военного губернатора Севастополя. А несколькими днями ранее, возвращаясь с Камчатского люнета, погиб его боевой товарищ контр-адмирал Истомин. В течение пяти месяцев Истомин возглавлял оборону на четвертом отделении и все это время жил в сохранившемся первом ярусе башни Корниловского бастиона. Бесстрашный, неутомимый и заботливый адмирал своим личным примером укреплял в гарнизоне боевой дух уверенности в победе над врагом. После смерти В. А. Корнилова это была самая крупная утрата для защитников города.
Тем временем союзные армии наращивали свои силы. Ежедневно прибывали новые войска, осадные мортиры и пушки крупных калибров, боеприпасы и снаряжение. Огромный поток тяжелых грузов перевозили от Балаклавской гавани до позиций у Севастополя по конно-железной дороге, торжественно открытой англичанами 16 марта. Спешно строились новые батареи и возводились палаточные городки.
Видя активную подготовку к штурму со стороны союзников, защитники города, кроме установки орудий для контрбатарейной стрельбы, усилили строительство блиндированных помещений. На Южной стороне их насчитывалось более 140, и в них могло укрыться до 6 тысяч человек. Однако это не решало проблемы, так как в гарнизоне к этому времени насчитывалось до 37 тысяч пехотинцев и около 10 тысяч артиллеристов, в том числе 9 тысяч человек от флотских экипажей. Они обслуживали установленные на оборонительной линии 998 орудий различных калибров.
26 марта в русских войсках состоялось торжественное богослужение в честь первого дня Пасхи, а на следующее утро началась вторая бомбардировка Севастополя. Только по укреплениям стреляли 444 осадных орудия, в том числе 130 мортир. Им отвечали из 466 пушек и мортир, но последних насчитывалось всего 57 стволов. За один залп осадная артиллерия союзников выбрасывала до 12 тонн чугуна, а русские орудия могли послать только 9,5 тонн. Союзники добились перевеса в калибрах артиллерии и, что особенно важно, создали запас снарядов до 600 штук на одно орудие, – это в четыре раза превышало количество боеприпасов у осажденных.
Навесной огонь из мортир пробивал перекрытия блиндажей и пороховых погребов, а разрывные снаряды быстро разрушали земляные амбразуры, брустверы и траверсы. Несмотря на некоторый количественный перевес, русская артиллерия не могла подавить батарей противника, так как, экономя снаряды, отвечала на два выстрела одним.
Все это привело к тому, что в конце дня пятый бастион и смежные с ним батареи были вынуждены замолчать. В оборонительной стене образовалась брешь длиной в 6 м. Большие разрушения имелись на четвертом бастионе, а Селенгинский, Волынский редуты и Камчатский люнет превратились в груду развалин. За первый день бомбардировки было подбито 15 орудий, 13 станков, повреждены 23 платформы и завалены 122 амбразуры. Потери защитников города составили более 500 человек. Осадная артиллерия выпустила по русским укреплениям около 34 тысяч снарядов, получив в ответ только 12 тысяч, что и привело к столь печальным последствиям.
Ночью, несмотря на продолжавшийся навесной огонь из мортир и обстрел из штуцеров, повсеместно работали рабочие команды, и к утру боеспособность укреплений была полностью восстановлена. Однако и на второй день бомбардировки разрешили из каждого орудия произвести по осадной артиллерии только 30 выстрелов. В результате к сумеркам снова замолчал пятый бастион, на четвертом действовали только два орудия, были полностью разрушены восстановленные Селенгинский и Волынский редуты. Потери и расход снарядов были примерно такие же, как за прошедший день.
После наступления темноты восстановительные работы возобновились. Воспользовавшись ситуацией, французские войска атаковали ложементы перед пятым бастионом и редутом Шварца, но были отброшены назад. 30 марта оборонительная линия отвечала осадной артиллерии из всех орудий, молчали лишь Селенгинский и Волынский редуты (их не смогли восстановить за ночь). И если бы союзники проявили решительность и предприняли штурм укреплений на Киленбалочном плато, они могли захватить контр-апроши, после чего оборона Камчатского люнета и Малахова кургана была бы крайне затруднена. Но этого не произошло, и осажденные получили время, чтобы восстановить передовые редуты.
В последующие дни бомбардировки наблюдалась такая же картина, что и в начале. Днем разрушались, а ночью восстанавливались укрепления. Французские войска предпринимали попытки приблизить подступы к четвертому и пятому бастионам, а, кроме того, прицельно вели огонь по мосту через Южную бухту. Его несколько раз восстанавливали, пока П. С. Нахимов, получивший 27 марта звание адмирала, не приказал перенести мост дальше от линии обороны, в район нового Адмиралтейства.
Ценой значительных потерь французам все же удалось захватить ложементы перед пятым бастионом и редутом Шварца. Не достигнув своих целей по всей линии обороны, осадные армии сосредоточили огонь артиллерии на Камчатском люнете и четвертом бастионе. Сюда командование гарнизона отдавало последние снаряды из запасов. И защитники крепости выстояли.
7 апреля 1855 г. союзники прекратили бомбардировку, продолжавшуюся десять суток. В этот день наконец прибыл долгожданный транспорт с порохом, из-за которого чуть было не пала крепость. За время второй бомбардировки Севастополя осадная артиллерия выпустила по укреплениям 160 тысяч снарядов, а в ответ получила 88 тысяч выстрелов. Русские войска потеряли около шести тысяч человек, а союзные армии две тысячи. Все лазареты и госпитали были заполнены ранеными. Круглосуточно работал главный перевязочный пункт в Доме флагманов, где оперировал раненых хирург Н. И. Пирогов. На Корабельной стороне перевязочный пункт находился в Александровских казармах, но после усиления артиллерийского обстрела его перевели в более безопасное место – в провиантские магазины на берегу Корабельной бухты. В Николаевской батарее был развернут временный госпиталь на 600 человек, а на Северной стороне в бараках расположился военно-сухопутный госпиталь. Морское ведомство перевело свой госпиталь из разрушенных бомбардировками зданий в казематы Михайловской батареи. Раненые испытывали лишения из-за нехватки врачей и отсутствия свободных мест в госпиталях. Много делали для них добровольные сестры милосердия. В отличие от многих высоких чинов и разных "сиятельств", вице-адмирал Нахимов, "с отличавшими его теплотою души и любовью к ближнему, был для всех раненых и страждущих настоящим отцом"[100]100
Там же. 1868 Ч. II, отд. I. С. 155.
[Закрыть].
Упорные сражения продолжались и под землей. В течение марта 1855 г. русские минеры произвели три взрыва перед четвертым бастионом, приостановив на несколько дней работы французов в минных галереях. Слуховые рукава в галереях удлинили до 70 м, а для лучшей их вентиляции проложили соединительные ветви. Завершив окружные галереи перед батареями на флангах четвертого бастиона и выдвинув от них слуховые рукава на 20 м, саперы прекратили дальнейшие работы, установив там постоянное наблюдение.
Еще в декабре 1854 г., опасаясь, что противник использует для минирования четвертого бастиона более заглубленные слои грунта, саперы начали проходку двух пробных колодцев. После шестиметрового слоя скалы вошли в полутораметровый слой глины, который мог быть использован французскими минерами, и для пресечения их действий решили проложить окружную галерею. Для этого заложили еще шесть колодцев и в апреле 1855 г. приступили к сооружению галереи и рукавов. Во время второй бомбардировки в ров четвертого бастиона падало много снарядов, колодцы завалились, снаряды повреждали блиндажи, возведенные над ними. Убирать наружу землю от выработок стало невозможно, ее складировали в нишах и соединительных ветвях, а выносили мешки по ночам, при ослаблении обстрела.
Не преодолев русских контрмер, воспрепятствовавших подрыву четвертого бастиона, французские минеры решили при помощи мощных взрывов устроить воронки и, заняв их, приблизить свои подступы к укреплению. С этой целью они проложили 865 м рукавов и заложили порох в 21 камеру. 3 апреля раздался огромной силы взрыв. От падающих камней на бастионе выбыли из строя около 100 человек. В 60—80 м от контрэскарпа образовались три продолговатые воронки длиной около 40 и шириной 20 м на расстоянии 10—20 м одна от другой, так как из 21 горна взорвались 15, а в шести произошел отказ. Позади них были еще две воронки меньшего размера. Чтобы препятствовать соединению воронок, русские минеры окружили их рукавами и произвели несколько взрывов. Только через шесть суток противник сумел занять передовые воронки на поверхности земли и соединить их ходами сообщения со своей траншеей.
В дальнейшем подземная война у четвертого бастиона не принесла французам никаких успехов. Победа русских минеров во многом была достигнута благодаря грамотной и неутомимой деятельности штабс-капитана А. В. Мельникова – "обер-крота", как любовно называли его защитники Севастополя. Он умел предугадывать действия противника и наносить ему упреждающие удары, пресекая дальнейшее продвижение. Начальник контрмин постоянно находился в выработках, а отдыхал в нише потерны, проложенной от галереи к бастиону; там для него оборудовали жилище, обшив стены досками. Длительное пребывание в сырой, тяжелой атмосфере, без свежего воздуха и света, привело к многочисленным болезням. Мельников стал страдать от ревматических болей, цинги, язв и ран на коже, по выражению очевидцев "стал заживо гнить на минах". 14 мая он был контужен и оглушен на левое ухо разрывами бомб над головой во рву бастиона. На следующий день капитан Мельников покинул оборонительную линию, началось длительное лечение.
В Военно-историческом архиве хранится представление к награждению орденом Св. Георгия 4-й степени штабс-капитана Мельникова, кавалера орденов Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" и того же ордена 3-й степени с бантом, а также награжденного серебряной медалью "За усмирение Венгрии и Трансильвании" в 1849 г. Подвиг командира роты четвертого саперного батальона штабс-капитана Александра Васильевича сына Мельникова описывается в представлении так:
"Заведывая минными работами, выделал во рву 4 бастиона 22 колодца, вывел из них самым успешным образом, в чрезвычайно трудном грунте и весьма короткое время 22 галереи длиною от 14 до 25 сажен, с соединительной галереею, – всего на протяжении 600 сажен.
Во время с 10 декабря прошлого года, бессменно находясь днем и ночью во рву 4 бастиона, с неусыпной бдительностью следил за неприятельскими подземными работами; в ночь с 17 на 18 января, открыв неприятельского минера, с неустрашимостью дал ему приблизиться до 2 сажен, зарядил нашу мину и 22 января весьма удачным камуфлетом разбил неприятельскую галерею на значительное расстояние, что весьма замедлило осадные работы атакующего против 4 бастиона. Отличный этот офицер, одушевленный пользою и славою для Русского оружия, выказал при этом случае необыкновенное хладнокровие, мужество и отличное знание дела"[101]101
РГВИА, ф. 9196, оп. 23/286, 3 св. д. 9, л. 100, 101.
[Закрыть].
Это представление было подписано 29 января 1855 г. флигель-адъютантом полковником Тотлебеном, а 18 марта военный министр князь В. А. Долгоруков сообщает о высочайшем награждении и посылает орден в армию для вручения Мельникову.
В дальнейшем минную войну на четвертом бастионе возглавлял поручик Преснухин, храбрый и отлично знавший свое дело минер. Он полностью перекрыл подступы к укреплению в нижнем слое глины. В общей сложности при контрминных работах на этом участке русские саперы проложили 3339 м подземных выработок. Французские войска, находясь в ста шагах от четвертого бастиона, так и не решились на его штурм, считая, что он минирован. Они продолжали ежедневно обстреливать его, но в течение ночи бастион возникал вновь, как птица Феникс из пепла.
Противник приобрел выгодные позиции для своей атаки против пятого бастиона. Захватив контр-апрошный плацдарм, он приблизился к укреплению и редуту Шварца до 100 м. Необходимо было предпринять срочные меры для отражения возможного штурма. Редут переделали в люнет, раскрыв его фланги и увеличив количество орудий. Ров пятого бастиона фланкировали артиллерийским огнем и установили новые батареи с 23-мя орудиями. В мае 1855 г. приступили к контрминным работам перед люнетом Шварца и левым фасом пятого бастиона. Заведовал работами поручик третьего саперного батальона Баран-Ходоровский. В распоряжении поручика было 44 сапера и 500 солдат. Они спустились через тринадцать колодцев в слой глины и отсюда на глубине около 4 м повели галереи и рукава. Таким образом укрепления были надежно защищены от минной атаки.
Усиление линии обороны шло повсеместно. Строили батареи для противодействия новым осадным орудиям, особенно в районе третьего бастиона. Для поддержания Селенгинского и Волынского редутов возвели батареи № 91 и № 93, вооруженные семью пушками крупного калибра. К 1 мая закончили сооружение нового моста через Южную бухту. Мост построили из плотов и бочек. Чтобы обеспечить потребности в лесе, использовали бревна от разборки разрушенных зданий, деревянные конструкции с поврежденных и затопленных судов, закупили близ Перекопа 4400 досок. Во все возрастающем объеме требовались на укреплениях фашины и туры. В рощах ежедневно заготавливали хворост 1500 солдат, а в инженерное депо с Северной стороны ежесуточно доставляли 2500 туров и 1000 фашин. Из Бахчисарая и Николаева привезли около 6 тысяч лопат, кирок и 4 тысячи черенков. Так энергично и инициативно защитники Севастопольской крепости решали все возникающие перед ними вопросы.
Не достигнув поставленных целей, осадная армия спешно пополнялась новой артиллерией и войсками, их размещали в бараках и палаточных городках, питьевую воду брали из пробуренных скважин.
Союзники на подступах к контр-апрошным плацдармам, третьему, пятому и шестому бастионам расширяли фланги и устанавливали там новые батареи. Большое внимание в экспедиционном корпусе уделялось организации связи. От Георгиевского монастыря до Варны был проложен подводный кабель, и телеграфную связь провели между всеми основными пунктами осадных армий. Это позволило союзникам оперативно руководить войсками, особенно при штурме русских позиций, который неумолимо приближался.
25 мая 1855 г. началась третья бомбардировка Севастополя. Она превосходила две предыдущие, так как союзники создали значительный перевес в калибрах орудий. К вечеру замолчал Камчатский люнет и почти не стреляли орудия на Малаховом кургане. На позициях французской армии было также завалено большое количество амбразур, но всю ночь они вели огонь из мортир. Несмотря на обстрел, к утру защитниками Севастополя были восстановлены все укрепления, кроме Камчатсткого люнета. Днем продолжалась бомбардировка из всех орудий, особенно по Волынскому, Селенгинскому редутам, Камчатскому люнету и Малахову кургану. Последний, не поддерживаемый с люнета, был сильно поврежден, и осадная артиллерия получила значительный перевес в бою.
После полудня огонь усилился по всей линии, а на Камчатском люнете сосредоточили выстрелы орудия, которые били по третьему бастиону и Малахову кургану. Следовало ожидать атаки противника и подготовить для отражения пехоту. Однако ситуация оказалась сложной. Дело в том, что незадолго до второй бомбардировки первые редуты вошли в пятое отделение во главе с генерал-майором Тимофеевым. В распоряжении Тимофеева находилось 10 батальонов, затем по его предложению число батальонов сократилось до 8. Все войска на Корабельной стороне подчинялись генерал-лейтенанту Хрулеву, но его перевели на Городскую сторону, и с 14 мая на Корабельной стороне командовал генерал-лейтенант Жабокринский. При сложившейся боевой обстановке пехоту следовало сосредоточить вблизи укреплений. Однако генерал Жабокринский утвердил на 26 мая диспозицию, по которой на редутах днем находился один батальон, в ближайшем резерве – один батальон, а в Ушаковой балке, расположенной далеко от редутов, – четыре батальона. По этой же диспозиции на Камчатском люнете и Малаховом кургане располагалось по одному батальону, а в Корабельной слободе – восемь батальонов. На третьем бастионе с контр-апрошами была оставлена всего половина батальона, а пять с половиной батальонов отдыхали в Александровских казармах.
Днем 26 мая, когда было замечено скопление войск на позициях противника, явно готовившегося к штурму, генерал Жабокринский сказался больным и уехал на Северную сторону. Его срочно подменил генерал-лейтенант Хрулев. Едва он успел исправить на бумаге диспозицию, как около 6 часов вечера французы атаковали три передовых укрепления и, смяв малочисленных защитников, захватили их. В штурме участвовали три пехотных дивизии, два батальона стрелков и «охотники» от всех полков армии. Всего было сосредоточено для наступления 40 тысяч человек.
Узнав о тяжелом положении Камчатского люнета, вице-адмирал Нахимов поспешил на это укрепление. Поднявшись на банкет, он увидел три колонны французов, приближающиеся к люнету. Малочисленный гарнизон люнета оказал врагу отчаянное сопротивление, матросы яростно защищали свои орудия, однако многократный перевес в силах быстро решил исход сражения. К адмиралу устремились французы, явно намереваясь забрать его в плен, но матросы плотным кольцом окружили Нахимова и отступили к куртине между Малаховым курганом и вторым бастионом. Здесь вице-адмирал Нахимов организовал оборону.
Генерал-лейтенант Хрулев, направив к Селенгинскому и Волынскому редутам, а также Малахову кургану войска из резерва, сам с тремя батальонами бросился к Камчатскому люнету и в штыковом бою отбил его. Несколько часов продолжалось ожесточенное сражение, в ходе которого укрепления переходили из рук в руки. Но значительное превосходство в силах позволило французам окончательно овладеть редутами и люнетом, а англичанам занять контр-апроши перед третьим бастионом. Потери русских и союзников были примерно равными – по 5 тысяч человек.