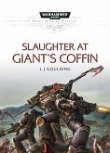Текст книги "Космические тайны курганов"
Автор книги: Юрий Шилов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Развитие этих образов, равно как и особенностей Григориопольского кургана, прослеживается в "Гроте быка", в кургане № 13 у Каменной Могилы и в других памятниках Азово-Черноморских степей рубежа IV – III тысячелетий до нашей эры. Сложившиеся в них представления о Вале бытовали в культуре ариев и доныне хранятся в Индии почитателями "Ригведы".
Шумерским представлениям о праострове Киане суждена была более короткая жизнь. Однако их пережитки отразились в мифах о блаженном острове Дильмуне и страшной "Горе бессмертного". Признаки идеи бессмертия выражены здесь довольно отчетливо. Но в отличие от арийского мифа о Вале эта идея почти лишена связи с годовыми циклами, носит более заземленный характер и отмечена неверием в торжество жизни над смертью. Сюжеты о Дильмуне и "Горе" были объединены в "Поэме о Гильгамеше", в котором тоска об утраченной вере в вечность человеческого существования выражена с такой поразительной силой, что и доныне, спустя более четырех тысячелетий, продолжает волновать читателя.
Сказания о Гильгамеше начали складываться еще в XXVII веке до нашей эры, вскоре после смерти этого действительно жившего в Уруке правителя.
В молодые годы отличался царь буйством, и мудрецы города познакомили его с диким жителем степей Энкиду. Померявшись силами, а затем подружившись, герои решили отправиться в верховья Междуречья, чтобы нарубить для строительства Урука кедров, которые росли на священной горе и охранялись бессмертным Хувавой.
Задуманный поход преследовал и высшую цель. Срубив подобие "древа жизни", герои обрели бы заключенное в нем бессмертие. Готовились соответственно: выковали священный двулезвийный топор-лабрис, заручились поддержкой верховного солнечного божества (того, что тщетно пытался спасти пастуха Думузи) и получили от него 7 амулетов-хранителей. Собравшись таким образом, двинулись в путь.
Амулеты помогли героям преодолеть семь перевалов. Но путь становился все трудней и опасней:
Вопияло небо, земля громыхала,
День утих, темнота наступила,
Молния сверкала, полыхало пламя,
Были густы тучи, смерть лила ливнем...
Ужасаясь, впадая порою в отчаянье, герои не отступали от своих намерений. Бог солнца помогал им ночами, посылая из колодцев вещие сны. Главным источником их мужества была крепкая дружба. Герои приободряли друг друга такими словами:
Забудь о смерти, врага не бойся!
Сильный человек, впереди идущий,
Неустрашимый и осторожный,
Себя сохранит и товарища тоже, —
Даже павши, имя они оставят!
Но вот и «Гора бессмертного». Хувава, дух и страж кедров, мечет в героев молнии и «лучистые сияния». Однако Гильгамешу удается его поразить. Поверженный дух молит о жизни, но Энкиду неумолим...
Нарубив кедров, победители возвратились в Урук. Голова Хувавы была доставлена разделителю земли и неба Энлилю, но это не умилостивило бога. Он распределил "лучистые сияния" среди существ и природы, а Энкиду, убийце "бессмертного" Хувавы, предрек скорую смерть. Что и исполнилось.
"Древо жизни", как видим, не принесло счастья ни стражу, ни похитителю.
Оплакав друга, Гильгамеш погребает его и спустя некоторое время выспрашивает о загробном царстве. Услышанное от духа Энкиду ужаснуло его. И тогда Гильгамеш отправился искать Зиусудру, проживающего на острове вечной жизни Дильмуне. Зиусудру – единственный из переживших всемирный потоп, и ему ведома тайна бессмертия.
После нижайших просьб Зиусудру поведал свою тайну. Два пути к бессмертию открывается перед Гильгамешем. Первый – остаться навсегда на Дильмуне. Герой отвергает его, ибо жаждет жизни активной. Второй путь – трава бессмертия, растущая на дне океана. Гильгамеш ее достает!..
Герой не ест ее сам, а желает поделиться с мужами Урука. Царь несет добытое им бессмертие подданным. И почти доносит его. Но змея похищает сокровище.
Ярая смерть не щадит человека...
Разве навеки мы ставим печати?
Разве навеки делятся братья?
Разве навеки ненависть в людях?
Стрекозой навсегда ль обернется личинка?
Таков печальный итог «Поэмы о Гильгамеше»... Однако заканчивается она на оптимистической ноте. Начало и конец «Поэмы» обрамлены одной и той же картиной: автор проводит читателя по крепостным стенам Урука, воздвигнутым трудами Гильгамеша и его подданных.
Осмотри-ка основу, кирпичи потрогай —
Ее ли кирпичи не обожжены крепко,
Не заложены ль стены семью мудрецами?..
Оптимизм концовки «Поэмы о Гильгамеше» весьма показателен. Здесь рассматриваются и отвергаются древние, первобытнообщинные варианты вечной жизни, варианты, еще хранящие формы, но уже утратившие традиционную суть. Вместо нее выдвигается другая, приемлемая для классовых обществ: бессмертие человека – в его добром имени, подкрепленном делами во благо народа. Эта, положительная, в общем-то, установка остается в силе поныне.
Принимая ее, не станем упускать из виду того обстоятельства, что утверждение идеи бессмертия дел человеческих похоронило идею бессмертия самого человека. Ужас небытия был компенсирован тут же возникшей религией: надо верить в загробную жизнь – райскую или адскую, по заслугам при жизни земной... Однако классовые формации преходящи, развитие науки отменяет религию, а без веры в "бессмертную душу" упование на вечность дел своих, увы, не срабатывает. И тогда высокоразвитая личность начинает метаться. Ее душевные муки глубоко выразил великий ученый и философ Б. Паскаль:
"Я не знаю, кто меня послал в этот мир, я не знаю, что такое мир, что такое я... Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе как атом; я как тень, которая продолжается только момент и никогда не возвращается. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть, но то, чего я больше всего не знаю, это смерть, которой я не умею избежать. Как я не знаю, откуда я пришел, точно так же я не знаю, куда я уйду... Вот мое положение: оно полно ничтожности, слабости, мрака".
Не правда ли, современно звучит? А ведь 300 лет назад сказано!
ВЕЛИЧИЕ И НЕРАЗВИТОСТЬ ПЕРВОБЫТНОЙ ИДЕИ БЕССМЕРТИЯ
В предшествующем разделе мы обратили внимание на определенную направленность в переработке тех влияний шумеро-аккадской культуры, которые проникали в среду индоиранцев. Эти элементы переосмысливались в новом мифотворчестве, причем дух первобытнообщинного строя брал верх над раннеклассовым. Встает вопрос: было это обусловлено превосходством или же консерватизмом более древней формации?
"Ну конечно же, консерватизмом!" – скажем мы, зная, что на смену первобытнообщинному строю пришло рабовладение, свойственное и Шумеро-Аккадскому царству... Однако ответ не так уж и прост.
А чтобы основательнее к нему подготовиться, рассмотрим для начала превращения "Поэмы о Гильгамеше", проникавшей в Приазовье, в самый центр формирования индоиранцев. Что же происходило здесь с отрицанием "Поэмой" исконной идеи бессмертия?
Путь от границ Шумеро-Аккадского царства к берегам Меотиды (Азовского моря) в конце XXIV – начале XXII века до нашей эры был весьма оживлен; открыли же его раньше.
В 2304 году до нашей эры Саргон I, основатель Аккадской династии, повторил древний путь Гильгамеша: дошел до "Кедровых лесов и Серебряных гор" (до Ливана и Тавра). После этого похода на Северном Кавказе появилось немало переселенцев. Владыка их погребен был в Майкопском кургане. Помимо золотых и серебряных сосудов с зодиакальными сценами, изображающими шествия зверей-созвездий над подземным морем, земными горами и реками, здесь были найдены и предметы сугубо культового назначения.
Одни из них напоминали спиралевидно свернувшихся змей и представляли собой хорошо известные в шумеро-аккадской культуре "символы справедливости" Инанны и Лилит ("приносящей смерть"). Другие же стали характерными в индоиранской среде. Это уже известный нам по кургану у села Семеновка на Одессщине брасман: стреловидные прутья, пронзившие четырех бычков из золота и серебра. Символика майкопского брасмана получила развитие и в каменномогильском "Гроте быка"; означала она власть жреца над небесными светилами и годовым циклом.
Нашествие со стороны Шумеро-Аккада содействовало формированию в Закавказье алазано-бедепской культуры, родственные типы которой проникали за Днепр, до Дуная и даже на Балканы. В Высокой Могиле оставили они погребение "космического странника". Сопряженный с ним календарь оказался подобен тому, которым пользовались хурриты, одна из древнейших народностей Северной Месопотамии.
Нарамсину (2236—2200 годы до нашей эры), одному из преемников Саргона Великого, в начале и конце своего правления пришлось отбиваться от нашествий "народов Севера". В их коалицию вошло, возможно, и племя, которое проторило от Высокой Могилы дороги-лучи и оставило над погребением "космического странника" древнейшую из доныне известных в Северном Причерноморье повозку (рис.28). Удалось проследить, что после этого захоронения приднепровские племена двинулись в сторону Кавказа, а возвратившись вскоре оттуда, принесли с собой немало серебра, меди, характерные для Закавказья амулеты и посуду.
На Нижнем Днепре была построена крепость, одна из древнейших в Восточной Европе. Она стояла над удобнейшей переправой, по дороге к Высокой Могиле. Население крепости было смешанным: наряду с полуземлянками, содержавшими местную керамику ямной культуры, за каменными стенами и глубокими рвами воздвигнуты были дома с характерной для Кавказа посудой. Оттуда же происходил металл и некоторые украшения... По принятой у археологов традиции поселение нарекли Михайловским по названию села, расположенного неподалеку в Нововоронцовском районе Херсонской области...
Правление Нарамсина совпадало с периодом наивысшего расцвета Шумеро-Аккадского царства. Развилось не только строительство и военное дело, но также искусство и литература. Была упорядочена "Поэма о Гильгамеше", распространились связанные с ней изображения... В среде хурритских племен, населявших Северную Месопотамию и Армянское нагорье, особенно почитался эпизод борьбы Гильгамеша и Энкиду с Хувавой. И не только потому, что в мифе присутствовали отзвуки древних традиций: порубка священного дерева и принесение за это искупительной жертвы. Ценились, очевидно, и художественные достоинства эпоса, а также вечные темы героизма и дружбы.
Хурриты знали, вероятно, дорогу и к Каменной Могиле, и к Михайловскому поселению, и к Высокой Могиле. Не случайно ведь образованное ими при участии ариев в XVI—XVII веках до нашей эры государство названо было Митанни. Языковеды полагают, что это название произошло от Меотиды (Азовского моря). Хурриты же, наверное, и оставили здесь сосуды с изображениями битвы за священные кедры.
Битва на "Горе бессмертного" проиллюстрирована на двух ритуальных сосудах, обнаруженных в подкурганных погребениях XXII века до нашей эры неподалеку от Каменной Могилы и Сиваша (рис.22).

Рис.22 Иллюстрации к «Поэме о Гильгамеше» на сосудах из Приазовья и на печатях Шумеро-Аккадского царства.
В обоих захоронениях сосуды располагались вверх дном, перед лицом уложенных скорченно на боку погребенных. В первом случае это был правый, а во втором – левый бок; ориентировки умерших тоже были различны: головой на юго– и северо-запад.
Перед обжигом на поверхности горшков начертано было по 9 фигур, соединенных в каждом случае в два связанных между собой сюжета. В первом сюжете представлены деревья, одно змиевидное и два человекоподобных существа. Во втором сюжете они же изображены после схватки. Ее результат: срубленное (на первом сосуде) и сломанное (на втором) дерево, поверженное змиевидное существо, рассеченное надвое (на первом сосуде) и опрокинутое вниз головой (на втором) человекоподобное существо с рожками. Существо без рогов уцелело и (на первом сосуде) торжествует над поверженным змием или же (на втором) хлопочет над своим погибшим товарищем...
Такое сходство персонажей и ситуаций, в которые они попадают, и развитие действий свидетельствуют об изображениях на сосудах одного и того же мифологического сюжета. В III тысячелетии до нашей эры ему известно лишь одно соответствие: сражение Гильгамеша и Энкиду с Хувавой, стражем священного леса.
Существовали изобразительная и литературная версии этого мифа. Изобразительная много старше. Она бытовала уже лет за 500 до правления в Уруке легендарного царя Гильгамеша и сначала не имела к нему ни малейшего отношения. Изображались герой-человек и рогатое божество, сражающиеся в лесу с быком, львом или змием; целью схватки была, очевидно, добыча дерева – столь редкого, ценного, а потому особенно почитавшегося среди болотистых равнин Нижнего Междуречья... Позже, когда начал складываться эпос о Гильгамеше, этот традиционный сюжет получил литературное преломление. О быкоподобности героев в "Поэме" нет ни слова, но вначале образ жизни охотника-пастуха Энкиду уподоблен звериному. Хувава представлен не животным, а духом, похожим не так на змия, как на молнию.
Какой же версии ближе изображения на сосудах с берегов Меотиды?
На более раннем сосуде заметно подражание изобразительному канону. Как и на шумеро-аккадских печатях, в центре нарисован страж леса, справа от него – быкоподобное существо, а слева – существо человекоподобное; ближе к последнему расположено дерево. На более позднем сосуде канон нарушается: рога звероподобного существа спрятаны внутрь его головы, человекоподобное существо следует после него, а дерево соседствует со змием. Эти отступления соответствуют литературной версии: безрогий Энкиду убивает защищавшего лес Хуваву. Изображение последнего на обоих сосудах ближе к эпическому образу.
Помимо уподобления Хувавы молнии, обыграны 7 его "шейных одеяний" или "лучистых сияний": на первом сосуде это 7 следующих за головкой молнии-змия отрезков, а на втором 7+7 черточек, из которых состояли две пары составляющих молнию-змия углов... В общем же, на поставленный выше вопрос следует ответить так: заметно глубокое знание литературного текста в письменном или скорее в устном его изложении, вытесняющего следование виденным, но уже забываемым (на втором, более позднем сосуде) изображениям шумеро-аккадского образца.
По мнению В. К. Афанасьевой, глубоко изучившей и литературные варианты, и близкие к ним изображения битвы героев в лесу, этот мифологический сюжет "производит впечатление древних обрядов". А вот на приазовских сосудах он действительно включен в обряд – погребальный. Посмотрим, как же преобразился сюжет и заключенная в нем идея: порубка священного дерева, уничтожение его "вечного" стража и принесение за это искупительной человеческой жертвы.
Прежде всего обращает внимание календарная основа орнаментации обоих сосудов. На первом сосуде она отчетливее всего проявляется в количестве черточек, образующих 83 ветки деревьев, которые как бы соединяют 103 луча под венчиком со 180 насечками на дне сосуда. Две последние фигуры символизировали, по-видимому, бога Солнца, покровительствовавшего героям, и группу демонов Ануннаков, проживающих у корней деревьев. Общее же количество отрезков составляет священное число 366, соответствующее количеству суток в году. Разница количества черточек, которыми изображен Хувава перед и после боя, соответствует количеству месяцев в году: этим же количеством черточек изображен Энкиду, принесенный в жертву во искупление порубки леса. Число 12 присутствует в изображении всех четырех деревьев на втором, более позднем сосуде.
Анализ календарно-числовой магии можно продолжить, но и приведенных наблюдений достаточно для вывода, что обряд погребений с сосудами обращен к годовому циклу. Этот цикл указан и в "Поэме": Гильгамеш и Энкиду отправляются за кедрами в сопровождении 50 воинов, и им повсюду сопутствует число 7. 52x7 = 364, где первое число соответствует количеству недель в году, второе – количеству суток в неделе, третье – количеству суток в году. 1 или 2 недостающих дня могли символизироваться срубленным кедром и убитым Хувавой. Не случайно и то, что пораженный в отместку за его убийство недугом Энкиду умирал 12 дней.
Судя по ориентации, захоронения с рассматриваемыми сосудами были приурочены к закатам Солнца в дни зимнего и летнего солнцестояний. Покойники уподоблялись, наверное, Энкиду – искупительной жертве. Назначение же их сводилось к тому, чтобы помочь дневному светилу преодолеть нижнюю и верхнюю точки странствий в потустороннем мире.
Утраты и обретения, сказавшиеся при переходе сюжета из "Поэмы о Гильгамеше" в погребальный обряд, из среды раннеклассовой в первобытнообщинную, не совсем очевидны. Основное препятствие в том, что неизвестны ни причины смерти, ни общественное положение погребенных: мужчины средних лет и взрослого с младенцем. Однако есть данные, которые позволяют сделать достаточно определенные выводы. Эти данные можно разделить на два тесно взаимосвязанных между собой вида: те, что отражают шумеро-аккадские и другие влияния на население Азово-Черноморских степей, и те, которые показывают преодоление таких влияний.
Погребения, содержавшие рассмотренные выше сосуды, относятся к так называемой катакомбной культуре. Название дано археологами по типу могил, потеснивших в XXII—XVIII веках до нашей эры ямы, а также каменные и деревянные гробницы. Катакомбные могилы состояли из колодца, у дна которого вырывался узкий и короткий лаз, ведущий в подземную камеру размерами около 2,5x2x1,5 метра. После размещения в камере покойника, укладки погребального инвентаря, возлияний, воскурений и прочих ритуалов лаз закрывали камнями, деревом или глиной, а входную яму засыпали землей.
Курганы над захоронениями катакомбной культуры почти не сооружались, могилы впускали в готовые насыпи ямной и более ранних культур. Это свидетельствует о немногочисленности участников похорон. С другой стороны, именно в катакомбах сосредоточено основное количество перезахоронений и подхоронений умерших в разное время. Из этих двух обстоятельств следует вывод, что катакомбы являлись могилами многоразового использования, своеобразными склепами, и служили, очевидно, для захоронений ближайших родственников. Такой обычай свидетельствует об обособлении кланов и индивидов, усилении патриархата, словом, о перестройке первобытнообщинных отношений.
Причины такой тенденции если не полностью, то в преобладающей мере коренились в особо значительном воздействии цивилизаций Ближнего Востока на племена Азово-Черноморских степей рубежа III—II тысячелетий до нашей эры. Подобная, но еще более выраженная ситуация сложилась в середине I тысячелетия до пашей эры. Во втором случае попытка степных скотоводов создать свое государство, образно говоря, удалась: возникла Скифия, формированию которой способствовали контакты с Персией и Грецией.
Влияния Шумеро-Аккада, а затем Вавилона и других царств Ближнего Востока на племена катакомбной культуры отразились не только в общественных связях, но и в духовных представлениях – в частности, в отношении к жизни и смерти. Многократные переносы останков, обычай препарирования трупов (несколько сходный с бальзамированием и сложившийся, возможно, не без его влияния, о чем свидетельствует находка египетского амулета в виде жука-скарабея в катакомбе неподалеку от Каменной Могилы) – все это должно было открыть ту картину загробного тления, которая так выразительно описана в разговоре Гильгамеша с тенью погибшего друга:
"Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,
Скажи мне закон земли, который ты знаешь!"
"Не скажу я, друг мой, не скажу я!
Если бы закон земли сказал я,
Сел бы ты тогда и заплакал!"
"Что же? Пусть я сяду и заплачу!
Скажи мне закон земли, который ты знаешь".
"Голову, которой ты касался и которой радовался сердцем,
Точно старую одежду, червь ее пожирает!
Грудь, которой ты касался и которой радовался сердцем,
Точно старый мешок, полна она пыли!
Все тело мое пыли подобно!"
На изменение у «катакомбиков» взглядов на загробный, потусторонний мир указывает также наибольшая распространенность погребального инвентаря. Наделение покойников глиняной и деревянной посудой, скребками, ножами и другими изделиями из камня, бронзы, кости становится делом обычным. В могилах широко распространились редко встречающиеся в иных культурах Азово-Черноморских степей топоры, булавы и стрелы, а также и вовсе уникальные изделия: ритуальные чаши и амфорки из толченых раковин и пережженных костей, посмертные маски, игральные кости. Последние, как известно из «Гимна игрока» и других мест «Ригведы», применялись не только в ритуальных целях, но и для личного обогащения (или обнищания) – для игры на коров, лошадей и прочие ценности. Нередко ставкой в игре была жизнь человека: проигравший использовался в качестве жертвы...
Словом, влияния рабовладельческого Востока не прошли бесследно. И после их значительного сокращения в XVII—XIV веках до нашей эры (когда стали налаживаться более тесные связи Северного Причерноморья с Балканами и Зауральем) еще долго изживались из местных культур. Отголоски такого противостояния, стремления сохранить традиции первобытного, строя прослеживаются вплоть до начала формирования Скифии: Геродот рассказал о скифских мудреце и царе, убитых соплеменниками за тайную приверженность обычаям греков...
Сопротивление традиционного мировосприятия рабовладельческой культуре началось с момента их столкновения. Первым показателем такого сопротивления можно считать небывалое распространение календарной орнаментации сосудов и прочего инвентаря, на что мы уже обратили внимание при анализе горшков со сценами из "Поэмы о Гильгамеше".
Стремление присоединить покойников к годовому циклу и, таким образом, их воскресить прослеживается также в дугообразном размещении могил вдоль южного склона кургана Да еще выходами-лазами в сторону восходов Солнца. Значение годового цикла с наибольшей выразительностью представлено в конструкции той катакомбы у Каменной Могилы, в которой найден древнейший сосуд с иллюстрациями к "Поэме". За входной ямой следовала здесь не одна, как обычно, а целых три камеры! Две первые были пусты, а вход в третью, с покойником, забит речным илом. Не отразил ли этот обряд представления о четырех временах года, первое из которых желанно (вход-выход могилы), а последнее – потустороннее, зимнее – следовало бы навсегда "запечатать" (камера с погребенным)?..
Катакомбы, как рассмотрено в предыдущих частях нашей книги, символизировали и потустороннее жилище, и кочевую кибитку. Такие значения вполне могли уживаться с влиянием рабовладельческой идеологии и даже содействовать их утверждению в первобытнообщинной среде. Но что несомненно противодействовало таким влияниям, так это катакомбы с символикой чрева Матери-Земли, призванного возрождать мертвых. Идея таких могил совместно с небывалым распространением календарной орнаментации способствовала преодолению инородных, раннеклассовых элементов, привнесенных во все еще прочное первобытное мировосприятие индоиранских племен,– элементов неверия в торжество бытия над небытием.
Таким образом, знакомство с культурой Шумеро-Аккада не вытеснило присущую населению Азово-Черноморских степей идею бессмертия, вечного коловращения жизни и смерти, но перевело ее на новый, более драматичный уровень. Эта драма наиболее очевидна при сопоставлении человеческих жертвоприношений, воплотившихся в мифологические образы шумеро-аккадского Энкиду и индоиранского Пуруши.
Образ Пуруши зародился, очевидно, еще в трипольской и куро-араксской культурах, оказавших существенные воздействия на формирование индоиранской языковой общности. Во всяком случае, и та и другая культуры знали человеческие жертвоприношения, начало которых теряется еще в тех временах, когда только складывался современный физический тип человека и каннибализм был в порядке вещей.
К началу IV тысячелетия до нашей эры этот жуткий обычай претерпел существенное изменение: появились освящаемые обычаями самоубийства. После этого развитие сущности человеческих жертвоприношений пошло двумя путями. В раннеклассовом Шумеро-Аккаде она преобразовалась в трагедию личности, преследуемой богами из прихоти (таков Думузи) или за невольный проступок (Энкиду). В развитом же, как у индоираицев, первобытном обществе возобладал мотив самоотречения во имя народного блага, ведущего к обожествлению жертвы (таков Пуруша). Соответствующие оценки сохраняются в культуре поныне: одно дело "несчастная жертва обстоятельств" и совсем другое "принес себя в жертву во имя...".
Древнейшим среди известных в курганах человеческих жертв является захоронение обрубков костей у южного прохода I Велико-Александровского кромлеха (рис.12). Показательно, что оно сопровождало погребения связанных с Древним Востоком куро-араксской и трипольской культур и было соотнесено с календарной обрядовостью. Мы уже знаем, что заложенные здесь представления получили дальнейшее развитие как в этом кургане, так и в расположенной неподалеку Высокой Могиле.
Выразительнейшее человеческое жертвоприношение обнаружено в ее IV, антропоморфном слое: оно представляло собой обломки черепа в воронке при кеми-обинской гробнице 3 (рис.14). Стенки гробницы были расписаны "древами жизни", число веток и стволов которых отвечало лунно-солнечному календарю.
Весьма специфический фрагмент такой же росписи, указывающий на период летнего солнцестояния, обнаружен в "Гроте быка". Он сопряжен с композицией, на которой представлены антропоморфный идол и поверженные у его ног человек и конь. Эта и другие композиции Каменной Могилы находят соответствия в сценах жертвоприношений людей и животных, изображавшихся на храмовых печатях Шумера (рис.23).

Рис 23 Сцены жертвоприношения из Каменной Могилы и на печатях Шумеро-Аккадского царства.
Впоследствии человеческие жертвоприношения нередко сопутствовали могилам кеми-обинской, а затем и ямной культур, но особенно распространялись они в катакомбной культуре. Вероятно, именно в ней и оформился окончательно образ Пуруши. К такому выводу приводит ряд соображений. Во-первых, человекоподобность («утробная» символика) катакомбных могил; во-вторых, чрезвычайное разнообразие в них расчлененных останков, и, в-третьих, принадлежность «Гимна Пуруше» к наиболее поздним частям «Ригведы».
Пуруша ("человек") индоиранцев – не жертва обстоятельств, а, как указано в гимне, приносящий себя в жертву герой. Во имя чего?
Когда боги соткали жертвоприношение
С Пурушей в качестве жертвы,
Весна была его жертвенным маслом,
Лето – дровами, осень – жертвой.
Его в качестве жертвы кропили на жертвенной соломе,
Пурушу, рожденного вначале.
Его принесли в жертву боги,
Садхья и риши.
Итак, боги «соткали жертвоприношение», а вместе с ним весну, лето и осень, использовав Пурушу в качестве первоосновы. Кроме дэвов («сияющих»), высших божеств, в этом приняли участие божества рангом пониже – садхья («долженствующие быть реализованными»), а также обожествляемые люди – риши («изрекающие», «песнопевцы», «сказители»).
Песни, желание, сияние – как это зыбко, не правда ли? Да и жертвенное масло, которым окропляют Пурушу в начале творения,– это тоже нечто бесформенное и текучее. Однако приносят его в жертву на соломе, служившей, как известно, одной из разновидностей брасмана ("молитвы"), возносящего на небеса. Затем следуют дрова, то есть срубленные деревья, за ними – "жертва", нечто, сотканное богами. Мир становится все вещественней и организованней, верно?
Вот в этом и заключается смысл жертвоприношения Пуруши: превратить начинающийся год из желаемого в действительный, обеспечить ему правильный ход. Жертвенный человек выступает конкретным, уже состоявшимся явлением, из которого "песнопевцы", "жаждущие" и "сиятельные" сотворяют реальное будущее.
Следы подобных ритуалов в катакомбных могилах не редкость. Есть обрубленные или залитые охрой ноги, есть отчлененные и очень сложно обработанные головы...
Развитие последнего ритуала особенно сближает жертвоприношения из катакомбных могил с образом Пуруши. Так, в кургане у села Пелагеевка Николаевской области обнаружено три катакомбных погребения с жертвоприношениями черепов. Вокруг головы древнейшего из этих трех погребенных установили три разных сосуда. Два вылеплены из глины и украшены изображениями несущейся птицы ("весна", сосуд перед лицом погребенного), а также элементами "древа жизни" ("лето", перед лбом погребенного); третий сосуд располагался над теменем покойника и представлял собой чашу, изготовленную из черепа человека ("осень", конечная жертва из "Гимна Пуруше"). У головы погребенного насыпали кости различных существ (всевозможных "животных, живущих в воздухе, в лесу и в деревне": карпа, рыси, собаки, быка, лошади).
В двух последующих погребениях ритуал упростился: в одном из них найден обломок черепа, а в другом – чаша из золистой массы, полученной при сожжении головы человека. Полусферическое дно чаши было украшено крестом, окаймленным концентрическими кругами и полуовалами – символикой солнца, рождающегося из лона небес.
Луна из (его) духа рождена,
Из глаза солнце родилось,
Из уст – Индра и Агни,
Из дыхания родился ветер.
Впоследствии наряду с сосудами из золистой массы стали практиковать подобную символику и на самих головах. Помимо обычных татуировок и росписей, распространился обычай отчленения голов, снятия с них (вывариванием и т. д.) мягких тканей и замены их «вечными» глазами, устами, ушами и лицами, изготовленными из смеси глины, охры, раковин, золы и т. п., то есть из различных элементов мироздания.
Жертвенный человек, таким образом, уподоблялся Вселенной,
Которая была и которая будет.
Он также властвует над бессмертием...
Таково его величие,
И еще мощнее, чем оно, (сам) Пуруша.
Четверть его – все существа.
Три четверти – бессмертное на небе.
Как далеко, насколько выше это судьбы Энкиду! И насколько менее развита личность Пуруши!..
Так что же важнее: развитие, но и страдание личности или растворенность человека в обществе, но также и во Вселенной?
Вопрос вопросов гуманистов и просветителей всех времен и народов. Вот если бы удалось соединить развитие личности с приобщенностью ее ко Вселенной!.. К этому, по существу, и стремится прогресс. И первый шаг в этом направлении был сделан Пурушей, а не Энкиду.
Второй продолжил путь первого... и оказался в нравственном и в социальном тупике. Почему? Да потому что отошел от природы.
Пуруша ценой сверхнапряжения, ценой мученической самоотдачи еще сохранял эту исконную связь; рубящий же "древо жизни", убивающий "вечного духа", преследующий "лучи сияния" Энкиду уже расторг с природой кровные связи.
Но мог ли прогресс обойтись без преодоления тупика – рабства, крепостничества, гнета империализма? Очевидно, нет. Во-первых, в силу закона пульсации ("отрицание отрицания") любого развития. Во-вторых, потому что дальнейшее развитие производительных сил человечества не могло обойтись без преобразования своей основной составляющей – производителя, самого человека. Личность должна была вычленяться из первобытной общины! И она вычленилась, преобразовав естественное сообщество людей в искусственно созданное государство.