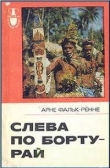Текст книги "Будь счастлив, Абди!"
Автор книги: Юрий Дьяконов
Соавторы: Анатолий Корольченко,Николай Китьян,Валерий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Ждал, глядя в холодное небо, Маленького принца. Может быть, это было здесь? В этом уэде, у этой колючки?
18. I
За день продвинулись на сто сорок километров. Медленно, буксуя в глубоких песках, поднимались на дюны, спускались с них, тяжелые машины с прицепами ревели, их крутило из стороны в сторону, но они все-таки медленно двигались вперед.
Я еду в самом легком джипе с Вителем и Шикула. Немолодой мудрый туарег уютно дремлет между нами. Витель лихо, одной рукой ведет машину, почти не смотрит на дорогу и все время рассказывает мне о Франции, о Хоггаре, расспрашивает о России. В темноте люди как-то становятся откровеннее. Медленно движется по песку машина. Мир ограничен двумя желтыми пятнами, которые выхватывают фары из черноты холодной ночи. Я с увлечением слушаю рассказ о далекой и незнакомой мне Бретани, о пене и брызгах морских волн, мерно бьющих в теплый летний берег. Как волны переливается красивая французская речь и забываешь о безбрежной пыльной Сахаре, о скрипящем песке на зубах, о предстоящей леденящей ночи под холодными звездами.
Ночуем среди голой пустыни. Дров нет. Вокруг торчат только редкие колючки. Костра не разжечь. Сидим у раскладного столика, закутавшись в одеяла. Пьем горячее красное вино, подогретое на газовой плитке. А утром из ведра молотком выбиваем толстый слой льда.
18. I
Вечер. Дюны, дюны, дюны. Большие и маленькие. Все одинаковой формы. Все красивые, бархатные. Днем они светлые-светлые. А к вечеру каждый изгиб песка оттеняется черной-черной тенью. К вечеру тени удлиняются, и наконец перед закатом солнца если стать на бархан, то тень твоя, огромная и страшная, как джин из туарегских легенд, потеряется где-то вдали горизонта. Пески становятся к вечеру лиловыми, горы тоже лиловеют. А небо в это время синее-синее. И очень глубокое. Настолько глубокое, что если всмотреться, то видны в синеве неба зеленоватые звезды.
Стали лагерем среди огромного песчаного поля. У горизонта со всех сторон чернеют конусы умерших вулканов и скалистые горы докембрия. Поскольку стоять здесь будем три дня, расположились обстоятельно: поставили палатку. Она большая, но в ней очень холодно. Холоднее, чем снаружи. Спим не в палатке. Ужинаем только в ней.
Солнце село. Луны еще нет. Только черное небо на западе понемногу белеет, предвещая восход луны. Все пятеро только вернулись из маршрута. На бородах и физиономиях слой светлой пыли. Обтерлись полотенцами. Мыться нечем. Воду бережем. Ее у нас на всю гвардию всего 20 канистр.
Холодно стало сразу. В течение часа-полутора температура падает с +20 до -3, -5°. Сразу натягиваем на себя все, что есть теплого.
Неугомонный Роже установил у входа огромную бочку, развел в ней бушующий огонь. Сам улегся снаружи рядом с бочкой на бурнус и читает детективный роман. Таула и Шикула возятся у печи. Все остальные склонились над столом в теплой палатке. Заросший густой черной щетиной Фабриес сосредоточенно разглядывает панорамические аэрофотоснимки. Посасывая трубку, ковыряет собранные днем образцы, поднеся их к близоруким глазам, Жан Бертран. Что-то скороговоркой бормочет себе под нос непоседа Рено Каби. Позевывает, дописывая в полевой дневник последние записи до безобразия грязный Витель.
Сейчас будем ужинать.
20. I
Вчера вечером заблудились в дюнах в трех километрах от лагеря. Заканчивая дневной маршрут, увидели обнажение, которое оказалась чрезвычайно интересным. Засиделись на нем. Потом, пока собирали всех из разных расщелин, темнота спустилась в долину. Хоть глаз выколи. Желтые фары безотказного джипа светят только метров на двадцать-тридцать. Это крохотное пятнышко. Куда ехать – черт его знает.
На дюны можно подниматься, только разогнав машину как следует. Иначе не взобраться – буксует. Гоняли-гоняли с одной дюны на другую – нет выхода. В конце концов заполошный Каби взял окончательно руководство на себя. Это чуть не кончилось плачевно. Каби, суетясь и разглядывая наспех аэрофотоснимки, орет Вителю, который ведет машину: «Быстрей, быстрей. Жми на тот подъем. Жми. Жми. А то не вытянем! Жми же быстрей. Давай, давай!» Витель жмет на третьей скорости на чернеющий подъем. Что за ним – не видно. А Каби подгоняет: «Жми, жми, жми!» В последний момент я успел заорать благим матом по-русски: «Стой!» И крутнул руль у растерявшегося Вителя. Машина стала намертво. Впереди в тридцати-сорока сантиметрах у передних колес дюна стометровой высоты обрывалась крутым обрывом. Где-то далеко внизу тоненько шуршал осевший с крутого бугра песок. Как водится в таких случаях, постояли несколько секунд молча. Потом также молча, хорошо понимая друг друга без слов, разошлись в разные стороны искать выход из проклятой песчаной ямы. В укор Каби никто не сказал ни слова.
Я шел по твердому холодному волнистому песку дюны в темноте сахарской ночи и думал о том, как иногда сближают людей трудности. Не нужно лишних слов, не нужно объяснений. Каждый знает, что ему нужно делать. Вот бы хорошо было бы, если бы трудности сближали всегда. И не только в Сахаре.
21. I
Какой идиот придумал историю о том, что в Африке геологи работают в белых костюмах, на белых пони, в белых перчатках и со стеком? Нет здесь аристократов и пижонов. Здесь такие же трудяги, как и у нас в Каракумах, Якутии или на Алтае. У них такие же натруженные руки, такие же избитые в кровь ноги, такие же багровые шелушащиеся рожи, такие же выгоревшие рубашки, болтающиеся лохмотьями, такие же наспех неумелой рукой зашитые дыры на коленях и на ягодицах. Одна и та же манера таскать молоток и рюкзак. И песни у неяркого пламени ночного костра такие же грустные. Одни и те же слова в тоске по близким. И самое главное – один и тот же фанатизм.
Мне нравятся отношения Фабриеса со своими аспирантами. Фабриес – профессор, научный руководитель Бертрана, Вителя и Каби. Фабриес – человек, от которого зависит судьба их диссертаций и вообще дальнейшие судьбы этих троих. Но перед ним никто не заискивает, не поддакивает угодливо. Фабриес здесь не имеет никаких льгот. Он такой же полевой геолог, как и остальные. К нему не бегают с разными вопросами. И он не одолевает подопечных своей опекой. Все на равных. Все обсуждается. Идеи Фабриеса критикуются и раскритиковываются с такой же горячностью, с какой разносят идею любого другого. Мнения Фабриеса подвергаются публичной проверке и обсуждению, как мнения любого другого. В этой компании авторитет только один – аргумент. Если у тебя нет аргументов, то будешь независимо от ранга и положения положен на обе лопатки и высечен публично.
Отсюда следуют равные отношения друг к другу, полные взаимного уважения. Нет людей, которые не делают глупостей. Здесь осуждаются не люди – глупости. И это не влияет на отношения к человеку. А вообще же здесь стараются как можно меньше осуждать.
21. I
Как мы мало знаем Сахару! Точнее, совсем не знаем ее. В отличие от представления обывателя, как разнообразна она. Трудно себе, например, представить лес в пустыне. Лес в Сахаре! А ведь они существуют, эти леса. Это огромные массивы низкорослых серо-зеленых безлистных игольчатых тамарисков. Они встречаются редко. Но это не оазисы с их буйной растительностью, с их яркой и темной зеленью, с их высоченными пальмами. Это тем более не теряющиеся в поднебесье русские мачтовые леса. Леса тамарисков, прижатые к сухой раскаленной песчаной почве, – это типичные леса (или рощи) пустыни. Они ее и только ее порождение. И они, эти разлапистые, неровные, искореженные тамариски, здесь, в желтых дюнистых песках, не лишены своеобразной прелести. И это леса. Настоящие леса! Так же как и все леса мира, они сохраняют ночную прохладу, так же как и все леса, они пахнут деревом и в них под ногами потрескивают сучья и, как во всех лесах мира, в них водятся зайцы. Сегодня серый косой, прижав уши, большими прыжками быстро улепетывал от меня, выскочив из тамарисков на песок. И от этого русака как-то сразу повеяло домом, запахом полыни, нашей степью и русским духом. Боже мой! Как далеко отсюда все то, что именуется родиной. Здесь, в центре Сахары, где легендарные туареги гортанно говорят на своем языке многотысячелетней давности, где все диковинно и необычно, вдруг оказался наш радёмый русак!
* * *
Около десятка лет назад французское Бюро геологических изысканий BRGM, проведя большие работы, сняло карту (геологическую) всего Хоггара – это около полутора миллионов квадратных километров. Колоссальная территория, занятая докембрием, – древнейшими на земле отложениями. Но самое удивительное то, что на всем этом огромном пятне докембрия на французской карте не оказалось никаких полезных ископаемых. Это невероятно, так как все подобные пятна, называемые щитами, довольно богаты полезными ископаемыми. Отсутствие руд в Хоггаре заставило задуматься профессора Фабриеса и его беспокойную, жаждущую поразмыслить компанию. Но только мыслить для геолога еще мало. В. А. Обручев говорил, что геолог, помимо головы, должен иметь еще и ноги. Для того чтобы проверить данные карты BRGM, нужно исходить тысячи, если не десятки тысяч трудных километров. В Хоггар выехали трое аспирантов. Каждый из них занимается детальнейшим образом своим участком Хоггара. Но для того чтобы забираться в детали, нужно хорошо представлять общее. Поэтому Фабриес и решил предпринять этот маршрут, эту двухнедельную экспедицию, в которой мы жаримся и коченеем уже неделю. Первые результаты уже есть: в карте BRGM много неточностей, а зачастую просто липы. Посмотрим, что будет дальше.
* * *
Сижу у палатки. Пишу. Роже, копошащийся у вездехода, кричит, спрашивает, который час. Я ему отвечаю, что уже полдень. Шикула, услышав, что уже полдень, оставляет горящей плиту, на которой варится обед, отходит на несколько десятков шагов от лагеря в пески, поворачивается лицом к востоку, становится на колени, руки упирает в колени. Поднимает глаза к небу и громко с минуту-две выкрикивает слова молитвы. Потом он вытягивает руки, кладет их ладонями на песок, опускает голову к песку, лицом вниз, и застывает в такой позе примерно на минуту. Потом он резко поднимается, подворачивает под себя левую ногу, садится на нее и снова поднимает просительно глаза к небу. Сидит несколько времени молча. Все. Молитва окончена. И так три раза в день: на восходе, в полдень и на закате.
Они очень набожны, туареги. Впрочем, как и все мусульмане. Они абсолютно не едят свинины, не пьют ничего спиртного, даже пива, свято соблюдают посты. На стенах их убогих жилищ развешаны отпечатанные и написанные от руки молитвы из корана, фотографии и красочные картинки на религиозные темы.
21. I
Утро. Сборы. Меняем лагерь, верно прослуживший нам две ночи. Еще на полторы сотни километров на север. Там – чарнокиты, к которым я так рвусь, ради которых поехал в Сахару.
Роже, наш механик, он же завхоз, он же администратор, человек с кипучей энергией, заканчивает сборы. Все увязывается, притягивается, прокладывается мягкими вещами. Поближе укладываются длинные лестницы и полосы грубого брезента – последняя надежда на случай буксовки: сегодня предстоит трудный путь через пески.
Культура человека проявляется не только в том, что не утираешься рукавом, пропускаешь вперед женщину и играешь на память Моцарта. Здесь, в шестистах километрах от ближайшего поселка, в центре пустыни, Роже закапывает в песок мусор, консервные банки, бумажки, кости и прочее. А бутылки ставит на кочку – авось когда-нибудь кому-нибудь пригодятся.
Каби кричит по-туарегски: «Ин шалла» (С богом). Пора трогаться.
21. I
Вечер. Хоггар кончается. Горы расступаются. Из песков торчат лишь одинокие черные пики. Пески пожирают, точнее, погребают горы. Пески оказываются сильнее. Но сильнее всего в пустыне ветер. Он разрушает горы. Он превращает их в мельчайшие песчинки. Он рассеивает их по Сахаре. Вся Сахара – это рассеянные частички гор. Он, наконец, создает свои горы – огромные, желтеющие на фоне голубого неба. Это эрги – огромные горы песка высотою до двухсот – двухсот пятидесяти метров. Они протягиваются на десятки километров, эти безжизненные песчаные горы. Они неравные, ребристые: их тело изрезано кривящимися барханами, которые отходят от верхушки эрга, извиваясь как щупальцы осьминога. Эрги – это почти та Сахара, которую мы представляем себе в далекой России. Кроме пресмыкающихся, в эргах нет никаких животных. Над эргами и вокруг них всегда «кривится» воздух, создавая невиданные впечатляющие миражи. То тебе начинает казаться, будто песчаная гора висит в воздухе – это мираж. То вдруг рядом с эргом ты видишь яркую зелень пальм, листья, колышимые ветром, и высокие стволы – это тоже мираж. Вода – это ординарно. У подножия эрга всегда видится огромное озеро. Голубое и слегка волнистое. С желтыми ровными берегами. И это тоже мираж.
Туареги, кроме аллаха, верят еще и в джнунов (джинов). Они считают, что в эргах живут только злые джнуны, которые сначала дурачат человека, потом лишают его памяти, а после этого оставляют его в страшных эргах. И нет человеку выхода оттуда.
Старый черный Шикула, говоря о злых джнунах эргов, понижает голос и с опаской косится на эрг, медленно уходящий назад за стеклом ползущей машины. Но он не знает, старый верный Шикула, что кости, белеющие в эргах, – это не кости туарегов, лишенных разума джнунами. Это старые кости их далеких-далеких предков – людей палеолитических стоянок. Это они жили у подножий эргов (а может, и не было тогда еще эргов); это они жгли костры, уголья которых можно раскопать в песке; это они вытачивали из белого мягкого мрамора с кровавыми каплями граната неуклюжие фигурки, источенные временем и ветром; это они оставляли после себя свои устрашающие орудия – яшмовые наконечники копий и стрел. Это они, наконец, шестым чувством тянущиеся к искусству, высекали на высоких черных скалах Тассили свои динамичные рисунки – быков и человечков, охоту и мирные танцы.
Обо всем этом рассказывал мне учитель из начальной школы в Идельэсе, месье Барер, посвятивший свою жизнь туарегам и Сахаре.
* * *
Туарегам деньги не нужны. Им нужны верблюды. Верблюды – это жизнь. Верблюд – это молоко. Верблюд – это шерсть для теплого бурнуса. Верблюд позволяет передвигаться по Хоггару, охотиться на газелей. Верблюд – это пища. Верблюд – это, наконец, огонь, так как без верблюда не притащишь из далекого уэда высохшее дерево тамариска. Верблюд – это вода. На нем можно привезти много-много воды в мягких бурдюках из газельих шкур.
У старого Факи, с коричневым лицом, усталыми умными глазами и белыми седыми усами, у старого Факи, зябко завернувшегося сейчас в свой выгоревший, некогда зеленый, бурнус, было четыре верблюда. Дней десять назад три из них ушли. Факи сел на оставшегося четвертого, такого же старого, как и он сам, погрузил на него свой нехитрый скарб и бурдюк с водой и отправился по следам на поиски. Следы уводили его все дальше и дальше. Горы становились все ниже и ниже: верблюды ушли в пустыню. Факи ушел уже на шестьсот километров от Таманрассета, оставив в четырехстах километрах ближайший поселок – цветущий оазис Идельэс. Верблюдов не было. А вчера утром он заметил, что бурдюк с водой протерся обо что-то острое, и вся вода вытекла капля за каплей на сухой песок Хоггара. Надо было поворачивать назад. Два дня он уже без воды. «Старое тело не может уже выдержать так долго без воды. Раньше, когда был молодым, не пил по пять дней. Раньше мог, сейчас – нет», – хрипит старик, глотая мелкими глоточками чистую воду из нашей ярко-красной большой эмалированной кружки. Он зашивает, латает свой прохудившийся бурдюк. Мы наливаем его доверху холодной, искрящейся в закатных лучах солнца водой. Старик обнимает двумя руками пухлый тяжелый бурдюк и долго сидит без движения на холодеющем вечернем песке. Он плачет. Редкие слезы стекают по его коричневым щекам, оставляют полоски на слое светлой пыли, покрывающей его красивое темное лицо, и теряются в белых-белых больших усах.
Завтра надо самим где-то добывать воду. Осталось мало.
22. I
Среди желтой пустыни стоит черный высокий холм. Глаз постепенно свыкается с этим сочетанием – желтое и черное. И вдруг в теле черного холма – огромный белый, извивающийся причудливыми складками пласт мрамора. А в мраморе крупные капли крови – кристаллы граната. (Так вот откуда палеолитические люди брали камень для своих фигурок!). Белый мрамор с красными округлыми гранатами на фоне черного холма. Сказка! И снова очередное «вдруг»: белый мрамор рассекается травянисто-зеленой жилой диопсидита. А в нем скопления голубого кальцита. За поворотом – новая вспышка красок, за ней другая, третья, десятая. Это невиданный мир, невиданные сочетания красок, непередаваемая красота, созданная бесконечно разнообразной природой.
* * *
Задул ветер. Он дует сильно, с редкими. Очень резкими вспышками-порывами. Верхняя часть поверхности пустыни поднялась в воздух. В воздухе пыль от горизонта до горизонта, уходящая далеко ввысь к бесцветному небу, к блеклому пятну бесцветного солнца. За этой пыльной атмосферой негреющее солнце светит холодно, как луна. Песок везде: на зубах, в волосах, в ботинках, в спальном мешке. Пыль. Песчаная пыль. Она режет глаза, сечет блошиными укусами лицо, руки. От нее нет спасения. Она везде. Хочется залезть в мешок, закутаться и забыть о ней. Но в мешке тоже песок. Ветер закручивает песок и колючки сухих пустынных растений в спиральные вихревые столбы, и эти столбы быстро передвигаются по ровной поверхности уэдов. Они чернеют у горизонта и кажется, что они подпирают серое мглистое небо. Температура резко упала и даже днем стоит чуть выше нуля. Ночью палатку ставить нельзя – сорвет. Спим под кочками, заслоняющими хоть немного от ветра. Спим, закопавшись в ледяной песок, – там хоть нет ветра. Спим в двух спальных мешках, закутав голову одеялом.
Костер развести нельзя – его моментально разносит. Едим холодные консервы. Пьем виски, чтобы согреваться. Проклятая ледяная пустыня Сахара!
* * *
Фабриес в Алжире второй год без семьи. Он очень скучает по жене и шестилетней дочке. Проезд в родную Тулузу очень дорог. После лекций в университете домой идти не хочется. Дома пусто. Неуютно. Вот и просиживает он в университете за микроскопом с раннего утра до позднего вечера. Как ни проходишь вечером мимо – все в его кабинете горит свет.
Сегодня я спросил у Фабриеса, вытаскивавшего из полевого рюкзака пригоршни вишневых гранатов, для чего ему столько? Он замялся, а потом ответил: «Видите ли, месье Закруткин, я всегда привожу дочке красивые камни из экспедиции. И сейчас тоже мне не хочется нарушать эту маленькую традицию». Он помолчал. Потом добавил, вздохнув: «Скучаю я по ней и по жене. Сильно скучаю».
И все это было очень понятно, очень по-человечески, очень близко мне самому. И от этого профессор Фабриес как-то сразу перестал быть профессором Фабриесом, а стал Жаком Фабриесом, человеком со слабостями, склонностями, привязанностями.
И я тоже вытащил из чемодана маленький мешочек с крупными вишневыми гранатами и ершистыми друзами горного хрусталя. И сказал, кому это предназначается.
* * *
Сейчас вечереет. Сегодня стали лагерем рано. Часов в пять. Перед нами извивается цепь гор Эджэрэ, позади – ровные, как терраса, горы Тассили. Стали рано потому, что у Роже от грузовика отцепился прицеп и он его потерял. А в прицепе все продукты, остатки воды и посуда. Сейчас Роже и Таула поехали искать пропажу. Попутно должны заехать в одну из долин хребта Эджэрэ, поискать там воду. Говорят, там есть крохотный источник.
Сидим ждем воду и ужин.
Жрать хочется зверски.
* * *
Сижу один у костра. Остальные – в палатке. Кто-то тронул меня за плечо. Обернулся. Стоит фигура в бурнусе. Из-под тюрбана видны только глаза. А из-под бурнуса торчат босые ноги. Что-то говорит на своем непонятном языке. Показываю, что не понимаю. Он подносит пальцы ко рту. На общепринятом международном языке это означает: «Дай закурить». Достаю сигареты. Берет две штуки и произносит знакомое мне слово «танумерт», что по-туарегски значит «спасибо».
По-французски маленькая фигура из ночи не знает ни слова. Поэтому кричу, зову Таула. Он приходит. Начинается оживленная беседа, из которой я, конечно, не понимаю ни слова. Он сидит у костра час, другой, маленький кочевник туарег. А потом снова уходит в черную-черную ночь с яркими звездами в холодном небе.
Вот так-то. В центре Сахары ночью подходит к тебе человек, просит закурить. У него нет дома. Он не знает простейших вещей: стола, стула, стен, крыши. Это кочевник. Он идет босыми ногами по мерзлому песку. Идет медленно, спокойно, как по паркету. Он оставляет следы на песке. Если бы не было этих черных следов, высвеченных моим ярким фонариком, можно было бы подумать, что это ночной мираж. Или эдакий туарегский вариант Маленького принца.
А в следах медленно оседают песчинки, гонимые ночным ветром. Они постепенно заносят следы. К утру их не будет.
24. I
Снова в путь. Впереди двести километров до горы Джинов.
Роже на грузовике поехал вперед, а мы на двух джипах остановились у высокой белой мраморной горы, рассеченной по диагонали пластами белого мрамора различных оттенков. Справа к горе прислонен гладкий желтый бархан. Подниматься в гору трудно. Она очень крутая. Спускаться легче – сел на свою пятую точку и катись в клубах поднимаемого песка. Бертран с Вителем так и поступили, чем доставили большое удовольствие сидящему внизу Шикула.
* * *
24. I
Вечер. Относительно легко прошли ущелье: только дважды пришлось разбирать завалы камней. А потом…
Потом неслись в течение двух часов со скоростью семидесяти километров в час. Ровная, как стол для пинг-понга, пустыня, присыпанная мелкими камнями, утрамбованными временем, уходила на юг от высокогорного Тассили. Долго неслись к югу, а высокие желтые скалы все не скрывались за горизонтом. Как огромные средневековые замки, мрачные и неприступные, венчали они вершины гор.
За два часа пронеслись расстояние, которое рассчитывали проехать за шесть-семь часов.
Из-за бугра неожиданно показались газели. Они стояли и смотрели, повернувшись настороженно в нашу сторону. Потом сразу резко, все пятеро, понеслись по гладкой пустыне. Они неслись всей стаей очень грациозно, прижав рога к спине, вытянув носы вперед и почему-то помахивая короткими хвостиками.
Роже, рядом с которым сидел Таула (у него единственное ружье на всю нашу экспедицию), резко отвернул в сторону руль, увеличил скорость и, подскакивая на кочках, понесся вдогонку. Издали вначале казалось, что газели уходят от машины – больно уж легко и грациозно неслись они. Но расстояние медленно сокращалось. Сто метров. Пятьдесят. Таула поднял ружье. На белом фоне машины хорошо виден издали черный высунувшийся ствол ружья. Тридцать метров. Далеко вдали слабой хлопушкой прозвучал выстрел. Газели продолжали нестись. Мы ждали второго выстрела. Его не было. Машина начала сбавлять ход. Газели уходили. Вдруг одна из них пошла медленнее, оторвалась от стада. Теперь она почему-то бежала по большому кругу. Бежала все медленнее, медленнее. Перешла на шаг. Остановилась. Постояла несколько мгновений. Потом упала. А белые хвосты стада газелей уже далеко-далеко, где-то у черных гор.
Несколько дней назад Фабриес сказал, что он не любит охоту. «Я не сентиментален, но вид убитого животного убивает во мне всякое желание охотиться», – объяснил он.
– Бросьте ваши рассуждения кисейной барышни, – вмешался Каби. – Вы не вегетарианец и знаете, что едите убитых кур, баранов, выращенных для убийства. Вы облизываете пальчики после съеденной куропатки. Вы мужчина и должны понимать, что это железный закон жизни: мы должны убивать животных для того, чтобы питаться. Я убиваю спокойно, с сознанием того, что это необходимо. А раз необходимо, значит это хорошо.
Спор продолжался долго. Но спорящие к единому мнению тогда так и не пришли.
Раненая газель лежала вдалеке. Из подъехавшего грузовика вышел Таула. Джипы не приближались. Таула перерезал газели горло. Темно-желтый глаз лежащей на боку газели начал лиловеть. На сухом белом песке расплывалось красное пятно.
Ни Витель, ни Фабриес, ни Бертран не подошли к тому месту, где лежала газель. Все сидели в джипах, отвернувшись. Каби стоял за машиной и делал вид, что пристально рассматривает что-то в противоположной стороне, в горах.
Вечером ели свежую газель.
* * *
Таула разносит крохотные рюмочки с традиционным туарегским чаем, приготовленным из каких-то немыслимо душистых пустынных трав. Он пахнет немножко дымом костра, дымом сухого таллаха, немножко мятой. В общем же, это ни с чем не сравнимый аромат, аромат пустыни.
Кстати, о Таула.
Есть люди, которых не представляешь без природы. Вывези такого человека в город – и он зачахнет. Таков и Таула. Люди, подобные ему, обладают каким-то особым чувством, которое позволяет им по совершенно непонятным и незаметным признакам и приметам находить дорогу. Я наблюдал это у оленеводов-эвенков, у пастухов-казахов, у сибиряков-охотников, у скотоводов-малинке в Гвинее, у жителей джунглей и степей, тайги и саванны, тундры и пустыни. Таула тоже уверенно протягивает свой запыленный палец и молча кивает – дескать, езжай туда. В адском нагромождении камней, в котором французы сегодня с картой и аэрофотоснимками не могли сориентироваться, Таула уверенно повел всю нашу маленькую экспедицию. Потом он объяснил, что лет двадцать – двадцать пять назад он проходил здесь, разыскивая верблюдов. Но там ведь никаких гор, никаких ориентиров не было – каменный хаос! Объяснить, по каким именно признакам он сориентировался, Таула не мог. Он удивленно пожал плечами и сказал: «Но это же было видно!»
Да, насколько мы, жители городов, обеднены в сравнении с такими людьми. Лишенные зрения называются слепыми, лишенные слуха – глухими. Нет названия для людей, лишенных чувства природы.
26. I
С каждым днем убеждаюсь все больше в том, что наши представления об Африке вообще и о Сахаре в частности очень недалеки от представлений некоторых французов о России: «О-ла-ла! Россия! Это нечто запорошенное снегом, где всегда стоит страшный мороз». Примерно так же мы представляем себе Сахару: это нечто песчаное, большое, где ничего не растет и где никто не живет (может быть, только змеи и ящерицы). Как это далеко от действительности! Вот уже около двух часов едем по широкой петляющей долине. Дно ее желтое, а стены лиловые. Горы, кругом горы. Лиловые горы выветренных гранитов. Лиловые махины голубого камня, которому около трех миллиардов лет. Там, в горах, все мертво; лишь ветер гуляет по ним. Вверху голубое небо. А внизу… внизу в долине зеленеют тамариски, сереют колючие таллахи, желтеет трава. По растрескавшемуся дну долины, где полтора месяца назад бурлил поток от наводнения, огромный поток, тащивший огромные камни лиловых гранитов, теперь сквозь трещины в высохшем иле лезет, пробивается жизнь. Мелкие зеленые травинки заполняют мелкие черные трещины. Их уже много, этих травинок. И серое дно уэда не кажется уже серым: тут и там в тени тамарисков и кочек, в тени таллаха и высокой желтой травы зеленеют яркими красками пробившиеся новые травы. И это не оазис! Это одна из многих зеленеющих долин.
Я не знаю, сколько здесь газелей, но от машины они шарахаются стадами. Когда машина показывается из-за поворота, они вначале все одновременно поворачивают головы к машине, как загипнотизированные глядят своими желтыми глазами на появившееся чудище и остаются неподвижными несколько секунд. Потом одновременно бросаются наутек. Шарахаются вначале в разные стороны. Потом собираются вокруг своего вожака, несутся, подрагивая своими светлыми хвостиками-обрубками, и быстро скрываются где-нибудь в овраге или за поворотом.
Время от времени от машины улепетывают смешные темно-серые головастые и ушастые горные ослы. Размашисто убегают, с достоинством неся свое некрасивое тело с маленькой головкой, одногорбые верблюды. Поджав хвост, все время оглядываясь, бегут шакалы. В темноте фары останавливаются на мгновение на омерзительной скалящейся гиене. Цокают копытцами по звонким фонолитам муфлоны с огромными закрученными рогами.
Здесь нет львов и тигров, леопардов или волков. И потому спокойно пасутся на бесчисленных нетронутых человеком пастбищах эти мирные животные. Здесь прямо-таки рай для животных. Особенно таких неприхотливых, как верблюды – они ведь могут питаться такими колючками, которые не в силах осилить, пожалуй, даже стальная мясорубка.
Этот рай называется Деин.
* * *
От подножия горы Джинов до Деина проехали около двухсот «столбиков», как говорят французы. Дорога была все время неплохой, кроме шести-семи километров у въезда в Деин. Мягкий песок, смешанный с крупными непреодолимыми камнями. Опять лестницы, брезенты. Опять оттаскиваем глыбы в стороны, расчищаем путь машинам. Опять мокрые от пота, опять пристает к потному телу песок. Опять задыхаемся, выталкивая на бугор машины. И… опять шутки, опять хохот, опять веселые подтрунивания. Молодцы ребята! Никто не теряет присутствия духа, никто не отчаивается, не вешает носа. Никто не ноет о безмерной усталости, о растертых мелкими песчинками ногах, о боли в плечах, в набухших мышцах, о трещинах на губах, о рези в глазах. Никто не стонет от холода, не жалуется на жару. Наоборот, все трудности встречаются шутками, все трудности сопровождаются улыбкой. И от этого запоминаются не трудности, а улыбки.
Так и двигаемся метр за метром, километр за километром. Шутка за шуткой, улыбка за улыбкой.
Ну, а работа! Работают эти ребята поразительно. От восхода до заката солнца – как заведенные. То и дело слышны удивленные возгласы маленького щуплого непоседы Каби: «О-о! Собака! Посмотрите!», «Глядите, какая собачья жила!» Ум его подвижный, острый. Он все время что-то домысливает, выискивает.
Бесстрашно карабкается на немыслимые кручи мрачноватый неповоротливый Бертран. Раза три в день останавливается, вытаскивает из рюкзака трубку и кисет с табаком. Молча глядит на голубеющие горы и выпускает из себя голубой дым. В такие минуты его лучше не трогать: Жан-Мишель-Луи мыслит. Он приносит из маршрутов рюкзак образцов, который не поднять двоим, и голову, полную новых идей. С каждым маршрутом, с каждым отбитым образцом проясняются геологические прояснения в его большой бритой грязной бородатой и очкастой голове. А вечером он садится у костра и снова дымит своей трубкой. Сейчас его тоже лучше не трогать: он далеко отсюда. Бертран сейчас в пригороде Парижа, где у него жена с восьмимесячным сыном.
Вчера мы возвращались из маршрута вместе. Зная его мрачноватость, я не рассчитывал на оживленную беседу. Тем более на откровенность. Прошли молча километра три. Вдруг Бертран, не поворачивая головы, буркнул: «А у меня дома сын. Восемь месяцев. Не видел его половину его жизни. Тяжело». И продолжал так же, как и прежде, идти тяжеловатой походкой с опущенной головой. Допекло человека! Не машина ведь!