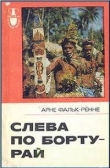Текст книги "Будь счастлив, Абди!"
Автор книги: Юрий Дьяконов
Соавторы: Анатолий Корольченко,Николай Китьян,Валерий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Будь счастлив, Абди!
От составителя
Первый раз Тольку Жукова, моего соседа по квартире, сняли с поезда далеко от дома, когда ему было девять лет. Потом ему исполнялось 10, 11, 12 лет, и он все упорнее и упорнее лез в поезд, а милиционеры все строже и строже предупреждали Толькиных родителей. Мне было жаль родителей, но я отлично понимала Тольку, когда он рассказывал мне об очередной прочитанной им книге – о Миклухо-Маклае, Афанасии Никитине, Пржевальском. И я знала, что готовится новый побег из дому…
Толька стал большим и уехал в Африку строить Асуанскую плотину. Потом он говорил мне потрясенно: «Ты знаешь, сколько лететь от Москвы до Каира? Ровно 5 часов 30 минут. Если б я знал это раньше…»
Когда мне пришлось взяться за эту книгу, я вспомнила своего друга Тольку Жукова с его неукротимой мечтой о дальних странах, с его нетерпением объездить шар земной и верностью мальчишеской мечте.
В книге вы прочитаете три рассказа об Африке. Почему сразу три?
Нам суждено было заново «открыть» Африку. Наши экзотические представления об этой части земного шара сильно пошатнулись, когда оттуда одна за другой стали приходить вести о национально-освободительных революциях и создании новых демократических государств. Теперь там несколько таких государств.
О сегодняшнем дне Африки, рассказывают в книге геолог Валерий Витальевич Закруткин, врач Николай Никитич Китьян и инженер Анатолий Филиппович Корольченко. Все трое – ростовчане, которым довелось побывать с доброй миссией в трех разных африканских странах.
Повесть Юрия Александровича Дьяконова «Пирожок с рыбой» перенесет вас в другой конец Тихого (Великого) океана – на японские острова. Автор прожил на Дальнем Востоке около десяти лет, участвовал в войне, освобождал захваченные Японией советские земли и теперь захотел рассказать об этом ребятам.
Основную мысль книги хотелось бы передать словами Ильи Эренбурга: «Мир огромен и очень мал. Летишь, летишь, то холодно, то нестерпимо жарко то снег, то океан, то тропические леса, то страшная пустыня, похожая на макет ада, и вот прилетаешь как говорят, на другой конец света, по часам еще утро – на дворе вечер, и оказывается, вокруг тебя такие же люди с теми же сомнениями, радостями, тревогами…»
И хорошо, что на земле с каждым днем все больше становится людей, которые начинают понимать главное: настало время жить по-человечески народам планеты независимо от языка, цвета кожи, вероисповедания; от них, от самих землян, зависит судьба мира, его будущее.
В. Закруткин
В холодной Сахаре
(записки геолога)

9 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА
Сахара – это не песок и дюны от края и до края. Сахара разнообразна. На севере, сразу за Атласскими горами, – это розовая и оранжевая армада – каменистая пустыня, слабо всхолмленная, с редкими оазисами, с долинками некогда пересохших ручьев и речушек. Дальше на юг пустыня постепенно желтеет, становясь песчаной. Это безбрежный песчаный океан. Пески барханятся, собираются в холмы, гармошки, а холмы объединяются в крупные горы, состоящие сплошь из песка. С самолета кажется: стань на такую гору, и она осыплется, осядет под тобой. Горы не округлые. Они ребристые, изрезанные острыми гребнями барханов. Оттенков цвета нет: желтые пески от горизонта до горизонта, желтая дымка и бесцветное небо. И никаких оврагов, никаких долинок – здесь много тысячелетий не было воды, которая перерезала бы эти овраги.
Потом на желтом фоне появляются белые серебрящиеся пятня, напоминающие озера. Это соли: калийные, натриевые, гипсы, ангидриды. Белых пятен становится больше и больше и наконец они сливаются постепенно в сплошное белое, слегка желтоватое или розовое пятно – соляную пустыню. Фабриес, француз-геолог, который меня сопровождает, говорит, что это самое мертвое место Сахары. Здесь нет ничего. Если в песках кипит своя бурная жизнь – есть суслики, шакалы, гиены, лисы пустыни, то здесь, на гладкой бесконечной блестящей поверхности, не живет никто. Даже мух здесь нет. Нет никаких насекомых. Все мертво.
Жак Фабриес рассказывает, что французские орнитологи, занимающиеся перелетными птицами, установили, что ласточки, летящие ежегодно из Центральной Африки в Европу через Сахару, теряют здесь около трети своего стада! Слои соли с миллиардами скелетов ласточек!
Но вот кончается «белое южное безмолвие», появляются пески. Они уже не желтые, как на севере. Они бурые, изредка с пятнами черной крови Сахары – нефти.
Самолет продолжает жужжать на высоте двух километров. И вдруг ты видишь, что земля не только под тобой, но и над тобой: слева вверху плывут горы. Это не те обычные горы, которые мы привыкли видеть на Кавказе, Памире или Алтае. Это не хребты, не цепи вершин, разделенных седловинами или долинами. Здесь какое-то невероятное нагромождение прямоугольных, как небоскребы, камней высотой около трех километров. (Не здесь ли писал первые страницы «Божественной комедии» великий итальянец?). Седловин нет. Каждый трехкилометровый камень не соединяется с соседним. Между ними черные провалы. Долин, ущелий тоже нет. Это зияющие своей чернотой дыры и трещины. Дна их не видно. Черным-черно. Сами горы черные, а трещины между ними еще чернее. В Нью-Йорке в музее Гугенхейма есть картина нашего соотечественника «Белое на белом». Здесь наоборот: черное на черном. Это настоящий ад: на протяжении почти тысячи километров, на протяжении почти четырех часов полета – сплошное нагромождение гигантских черных гор-камней. Они не располагаются волнами, как обычные горы. Они неподвижны. Они застывшие. Кажется, что они стоят недвижимо вечность. И только осыпи из огромных глыб молча свидетельствуют о том, что время от времени эти мрачные края разрываются грохотом обвалов трескающихся скал.
Это Хоггар. Край черных гор-скал, черного песка и черных длиннолицых туарегов. Мрачный суровый край великих творений Природы.
Самолет начинает описывать круги над посадочной площадкой. С одного раза зайти на посадку невозможно. Машина медленно и осторожно опускается кругами в колодец между скал. (Еще бы не опускаться осторожно, если две недели назад такой же самолет зацепился за скалу и шестьдесят его пассажиров остались под скалой!). Страх считается зазорным. И тем не менее страшно. Просто по-человечески страшновато, когда рядом проносится черная каменистая гора, впереди прямо на пути торчит еще одна, а дальше еще и еще.
Бородатый, немолодой седой французский пилот, очевидно, из асов. Вкрутился по спирали в яму, на дне которой лежит Таманрассет – столица Хоггара, – и мягко коснулся серой бетонной дорожки, полузанесенной желтым песком.
На крохотном домишке аэропорта висит табло: «Таманрассет, высота 1370 метров над уровнем моря».
Прибыли. 13 часов полета позади.
* * *
Витель работает в Хоггаре второй год, точнее вторую зиму. Здесь работают только зимой. Летом тут слишком тепло.
У него английский вездеход, полное снаряжение для работы в пустыне и два человека: молодой француз механик Роже и высокий худой голубовато-серого цвета туарег Таула. Они ждут нас второй день на метеостанции в Таманрассете.
Сейчас они блаженствуют – Таманрассет для них цивилизация. Здесь живут несколько европейцев. Метеорологической и сейсмической станциями заведует Клавель – здоровенный парень с мускулистыми руками, шеей борца, с хриплым голосом и чистыми застенчивыми голубыми глазами. Он изучил Сахару вдоль и поперек, знает ее и любит ее. Шесть лет на метеостанциях! Они с женой гостеприимно принимают нас. Французы везде остаются французами. Даже в Сахаре. На маленьком низком столике вкусные блюда, приготовленные искусной миловидной мадам Клавель, сменяются одно за другим: от кровяного шашлыка из газели до нежных сладких пирогов. Терпковатое красное вино наливается с милой улыбкой из желтой двадцатилитровой канистры. В баре стоит батарея разноцветных напитков. На полу, рядом с кожаными подушками, на которых мы сидим, у нарисованного на стене камина разбросаны красочные журналы. Медленно крутятся бобины магнитофона, наполненного органной музыкой. Франция! И только открытки от родных и знакомых, пришпиленные к стене, выдают тоску по дому.
Люди хохочут, говорят о новостях, рассказывают новые анекдоты. Никаких разговоров о трудностях жизни, о том, что вокруг на несколько тысяч километров лежит Сахара!
Когда в темноте вышли от Клавелей, Витель предложил зайти вылить зеленого чая с какой-то особой травой. Сели в машину. Проехали несколько кварталов пустынных пыльных ночных улиц. Света нигде нет. Желтый свет фар нашего вездехода медленно ползет по красно-бурым приземистым домикам без окон, окруженным высокими красно-бурыми заборами. Ни души на улице. Въезжаем в переулок шириной чуть пошире машины. Останавливаемся у темного не то домика, не то сарая. Оказывается, здесь живет Таула, рабочий, повар, проводник и верный спутник Вителя. Нагибаясь, входим в черный провал двери. За дверью комнатка без окон. Без пола. Пол – это песок. Крупный, красно-бурый сахарский песок, который здесь повсюду. В комнате темнота. Только краснеющие на полу посреди комнаты угли пустынного кустарника освещают слабым светом четыре глиняные стены, глиняный потолок и песчаный пол. Вокруг углей сидят четыре человека, закутанные с головой в черные бурнусы. Лица закрыты черными тюрбанами. Фигуры неподвижны. Белки глаз, краснеющие в ровном свете углей, неподвижно уставлены в нашу сторону. Сидящие на песке туареги вначале молча кивают, потом на своем гортанном языке приветствуют нас, уступают нам место у костра и снова становятся неподвижными. Садимся на красочный туарегский ковер – постель хозяина дома Таула. Садимся по-турецки и молчим. Так надо. Даем себя осмотреть. Белки глаз на черном фоне медленно движутся. Медленно ощупывают нас.
Хозяин наш гостеприимен. Витель говорит, что у него всегда на полу вокруг костра сидит несколько человек. Все они принадлежат к одному племени туарегов. Это реликты первобытнообщинного строя. Все носят одинаковые фамилии. Все племя насчитывает человек шестьдесят-сто, редко больше. В племени все родственники. И все они родственники нашего Таула.
Две женщины вносят чашку-таз с посудой для чая. Начинается священнодействие – готовится чай. Это длительная процедура. На угли ставится металлический чайник-заварник. В него на разных этапах кипения добавляются из маленьких мешочков какие-то снадобья, травы, коренья, издающие незнакомые сильные ароматы. Потом чай разливается по маленьким рюмочкам и снова выливается из рюмочек в чайник. Это повторяется многократно. Затем, перед тем как пить, в чайник добавляется последняя щепотка травы и вот излучающий гамму ароматов чай готов. Рюмка, в которую наливают чай, очень маленькая – граммов двадцать – двадцать пять, не больше. И пить его надо медленно, маленькими глоточками. Не пить, а сосать, наслаждаясь тончайшими ароматами, которые, кажется, растворяются в каждой клетке твоего тела.
Меньше трех рюмок выпить нельзя. Питье чая – это священнодействие и традиция. После первой рюмки можно говорить. После второй рекомендуется молчать, чтобы осмыслить все то, что сказано тебе до этого. И только после третьей можно уходить. Но вся эта процедура занимает не меньше часа и настолько свята, что даже, если к тебе в дом придет враг, которого ты должен убить, пока он не выпьет третью рюмку, убивать его ты не имеешь права. Отказать в чае невозможно. Туареги очень гостеприимны и поэтому почитают своим долгом, обязанностью в первую очередь напоить чаем.
Кто такие туареги – доподлинно неизвестно. Одни считают, что они относятся к берберской группе аборигенов, другие – что это какая-то романская ветвь, ассимилированная берберами. Они очень высокие, стройные, мускулистые. Кожа темного цвета, как у очень сильно загорелого европейца. Пятки и ладони их такого же цвета, а не белые, как у негров. Лица удлиненные, тонкие прямые носы, иногда с небольшой горбинкой, тонкие, резко очерченные губы, высокий лоб, живые глаза. Волосы черные, густые, вьются слабыми волнами. Негроидного в их лицах ничего нет.
Туареги – кочевники, точнее люди, ведущие полукочевой образ жизни. У них есть, кроме Таманрассета, несколько поселков. Большинство из них глинобитные, с очень толстыми стенами и без окон, очень хорошо предохраняющие от жары. Некоторые поселочки в 10–15 «домиков» построены из сплетений камыша с саксаулом. Всего туарегов что-то около 10 тысяч. В Таманрассете живет 3 тысячи. Остальные разбросаны по Центральной Сахаре. Мир для туарегов ограничен их родным Хоггаром, за пределами которого лежит Сахара. Где-то очень далеко есть далекий и непонятный город Алжир, в котором живут хозяева – арабы. Некоторые знают, что где-то совсем далеко существует Франция (нечто совершенно неясное). Знание мира этим ограничивается.
Таула спросил меня при знакомстве, из Франции ли я. Я ответил, что я русский, из Советского Союза. Ни о русских, ни о Советском Союзе он никогда не слыхал.
Так и живут эти люди в своем забытом богом краю. Пасут в зарослях верблюдов, поджарых пустынных ослов и худых баранов и коз, стреляют газелей и муфлонов, пьют ароматные настои из колючих пустынных трав и истово молятся аллаху, много раз в день шепчут потрескавшимися губами молитвы, с надеждой глядя в чистое небо. Но великий и всемогущий аллах не много приносит им радостей.
* * *
Дорога из Таманрассета идет по плотному песку долины. Дорога проселочная и каменистая. Иногда попадаются места, где она совершенно занесена бархатным песком. На этот случай вдоль дороги стоят горки черных камней – по ним видно, в какую сторону ехать дальше. Справа и слева торчат бесформенные глыбы ребристых бурых гор-камней и правильные своей геометрической формой, тонкие, узкие конусы вулканов. Вдали, у горизонта, соединяясь, они становятся похожими на непрерывные зубья пилы.
На три дня мы едем к Виталю, в район, где он работает. Едем с целью посмотреть, что он сделал, верны ли его выводы, проконтролировать, что-то подсказать, что-то обсудить. Он второй год работает в этом районе и будет работать еще год-два. Это тема его диссертации.
Года три назад Жорж Витель закончил геологический факультет, работал в Альпах. Потом ему стукнуло 25 лет – это призывной возраст. Он должен был отслужить два года в армии или отработать 3 года преподавателем по специальности в Африке. Зная, что в Алжирском университете работает молодой и энергичный профессор Жак Фабриес, он избрал Алжир и стал ассистентом на кафедре профессора Фабриеса. У Фабриеса не посидишь в удобной квартире столицы, требователен был профессор, да Жорж и не собирался в ней отсиживаться.
Он типичный полевой геолог, Витель. Худ, высок, мускулист. Ни одной лишней жиринки в теле. Руки изодраны царапинами и ссадинами. Колени сбиты. Красный нос облупился. Губы иссечены трещинами. Голова обрита наголо. Физиономия заросла черной негустой щетиной. Большие светло-карие глаза, в которых отражаются все эмоции, открыто смотрят на вас. На лице постоянная легкая приятная улыбка. Витель и его верный спутник Таула понимают друг друга с полуслова. Витель любит туарегов, относится к ним с почтением. Знает неплохо их обычаи и нравы, немножко говорит по-туарегски.
По горам Жорж скачет, как заправский дикий козел. Тяжеленный рюкзак за плечами, на боку изодранная полевая сумка с картами и аэрофотоснимками, на животе фотоаппарат, в руках молоток.
Я видел геологическую карту, снятую им. Это колоссальная работа. Он встает каждый день с восходом солнца, выскакивает из теплого мешка в леденящее серое утро, вталкивает в себя традиционный французский завтрак, кидает в джип все свое нехитрое имущество и укатывает до вечера. Доезжает джипом до нужного хребта, бросает его и карабкается, карабкается по безжизненным черным и бурым скалам, колотит молотком бесконечные камни, распутывает хитросплетения докембрийских складок и огромных разломов. И так до заката. В шесть вечера, когда солнце скатывается за исхоженные им горы, он спускается к машине и, светя желтыми фарами, гонит машину по желтым песчаным уэдам к лагерю, где Таула ждет его с искусно приготовленным обедом. А он усаживается к костру, клеит этикетки на образцы пород, укладывает их, упаковывает, раздумывает над картой, планирует завтрашний маршрут. Пообедав, закутывается в туарегский теплый бурнус, заматывает голову черным туарегским тюрбаном так, что остаются одни глаза, и сидит некоторое время молча у костра. А потом, поставив раскладушку на ледяной песок, закутавшись во что можно, засыпает мертвецким сном. Ему нечего жаловаться на бессонницу.
* * *
Днем кажется, что солнце светит отовсюду. Температура невысокая (+30, редко +35°). Жары особой нет, духоты тоже. Но влажность, как говорили мне на таманрассетской метеостанции, около 0 %. Все пересыхает в носу, во рту, в горле. Такое впечатление, что твои железы вдруг перестали вырабатывать слюну, и язык прилип к зубам. Кожа словно вышелушенная.
Зато ночью температура обычно минус 5–7, редко опускается до минус 10–12°. Я нигде, даже в Заполярье, так не мерз, как здесь. И постоянный ветер, ветер, ветер. Он пронизывает до нутра. Кажется, даже кости холодные. У костра можно погреться только тогда, когда найдешь несколько поленьев. Но в пустыне они встречаются далеко не всегда. А если встречаются, то сгорают в костре мгновенно – высушены они до предела.
Да, в здешнем климате санатория не построишь! Мало отпущено природой здешним людям.
* * *
Второй день мы находимся у Вителя. Второй день выходим на рассвете и возвращаемся в лагерь, когда горы чернеют в серебристом свете луны, а в черном небе мигают яркие-яркие звезды.
Песок и камни. Камни и песок. Песок, упругий и мягкий, песок под ногами, песок в ботинках, песок в карманах, песок в спальном мешке, песок на зубах. И камни. Черные или сгоревшие под испепеляющим солнцем, бурые и рыжие. Скалы из камня. Горы из камня. Могилы тоже из камня. Кажется, что черные туареги тоже из камня: босыми черными ногами ходят они по раскаленному дневному песку, босыми ногами ходят они по ночному песку, который холоднее снега. Как каменные изваяния сидят они кружком у костра, закутанные в одинаковые выгоревшие на солнце бурнусы.
Тысячелетия живет это племя в своем каменном Хоггаре. Кто только не пытался их покорить в течение жестокой человеческой истории! И бородатые финикияне с востока, и стремительные наездники арабы с севера, и дикие голые негры с юга. С запада морем приходили самые страшные враги – европейцы и американцы. Самые сильные и хитрые.
Говорят, что гордость – это национальная черта туарегов. Белые, очевидно, поняли это. В рабство туарегов не брали. Не брали потому, что те не выносили рабства. Не выносили рабства не потому, что были слабыми. Тысячелетия они жили в жесточайшей борьбе с природой и выходили победителями. Она уже в их крови, эта борьба. Туареги не могли жить в повиновении. Они умирали. Умирали от тоски по своим трудным краям, от тоски по борьбе. Это единственное черное племя, которое белые не брали в рабство.
Но белые были хитрее черных. Они привозили с собой массу соблазнительных вещей: ружья, с которыми легко было охотиться на газелей и защищаться от гепардов, красивые ткани, сахар и множество других нужных, крайне нужных предметов. Для того чтобы получить это, надо было совсем немного поработать на белого. Так туареги, гордые туареги, постепенно превращались в слуг белых. Однако даже сейчас это племя, вышедшее из неолита совсем недавно, недавно отказавшееся от щитов и копий, не унижается до того, чтобы называть белого патроном, даже сейчас они не стоят униженно в стороне, когда разговаривают белые, а принимают участие в разговоре на равных.
* * *
Наше пребывание у Виталя закончилось. Фабриес признал работу Жоржа отличной.
Едем к Бертрану, другому ассистенту профессора. Дороги, конечно, никакой нет. Едем зыбучими песками, пробираясь между камнями, которыми усыпаны песчаные долины. Взбираемся на черное плато. Это четвертичные оливиновые базальты. Совсем недавно, несколько десятков тысяч лет назад, здесь из земли рвалась наружу магма. Она вылезала наружу по узким трубкам вулканов и прорывалась по огромным трещинам разломов. Она, эта раскаленная, расплавленная лава, вытекала на поверхность и текла красными пылающими потоками. Потоки объединялись в озера, моря и, застывая, образовывали огромные безжизненные черные пространства, сложенные плотным звенящим камнем. Здесь ничего живого. Даже вездесущие небольшие черно-белые птицы пустыни мула-мула не залетают сюда. Горы, черные горы, здесь особенно скалисты и состоят из огромных ровных столбов (то, что геологи называют призматической отдельностью).
У горизонта резким контрастом на черном фоне безжизненной пустыни маячит высокая белая гора. Это Тан-Афела. Вокруг нее запретная зона – въезд категорически запрещен. Там не стоят часовые. Там только белеют таблички с оранжевыми буквами и полосами. Часовые здесь не нужны. Все равно туда никто не пройдет. Даже самоубийцы. Несколько сотен лет назад мы бы сказали, что там живет злой дух, убивающий людей. Сейчас мы знаем, как зовут этого злого духа. Его зовут радиация. Несколько лет назад в газетах писали о том, что французы взорвали свою первую плутониевую бомбу. Эта штука была взорвана здесь, в глубокой шахте горы Тан-Афела. С тех пор белой горой можно любоваться лишь издали.
Дорога опускается с черного базальтового плато в широченную бурую долину со светлыми змеящимися полосами песков. Долина ведет к высокой крутой горе. Долина ровная, как стол, и наши исполнительные безотказные джипы несутся по ней со скоростью семьдесят километров в час. Мерно гудит мотор, садится на красные физиономии желтая пыль, устало смотрит на дорогу сидящий за рулем Фабриес.
Пейзаж меняется: в конце долины появляется ярко-зеленый цвет, такой неожиданный в блеклых полутонах пустыни.
Ярко-зеленое пятно – это оазис и поселок Идельэс. В Идельэсе десятка два буро-красных туарегских домиков-сарайчиков с плоскими крышами и без окон, стоящих на солнцепеке у подножия высокой крутой трехглавой скалистой горы. Солнце, бурая пустыня, бурая гора и бурые домики. Между горой и поселком – гордость Хоггара – пальмовая роща и поля местных земледельцев, растящих тыквы, пшеницу, картошку. Все поля орошаются из источника, журчащего под пальмами. Пожилой Абдулла разгибает спину, поднимается над арыком и, отерев о короткие штаны руку, протягивает ее нам. Вяло пожимает руку, устало вопрошает каждого монотонным голосом: «Ça va?» Удрученно качает головой на ответный вопрос с нашей стороны, беспомощно разводит руками и говорит печально: «Ne ça va pas». Проклятые сильные морозы губят и без того чахлые посевы, а дневная жара высушивает замороженные ночью тыквы и картошку. Трудно.
На солнце в песке туареги, закутанные в бурнусы, играют камешками в какую-то игру, разновидность шашек. В отдалении стоят женщины в черном. Из предгорий возвращается караван ослов, везущих дрова – сухие ветки тамариска. На угловом доме, стоящем в начале «улицы», состоящей из шести домиков (по три с каждой стороны), висит табличка: «Rue emir Abdel Kader». И тишина. Тишина. Только из центра поселка доносится ровный голос. Голос этот принадлежит учителю местной начальной школы.
Месье Бареру лет сорок, может быть, с небольшим. Гладко зачесанные назад ровные волосы, темно-красного цвета лицо, разрезанный надвое подбородок и голубые светлые глаза, глядящие твердо и изучающе. Лицо без улыбки. Он просит извинить его, так как у него урок, и через сорок минут приглашает к себе на чашку кофе.
В начале пятидесятых годов молодой учитель начальной школы в Париже месье Барер уехал в Ливийскую пустыню. Влекла романтика. Проработал там несколько лет. Году в 1955-м Барер переехал на постоянное жительство в Идельэс. Выучил туарегский язык, письменность, взял себе в дом женщину из племени туарегов – черную плосколицую некрасивую туарежку, которая родила ему троих детей. Так и живет он уже больше десяти лет почти безвыездно в Хоггаре. Живет по образу и подобию туарегов: дети его настоящие туареги, застенчивые ребятишки, копошащиеся в песке на улице; в комнатах его туарегского дома ничего, кроме ковров и лежанок, нет; здороваясь, он подносит по-туарегски правую руку к сердцу; гостей принимает и угощает кофе на полу, сидя по-турецки. Жена его не сидит с гостями, но он представляет нам ее, – стоящую у входа в комнату, где мы на коврах пьем кофе; «Мать моих детей».
Барер не опускается до слепого копирования туарегов. Он одет в европейское, в курсе всех политических дел, следит за событиями в мире. Помимо школьных дел, которые он ведет увлеченно, он помогает туарегам советами: что, как и где садить из посевов, лечит новейшими средствами, проводит ирригацию, короче, по возможности, несет культуру людям в этом затерянном в песках уголке. Во Францию его не тянет. Злые языки говорят, что он принял мусульманство. Не знаю. Не похоже. Его знает вся Сахара. Нефтяники, геологи, военные, любители острых ощущений туристы, миссионеры, проезжая неподалеку, обязательно завернут к Бареру. К нему приезжают историки, занимающиеся историей Северной Африки, которую Барер знает феноменально.
Так и живет этот внешне ничем не выдающийся человек, живет полной, насыщенной жизнью, живет простой жизнью труженика.
* * *
Примерно в тридцати километрах от Идельэса стоит лагерь Бертрана. Здесь простираются его пустынные гористые владения. Бертран – полная противоположность Жоржу Вителю. Это здоровенный бородатый парень лет около тридцати. Бородища и огромные висящие усы, а на носу – элегантные дымчатые очки, на безымянном пальце грязной исцарапанной мужицкой руки серебряное кольцо с готической надписью. Бертран самоуверен, упрям, самолюбив. Говорит он медленно, с достоинством. Не говорит – изрекает. За это его Витель и другие геологи зовут Pére Bertrand. И вместе с тем он большой любитель крепкого словца.
Хозяйство его, в противоположность Вителю, продумано до мелочей. Спит он в отличной «двухкомнатной» голубой палатке, все мелочи – от аэрофотоснимков до аптечки – аккуратно разложены по серым металлическим непромокаемым сундукам, в палатке висит яркая газовая лампа. Если Витель ходит в рваном спортивном костюме, то на Бертране брезентовые джинсы и ярко-красная пуховая стеганая нейлоновая куртка. Витель в маршруты ходит в кедах, Бертран – в альпинистских ботинках.
Но… геолог Бертран прекрасный. В нем есть редкое для геолога сочетание: фантазер-теоретик и фанатик-практик. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои многочисленные гипотезы, он без устали карабкается, как кошка, по невероятным кручам, забывая зачастую об обеде и возвращаясь в лагерь далеко за полночь, в полной темноте и с фонариком. Я не могу понять, как при такой манере работать, при таком отчаянном лазании по скалам, как он еще остается в живых. Вчера, например, я шел за ним, когда он начал карабкаться на отвесную скалу высотой метров в сто. Самолюбие не позволило мне отстать, хотя сам я, конечно, ни за что не полез бы по этой скале. Где-то у верхушки, когда не за что было ухватиться руками, я было решил, что пора уже задуматься о том, как ты прожил жизнь. Ан нет. Вылезли все-таки. Все четверо: Бертран, Витель, Фабриес и я.
Откровенно говоря, Бертран замотал нас (и меня в том числе) своими сумасшедшими темпами работы.
Два дня с шести утра и до шести-семи вечера карабкались мы по хребтам Тазруна. Два дня прыгали с камня на камень, пеклись на солнце и клацали зубами под ярко-белой луной в холодной ночной Сахаре. И вот наконец завтра мы отправляемся в кольцевую поездку по Сахаре вокруг Хоггара (около 1400 км). У Фабриеса здесь три отряда: Вителя, Бертрана и Каби. Каби работает в шестистах километрах отсюда, в Танезруфте. Ждем его. Когда он приедет, отправимся всей компанией в этот длинный и интересный путь.
16. I
Вчера приехал Каби из своего мрачного Танезруфта. Приехал на двух машинах со своим механиком Абдурахманом и поваром Шикула. Он сразу наполнил весь лагерь шумом, суетой, весельем, смехом. Кроме того, русобородый, голубоглазый Каби привез канистру красного алжирского «пинара» и бутылку шотландского виски. Каби – интеллигентный, тонкий, остроумный парень лет около тридцати. Он худой, мускулистый и очень подвижный – ни секунды не сидит на месте. Вечно что-то делает, куда-то спешит, вечно поет что-то веселое.
В лагере Бертрана под тамариском собрались шесть машин (два роскошных американских грузовых белых вездехода и четыре белых английских крытых джипа), шесть белых и четверо черных людей.
* * *
17. I
Оставили в Идельэсе один грузовик-вездеход и два джипа. В три часа дня выехали на трех машинах с рацией в длительную поездку по Хоггару. Мы – это Фабриес, Витель, Каби, я, Бертран, механик Роже и двое черных рабочих, они же повара – Таула и Шикула. Барер на прощание желает доброго пути и говорит, что немногие до нас рисковали на такое путешествие.
Ровно и не очень шумно перебывают идущие рядом по песку машины. Дюны и барханы, морща песчаную поверхность широкого рега, отражают миллионы солнечных лучиков. Пустыня миражит.
Вскоре пески кончаются, начинаются камни. Карабкаемся, сопя моторами, на перевал. Дорога становится узкой. Машины выстраиваются в колонну. Красные лучи заходящего солнца красят горы в лиловые тона, а небо над нами не затрагивают – оно остается синим. Это очень красиво: черные камни перевала, близкие лиловые горы и синее вечернее небо. Привычного нам багрянца нет. Темнеет быстро. Камни, небо и горы сливаются и становятся одинаково черного цвета. Кругом черным-черно. Вдруг впереди идущая машина Бертрана, помигивая красными фонариками, начинает описывать большие круги. Выясняется, что Бертран в темноте потерял нужное направление. Изучение карт и аэрофотоснимков не помогает – все равно вокруг ни зги. Еще несколько километров кружения по ровной, как море, пустыне не приносит успеха. Похоже на то, что заблудились.
Надо сказать, что ощущение это не из приятных – сидеть в центре Сахары и не знать, куда ехать. Упрямый Бертран не хочет останавливаться – едет уже второй час в темноте. Но, очевидно, его упрямство того сорта, которое помогает. Около девяти вечера мы, наконец, разыскали нужный перевал, перевалили его и двинулись медленно на север.
Ночь в Сахаре в полнолуние. Тесная долинка с купой тамариска в центре. Под деревом догорает костер, отбрасывая мерцающие блики на гармошку оледенелого песка. На песке редкие извивающиеся полоски – следы проползших змей, серебрящиеся под яркой луной черные близкие скалистые горы. Холодное небо и холодные звезды, излучающие яркий свет. Тишина. Тишина, которая подчеркивается еще сознанием, что вокруг на тысячи километров такая же мертвая тишина мертвой пустыни.