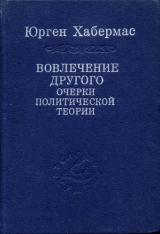
Текст книги "Вовлечение другого. Очерки политической теории"
Автор книги: Юрген Хабермас
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Замечание к докладу Дитера Гримма [229]229
См. одноименный доклад Д. Гримма в: European Law Journal I. November, 1995.
[Закрыть]
Я согласен с диагнозом Д. Гримма в его основных пунктах; но анализ приводимых им оснований подводит меня к другому политическому выводу.
Диагноз:С конституционно-политической точки зрения нынешнее состояние Европейского союза отмечено неким противоречием. С одной стороны, ЕС есть учрежденная путем заключения международного договора наднациональная организация, не имеющая собственной конституции, – в этом отношении она не является государством (в смысле современного конституционного государства, опирающегося на властную монополию и обладающего внутренним и внешним суверенитетом). С другой стороны, органы Сообщества учреждают европейское право, распространяющееся на его членов, – в этом отношении ЕС пользуется суверенными правами, до сих пор являвшимися прерогативой государства в собственном смысле слова. Отсюда – причина частых сетований – дефицит демократии. Постановления Комиссии и Совета Министров, а также решения Европейского суда все глубже вмешиваются в отношения стран-членов ЕС. В рамках суверенных прав, которые перенесены на союзный уровень, европейская исполнительная власть может выполнять свои постановления даже вопреки сопротивлению национальных правительств. В то же время, до тех пор пока компетенция Европейского парламента невелика, этим постановлениям недостает непосредственной демократической легитимации. Исполнительные органы Сообщества выводят свою легитимность из легитимности правительств стран-членов ЕС. Они не являются органами государства, которое было бы конституировано выражением воли объединенных европейских граждан. С европейским паспортом до сих пор не связываются никакие права, которые могли бы составить основу гражданской принадлежности к демократическому государству.
Политический вывод.В пику федералистам, требующим демократического оформления ЕС, Гримм предостерегает от дальнейшего ослабления национально-государственных полномочий в пользу общеевропейского права. «Ограничением этатизма» дефицит демократии был бы не устранен, но лишь усилен. Новые политические институты – Европарламент, наделенный обычными полномочиями, Комиссия, разросшаяся в правительство, Верхняя палата, заменившая Совет Министров и обладающий расширенными полномочиями Европейский суд – per seне предлагают никаких решений. Если их не наполнить жизнью, то они, скорее, будут способствовать тенденции к обособлению замкнутой на самое себя бюрократизированной политики, которую и так уже можно наблюдать в национальных рамках. Однако на сегодняшний день отсутствуют реальные предпосылки для формирования политической воли граждан, которая была бы интегрирована в масштабах всей Европы.Таким образом, скепсис в отношении конституционно-правового будущего Европы сводится к аргументу, получающему эмпирическое подтверждение: до тех пор, пока нет государствообразующего европейского народа, который был бы достаточно «гомогенным», чтобы формировать демократическую волю, не может быть и никакой Европейской конституции.
Тезисы к дискуссии.Мои сомнения касаются (а) неполного описания альтернатив и (б) не вполне однозначного нормативного обоснования функциональных требований к формированию демократической воли.
а). Д. Гримм наглядно демонстрирует те нежелательные последствия, которые имело бы расширение Европейского сообщества до федеративного государства, наделенного демократической конституцией, в том случае, если бы новые институты не смогли прижиться. До тех пор пока объединенное в общеевропейскую сеть гражданское общество, публичная европейская политика и общая для всех европейцев политическая культура отсутствуют, наднациональные процессы принятия решений будут все более обособляться от процессов формирования общественного мнения и политической воли, по-прежнему организуемых в национальных рамках. Этот угрожающий прогноз я считаю вполне правдоподобным. Но какова альтернатива ему?
Вариант Гримма, по-видимому, предполагает, что государственно-правовой status quo в состоянии по меньшей мере заморозить рост уже существующего дефицита демократии. Но этот дефицит изо дня в день растет совершенно независимо от конституционно-правовых инноваций, ибо экономическая и общественная динамика форсирует ослабление национально-государственных полномочий в пользу европейского права также и внутри данных институциональных рамок. Гримм сам говорит: «Принцип демократии действует в странах-членах ЕС, однако они утрачивают полномочия для принятия решений; эти полномочия растут у Европейского сообщества, но там не вполне развит принцип демократии». Но если ножницы между растущими полномочиями европейских органов власти и недостатком легитимности складывающегося европейского распорядка так или иначе раскрываются все шире, то решительное следование исключительно национально-государственному способу легитимации не означает тотчас же, что выбирается меньшее из зол. Федералисты принимают предсказуемый и в определенных обстоятельствах устранимый риск обособления наднациональных организаций как брошенный им вызов. Скептики же, оценивая эрозию демократической субстанции как непоправимую, с самого начала примиряются с ней, чтобы не потерять проверенную, как представляется, оболочку национального государства.
Однако в этой оболочке становится все более неуютно. «Дебаты о местоположении», которые мы ведем сегодня, позволяют осознать наличие совершенно иных ножниц – тех, что раскрываются между пространством действия, ограниченным рамками национального государства, и императивами производственных отношений, раскинувших свою сеть по всему миру. Современные налоговые государства извлекают прибыль из своих экономик лишь до тех пор, пока дело идет о «народных хозяйствах», на которые они еще могут влиять политическими средствами. Между тем по мере денационализации хозяйства, в частности финансовых рынков и самого промышленного производства, а прежде всего – ввиду глобализации и стремительного расширения рынков труда национальные правительства сегодня все более склонны мириться с хроническим ростом безработицы и маргинализацией количественно растущего меньшинства ради конкурентоспособности на международной арене. Если хотят сохранить социальное государство хотя бы в его субстанции и избежать сегментирования низшего класса, то должны быть созданы дееспособные наднациональные инстанции. Лишь режимы, охватывающие целые регионы, наподобие Европейского сообщества, еще могли бы вообще влиять на глобальную систему согласно координируемой мировой внутренней политике.
В описании Гримма ЕС выглядит как учреждение, с которым следует мириться,с абстрактностью которого мы вынуждены жить. Оснований, в соответствии с которыми нам следует его политически желать,не видно. Большая опасность, как мне кажется, исходит со стороны растущей самостоятельности приобретающих глобальный масштаб сетей и рынков, которая в то же время способствует фрагментации общественного сознания. Если за образованием этих системных сетей не последует создание политически дееспособных институтов, то в сердцевине современной экономической эпохи, отличающейся высокой мобильностью, вновь заявит о себе парализующий всякую общественную жизнь фатализм древних империй. Постиндустриальная нищета «излишнего» населения – этого «третьего мира» внутри «первого», – порожденного обществом излишеств, и вместе с тем триумфальное шествие моральной эрозии общественного целого стали бы в этом случае определяющими эпизодами сценария будущего. Этоуготованное нам настоящее ретроспективно понималось бы как будущее ушедшей иллюзии – демократической иллюзии, будто посредством политической воли и сознания общества еще могут влиять на собственные судьбы.
б). Сказанное еще не затрагивает проблемы, вытекающейиз обособления наднационального аппарата, на которую справедливо указывает Гримм. Оценка шансов распространения демократии на всю Европу зависит, естественно, от эмпирических аргументов. Но в нашем контексте речь в первую очередь идет об определении функциональных требований, и для этого представляет важность нормативная перспектива, в которой последние получают обоснование.
Гримм не приемлет Европейской конституции, «ибо европейского народа доныне не существует». В основе этого неприятия лежит, по-видимому, прежде всего та посылка, которая в значительной мере определила содержание решения Федерального конституционного суда по Маастрихтскому договору: а именно, что базис демократической легитимации того или иного государства требует известной гомогенности государствообразующего народа. Однако Гримм сразу же дистанцируется от шмиттовской трактовки «национальной» гомогенности: «Предпосылки демократии развиваются здесь исходя не от народа, а от общества, которое хочет конституироваться в качестве политического единства. Однако последнее, если оно стремится ненасильственно разрешать свои конфликты, руководствоваться правилом большинства и поддерживать солидарность, нуждается в некоей коллективной тождественности». Однако данная формулировка не отвечает на вопрос, как нужно понимать такую коллективную тождественность. Я усматриваю остроумие республиканизма в том, что формы и процедуры конституционного государства вкупе с модусом демократической легитимации создают в то же время и новый уровень социальной сплоченности. Демократическое гражданство – в смысле citizenship – устанавливает сравнительно абстрактную, во всяком случае юридически опосредованную солидарность среди чужих друг другу людей; и эта возникающая лишь вместе с национальным государством форма социальной интеграции осуществляется в виде коммуникационной связи,вмешивающейся в процесс политической социализации. Связь эта, конечно, обусловлена важными функциональными требованиями, которые вряд ли могут быть выполнены одними лишь административными средствами. К ним относятся условия, при которых может, пожалуй, коммуникативным способом формироваться и воспроизводиться этико-политическое самопонимание граждан, – но ни коим образом не независимая от самого демократического процессаи в этом отношении заранее данная коллективная тождественность. Гражданскую нацию – в отличие от нации этнической – объединяет не заранее данный субстрат, а интерсубъективно разделяемый контекст возможного взаимопонимания.
Поэтому важно, употребляется ли в этой связи слово «народ» в юридически нейтральном смысле «государствообразующего народа», или же оно ассоциируется с представлениями о тождественности иного рода. По мнению Гримма, тождественность нации граждан «может иметь и иные основания», нежели «этническая общность происхождения». Я, напротив, полагаю, что она должнаиметь другой базис, если демократический процесс во всякое время берет на себя гарантию за конечную социальную интеграцию дифференцированного – и сегодня все более дифференцирующегося общества. Это бремя не можетбыть переброшено с уровня формирования политической воли на дополитически данный субстрат, ибо конституционное государство ручается за то, что оно в случае надобности обеспечит социальную интеграцию в юридически абстрактных формах политического участия и гражданского статуса, субстанциально расширенного на путях демократии. Культурно и мировоззренчески плюралистические общества лишь доводят до осознания эту нормативную заостренность. Сформированное в классических переселенческих странах, наподобие США, мультикультурное самопонимание нации граждан в этом отношении более поучительно, чем культурно-ассимилирующая французская модель. Если различные культурные, религиозные и этнические формы жизни стремятся к равноправному существованию рядом и вместе друг с другом в рамках одного и того же демократического общественного целого, то необходимо, чтобы культура большинства освободилась от естественно произрастающего – исторически объяснимого – слияния с политической культурой,разделяемой всеми гражданами.
Конечно, эта политически опосредуемая солидарная связь граждан, которые, будучи чужды друг другу, тем не менее должны друг за друга отвечать, предстает как коммуникативная связь, имеющая множество предпосылок.По этому поводу нет разногласий. Ее центром становится политическая публичность, которая дает гражданам возможность в одно и то же время относительно одной и той же темы занять некую позицию, равную по значимости другим. Эта недеформированная – не ангажированная ни извне, ни изнутри – публичность должна входить в состав политической культуры свободы и опираться на лабильные ассоциации гражданского общества, в которые из остающихся неприкосновенными частных сфер жизни может вливаться релевантный в общественном плане опыт, чтобы там перерабатываться в публичные темы. Политические партии, избегнувшие срастания с государством, должны быть настолько укоренены в этом комплексе, чтобы иметь возможность посредничать между сферами неформальной публичной коммуникации, с одной стороны, и институциализованными совещательными процессами и процессами принятия решений – с другой. Поэтому, с нормативной точки зрения, и не может быть никакого европейского федеративного государства, заслуживающего имени демократической Европы, если в горизонте общей политической культуры не сформируется всеевропейски интегрированная публичность, гражданское общество с союзами по интересам, негосударственными организациями, движениями граждан и т. д. и, естественно, приспособленная к европейской политической арене партийная система, короче говоря – коммуникативная связь, выходящая за границы той публичности, которая до сих пор складывалась лишь в национальных рамках.
Высокие функциональные требования к формированию демократической воли едва ли могут быть в полной мере выполнены уже в рамках национального государства; тем более это относится к Европе. Но что для меня важно, так это перспектива, в которой указанные функциональные условия получают нормативное обоснование; дело в том, что данная нормативная точка зрения известным образом предваряет собой эмпирический расчет имеющихся трудностей. Последние до поры до времени должны казаться непреодолимыми, если считать необходимой принимаемую в расчет в качестве культурного субстрата коллективную тождественность, которая лишь артикулируетсяв выполнении названных функциональных требований. Но понимание демократии в рамках теории коммуникации, которому, по-видимому, отдает предпочтение и Гримм, уже не может основываться на конкретном понятии «народа», которое подсовывает нам гомогенность там, где можно обнаружить только гетерогенное.
В этой перспективе этико-политическое самопонимание граждан демократического общественного целого выглядит не историко-культурной константой, дающей возможность формирования демократической воли, но переменной величиной в циклическом процессе, который вообще начинается лишь с правовой институциализацией гражданской коммуникации. Точно так же в современной Европе сформировались и идентичные национальные единства. Поэтому следует ожидать, что политические институты, которые были бы созданы Европейской конституцией, имели бы индуцирующийэффект. Во всяком случае, a fortiori [230]230
Заранее (лат.).
[Закрыть]ничто не говорит против того, что, коль скоро будет налицо соответствующая политическая воля, в Европе, давно слившейся воедино экономически, социально и административно и вдобавок имеющей возможность опереться на общую культурную основу и исторический опыт благополучного преодоления национализма, может установиться необходимая коммуникативная связь, как только возникнут надлежащиеконституционно-правовые условия.При нынешнем состоянии общего школьного образования не стало бы непреодолимым препятствием и требование введения общего языка – английского в качестве second first language [231]231
Второго первого языка (англ.).
[Закрыть]. Европейская тождественность и так уже не может означать ничего иного, кроме единства в национальном многообразии; между прочим, немецкий федерализм после разгрома Пруссии и примирения конфессий предлагает для этого не самую плохую модель.
IV. Права человека – глобальный и внутригосударственный план
7. Кантона идея вечного мира – из 200-летней исторической перспективы«Вечный мир», которым клялся аббат Сент-Пьер, представляет для Канта идеал, долженствующий придать идее всемирно-гражданского состояния наглядность и привлекательность. С этой целью Кант вводит третье измерение в теорию права: наряду с государственным правом и международным правом выступает – и это повлекло за собой важные последствия – право всемирного гражданства. Республиканский порядок демократического конституционного государства, основанного на правах человека, требует для общения между народами, в котором главенствуют войны, не только слабых международно-правовых связей. Внутригосударственное правовое состояние, скорее, должно установиться в глобальном правовом состоянии, которое объединит народы и устранит войну: «Идея конституции, соответствующей естественным правам человека, а именно, что повинующиеся закону должны, объединившись, в то же время и законодательствовать, является основополагающей при всякой форме государства, и общественное целое, которое сообразно ей… носит название платонического идеала, есть не пустая игра воображения, но вечная норма для всякого гражданского устройства вообще и устраняет всякую войну» («Спор факультетов»). [232]232
Далее я привожу цитаты по подготовленному В. Вейшеделем учебному изданиюНаучного книжного общества в Дармштадте, изд. Инзель. Франкфурт-на-Майне, 1964. Ссылки без указания заглавия относятся к работе «К вечному миру» (КВМ). Werke, VI, 195–251.
[Закрыть]Удивителен вывод: «…и устраняет всякую войну». Он указывает на то, что нормы международного права, регулирующие состояния войны и мира, должны иметь силу лишь императивно, лишь до тех пор, пока правовой пацифизм, которому Кант открыл путь своим сочинением «К вечному миру», не повлечет за собой установление всемирно-гражданского состояния и тем самым – устранение войны.
Естественно, Кант развивает эту идею в понятиях разумного права и в горизонте опыта своего времени. И то и другое отделяет нас от Канта. Задаром полученное всезнание потомков дает нам «основание» сегодня признать, что предложенная конструкция страдает понятийной сложностью и уже не приложима к нашему историческому опыту. Поэтому я прежде всего напомню о предпосылках, из которых исходит Кант. Они касаются всех трех ходов его мысли – и определения непосредственной цели, вечного мира, и описания собственно проекта, правовой формы союза народов, и историко-философского решения поставленной тем самым проблемы, осуществления идеи всемирно-гражданского состояния (/). К этому примыкает вопрос, как предстает Кантова идея в свете истории последних двух столетий (2) и как эту идею можно переформулировать ввиду сегодняшнего положения в мире (3).Предложенная юристами, философами и политологами альтернатива возврату в естественное состояние привлекает внимание к возражениям против универсализма всемирного гражданства и политики прав человека, которые можно опровергнуть путем надлежащего разграничения между правом и моралью в понятии прав человека (4).Это разграничение предлагает также и ключ для метакритики произведших некогда значительный эффект аргументов Карла Шмитта, выдвинутых им против гуманистических основ правового пацифизма (5).
1
Цель вожделенного «законного состояния» между народами определяется Кантом в негативной форме – как устранение войны: «Никакой войны не должно быть», следует положить конец «преступной войне» [ «Метафизические начала учения о праве. Заключение». М., 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 282]. Желательность подобного мира Кант обосновывает указанием на зло, приносимое теми войнами, которые европейские государи вели в то время при помощи наемных армий. Среди подобных зол на первое место он ставит отнюдь не человеческие жертвы, но «ужасы насилия» и «разорение», прежде всего – опустошение и обнищание страны вследствие нелегких военных тягот и, как возможные последствия войны – порабощение, утрата свободы, иностранное господство. Сюда добавляется огрубение нравов, если подданные подстрекаются правительством к противоправным действиям, к шпионажу и распространению ложных сведений или, если те становятся, например, убийцами из-за угла, – к коварству и вероломству. Здесь открывается панорама ограниченной войны, которая со времени подписания Вестфальского мира 1648 г. была институциализирована в системе держав как легитимное международно-правовое средство разрешения конфликтов. Окончание такой войны определяет собой начало мирного состояния. И подобно тому как определенный мирный договор кладет конец злу некоей отдельной войны, так теперь союз мира должен «навсегда закончить все войны» и устранить военное зло. В этом смысл вечного мира. Мир столь же ограничен, как и сама война.
Кант имел в виду пространственно ограниченные конфликты между отдельными государствами и альянсами государств, но не мировую войну. Он имел в виду войны между кабинетами и государствами, но не гражданские войны и не войны между народами. Он имел в виду технически ограниченные войны, допускающие различие между сражающейся армией и гражданским населением, но не партизанскую войну и не бомбовый террор. Он имел в виду войны с политически ограниченными целями, но не идеологически мотивированные войны ради насильственного переселения или уничтожения. [233]233
Несмотря на то что в «Метафизических началах учения о праве» он упоминает «несправедливого врага», «чья публично выраженная… воля выказывает максиму, согласно которой, если сделать ее всеобщим правилом, невозможно состояние мира между народами…» (§ 60, с. 276–277), однако примеры, им приводимые, как то: нарушение международных договоров или раздел побежденной страны (что в свое время было сделано с Польшей), высвечивают акциденциальное значение этой фигуры мысли. «Карательная война» против несправедливых врагов остается непоследовательной идеей до тех пор, пока мы признаем неограниченность суверенитета государств. Ибо последние были бы неспособны, не нанося ущерба собственному суверенитету, признать судебную инстанцию, которая непредвзято судила бы о нарушениях правил в межгосударственных отношениях. Только победа или поражение имеют решающее значение в определении того, «на чьей стороне право» (КВМ. С. 263).
[Закрыть]При условии ограниченной войны на процесс ее ведения и на порядок заключения мира распространяется международно-правовое нормирование. Право «на войну», предлежащее праву «во время войны» и праву «после войны» – так называемое ius ad bellum, строго говоря, вовсе не есть право, ибо выражает лишь свободу произвола, присущую субъектам международного права в естественном состоянии, т. е. в свободном от закона состоянии их сообщения друг с другом (КВМ. М., 1966. Т. 6. С. 275). Отдельные карающие законы, которые, приводимые в действие пусть даже и судебными учреждениями самих воюющих государств, вмешиваются в это неузаконенное состояние, касаются поведения в ходе войны. Военные преступления суть преступления, совершенные в ходе войны. Только неограниченность войн, вышедших с тех пор на историческую арену, и соответствующее расширение понятия мира натолкнут на мысль, что сама война – в форме агрессивной войны – есть преступление, требующее запрета и наказания. Для Канта еще не существует преступления самойвойны.
Вечный мир есть важная характерная черта, но все-таки лишь симптом всемирно-гражданского состояния. Понятийная проблема,которую должен решить Кант, есть правовая концептуализация такого состояния. Он должен показать различие между правом мирового гражданства и классическим международным правом, отметить специфику этого ius cosmopoliticum.
В то время как международное право, подобно всякому праву в естественном состоянии, имеет силу лишь императивно, право всемирного гражданства, как право, санкционированное государством, по определению завершило бы собой естественное состояние. Поэтому Канта в плане перехода к всемирно-гражданскому состоянию все снова и снова заботит аналогичность тому первому выходу из естественного состояния, который конституированием в рамках общественного договора некоего определенного государства дал возможность гражданам страны жить в условиях обеспеченной законом свободы. Подобно тому как здесь завершилось естественное состояние между предоставленными себе индивидами, так должно найти завершение и естественное состояние между воинственно настроенными государствами. В статье, опубликованной за два года до выхода «К вечному миру», Кант говорит о строгой параллельности этих двух процессов. Здесь он также упоминает разрушение общего блага и утрату свободы как наибольшее зло, чтобы затем продолжить: «Против этого нет никакого средства, кроме международного права, основанного на публичных и опирающихся на силу законах, которым должно подчиняться каждое государство (по аналогии с гражданским или государственным правом для отдельных лиц), ведь продолжительный всеобщий мир, достигаемый так называемым равновесием европейских держав, есть чистейшая химера…» («О поговорке…». М., 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 106). Здесь речь идет еще о «всеобщем государстве народов, власть которого должны добровольно принять все государства». Но уже два года спустя Кант будет тщательно различать между «союзом народов» и «государством народов».
Дело в том, что состояние, отныне характеризуемое Кантом как «всемирно-гражданское», должно отличаться от внутригосударственного правового состояния тем, что в отличие от отдельных граждан, подчиняющихся принудительным публичным законам вышестоящей власти, государства сохраняют свою независимость. Предусмотренная федерация свободных государств, раз и навсегда отказавшихся от использования в сообщении друг с другом военных средств, должна оставить в неприкосновенности суверенитет своих членов. Ассоциированные на длительный срок государства сохраняют свои верховные полномочия (Kompetenz-Kompe-tenz) и не растворяются в наделенной государственными качествами всемирной республике. Место «положительной идеи мировой республики» занимает «негативный суррогат союза, отвергающего войны» (КВМ. С. 275). Этот союз должен проистекать из суверенных актов воли международно-правовых договоров, которые уже не мыслятся по образцу общественного договора. Ибо эти договоры не занимаются обоснованием взаимно предъявляемых правовых претензий членов, но лишь объединяют последних в составляемый на длительный срок альянс – в «беспрерывно свободную ассоциацию». Таким образом, то, чем этот акт объединения в союз народов превосходит недостаточную связующую силу международного нрава, есть лишь признак «постоянства». Кант даже сравнивает союз народов с «постоянным конгрессом государств» («Метафизические начала учения о праве», § 61).
Противоречивость такой конструкции очевидна. Ибо в другом месте Кант понимает под конгрессом «лишь произвольное, в любое время могущее быть распущенным собрание различных государств, а не такое объединение, которое (подобно Американским штатам) основано на конституции» («Метафизические начала учения о праве». С. 278–279). Но каким образом перманентность связи, от которой, безусловно, зависит «цивилизованный способ» урегулирования международных конфликтов, может быть гарантирована без правовой обязательности общественного устройства, аналогичного конституционному, Кант не объясняет. С одной стороны, оговаривая расторжимость договора, он стремится сохранить суверенитет членов; это наводит на сравнение с конгрессами и добровольными ассоциациями. С другой стороны, федерация, устанавливающая мир на длительный срок, должна отличаться от временных альянсов тем, что ее члены чувствуют себя обязаннымив случае необходимости подчинить собственный государственный мотив объявленной общей цели, «разрешать свои разногласия… при помощи как бы судебного процесса… не путем войны». Лишенные этого момента обязательности, мирный конгресс государств не сможет сохранять свое «постоянство», добровольная ассоциация – свою «беспрерывность», но они останутся во власти изменчивых констелляций интересов и – как это позднее случится с женевской Лигой Наций – распадутся. О правовомобязательстве Кант помышлять не может, так как его союз народов не мыслится в качестве организации, которая, располагая общими органами, приобретает государственное качество и принудительный авторитет. Поэтому он вынужден полагаться исключительно на моральноесамоограничение правительств. Это, с другой стороны, едва ли согласуется с кантовскими откровенно реалистичными описаниями современной ему политики.
Сам Кант осознает проблему вполне отчетливо, но одновременно маскирует ее тем, что апеллирует к одному только разуму: «Но если это государство заявляет: „Между мной и другими государствами не должно быть войны, хотя я и не признаю никакой высшей законодательной власти, которая обеспечивала бы мне мои права, а я ей – ее права“, – то совершенно непонятно, на чем же я хочу тогда основать уверенность в своем праве, если не на суррогате гражданского общественного союза, а именно на свободном федерализме, который разум должен необходимо связать с понятием международного права…» (КВМ. С. 274–275). Но подобная уверенность оставляет открытым решающий вопрос: как же может быть обеспечено постоянство самоограничения государств, которые продолжают существовать в качестве суверенных. Это, кстати, еще не касается эмпирического вопроса близости к идее, но относится к понятийной формулировке самой этой идеи. Если союзу народов суждено быть не моральным, но правовым образованием, то у него не могут отсутствовать те качества «хорошего государственного строя», которые Кант комментирует несколькими страницами ниже – т. е. качества строя, который не должен полагаться на «хороший моральный облик» своих членов, но в лучшем случае может, со своей стороны, способствовать его улучшению.
В исторической перспективе осторожность Канта в отношении проекта общности народов, основанной на некоем замысле государственного строя,разумеется, реалистична. Демократическое правовое государство, только что возникшее в ходе Американской и Французской революций, было в то время еще исключением, не правилом. Система держав функционировала с тем условием, что одни лишь суверенные государства могут быть субъектами международного права. Внешний суверенитет здесь означает способность государства утверждать на международной арене свою независимость, т. е. целостность границ – в крайнем случае и с помощью военной силы; внутренний суверенитет означает основанную на властной монополии способность поддерживать средствами административной власти и положительного права спокойствие и порядок в собственной стране. Государственный мотив определяется согласно принципам державной политики, включающей в себя ведение умных, ограниченных войн, причем внутренняя политика подчинена примату внешней политики. Четкое разделение между внешней и внутренней политикой держится на узком, политически заостренном понятии власти, которое в конечном счете определяется способностью властителя распоряжаться силовой полицейской властью армии и полиции.
До тех пор пока этот мир классически-современных государств задает собой непереходимый горизонт, всякая перспектива всемирно-гражданского устройства, не считающегося с суверенитетом государств, должна представляться нереальной. Этим объясняется и то, почему возможность объединения народов под гегемонией некоего могущественного государства, которое Кант представляет себе в конкретном образе «всеобщей монархии» (КВМ), не является альтернативой: при указанных условиях такая руководящая держава необходимо привела бы к «самому ужасному деспотизму» («О поговорке…». С. 103). Поскольку Кант не выходит за этот горизонт современного ему опыта, то и поверить в моральную мотивацию установления и поддержания федерации свободных, полагающихся на державную политику государств, оказывается столь же нелегко. Для решения этой проблемыКант разрабатывает философию истории со всемирно-гражданским умыслом, которая призвана объяснить на первый взгляд невероятное «согласие политики с моралью» скрытым «умыслом природы».








