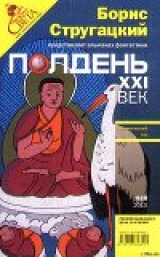
Текст книги "Полдень, XXI век. Журнал Бориса Стругацкого. 2010. № 5"
Автор книги: Юлия Зонис
Соавторы: Юрий Иванов,Полдень, XXI век Журнал,Константин Фрумкин,Антон Конышев,Сергей Карлик,Геннадий Прашкевич,Павел Полуян,Алексей Гребенников,Давид Баренбойм,Александр Голубев
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Антон Конышев
Воин: последний подвиг, или Сказ о простом человеке
Рассказ
Быть или вовсе не быть —
Вот здесь разрешение вопроса.
Парменид. О природе
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье,
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ним?
В. Шекспир. Гамлет
Человеческая жизнь по самой своей природе должна быть чему-то посвящена – славному делу или скромному, блестящей или будничной судьбе. Наше бытие подчинено удивительному, но неумолимому условию. С одной стороны, человек живёт собою и для себя. С другой стороны, если он не направит жизнь на служение какому-то общему делу, то она будет скомкана, потеряет целостность, напряжённость и «форму».
Хосе Ортега-и-Гассет
Ударило грандиозно.
Полоса, должно быть, прошла совсем рядом, потому что железобетонные стены блиндажа мгновенно оказались расписанными причудливыми сеточками трещин, из которых струйками брызгала земля напополам с жижей. Едкий, смешанный с мельчайшей земляной пылью дым лез в глаза, проникал в горло, нос и драл легкие.
В первый момент ему показалось, что на голову обрушилось не менее тонны земли, но потом его оглушило, придавило, и он перестал думать обо всём, кроме одного – дышать. Дышать и ни в коем случае не потерять сознание, иначе конец, смерть от удушья, и даже хоронить не надо, уже закопан. Милое дело…
Когда наверху угомонилось, а в ушах бешено застучало сердце, он изо всех сил, ногами и руками упершись в пол, рванулся, выпрямился и жадно глотнул.
Воздух пах смертью, но это был воздух.
Полоса, в самом деле, прошла очень близко, всего лишь метрах в двух от его укрытия, но всё её смертоносное могущество оказалось бесполезным, никчёмным: убивать было некого. Почти некого.
Воин выбрался из полузасыпанной канавы и принялся скакать на одной ноге, вытряхивая землю из-под гимнастёрки, из-за шиворота и из ушей. По опыту он вычислил и знал теперь, что самый короткий промежуток между двумя налётами составлял не менее десяти минут. А это значило, что можно попрыгать, поразмять ноги, приглядеть себе новый более или менее пригодный блиндаж и успеть в него перебраться. Ну вот, подумалось ему, и опять жив…
Несколько дней назад, когда их перебросили на передовую, они откровенно недоумевали: как же так, настоящая-то передовая в пятидесяти километрах от места дислокации? В те дни и часы всеобщего безумия и лихорадочного отчаяния им просто позабыли сказать, что какие-то пятьдесят километров для Армады – это даже не пустяк. И их линия очень скоро превратится в передовую, передовую следующего поражения. Их было много тогда, солдат, офицеров, каких-то людей с бешеными глазами в диковинной униформе. Они метались повсюду, позволяя себе совершенно безнаказанно оспаривать или изменять любые приказы, а в случае крайней нужды самозабвенно орать даже на генералов, брызгая слюной на их бледные физиономии, в то время как сами генералы стояли навытяжку, безоговорочно моргали в ответ и, не утираясь, тут же мчались исполнять приказание.
Все тогда были какие-то бешеные, повсюду можно было обнаружить признаки кипучей деятельности. Одно за другим беспрерывно прибывали новые подразделения, роты, полки, дивизии, в названиях которых он, человек, в общем-то, гражданский, всегда путался; ускоренными темпами возводились укрепрайоны, рылись километры окопов, десятки, если не сотни, блиндажей и бункеров (до сих пор на руках ныли мозоли от лопаты), эшелонами, самолётами и вертолётами доставлялись горы вооружения от морских кортиков (откуда и зачем здесь в таком количестве?!) до чего-то грандиозного, даже на непросвещённый взгляд напоминающего мобильную пусковую установку ракет средней дальности.
И уж, конечно, путаница была сплошь и рядом. Путали всё: ополченцев с регулярными частями, иностранцев со своими, периметр укрепрайона с основной оборонительной линией, оружие с провизией, день с ночью, нездоровый румянец паники с ввалившимися, покрасневшими глазами после четырёх суток без сна… И как проклятие и наваждение, ежесекундно слетало со всех уст произнесённое на разных языках, но с одним выражением слово – Армада.
Никто не знал, откуда она появилась, как никто не знал и каким образом её остановить и возможно ли это вообще. Вопли ужаса и бессвязные сообщения, поступавшие из стран, первыми подвергшихся вторжению, поначалу не вызывали ничего, кроме раздражающего недоумения и плоских шуток насчёт особенностей иностранного юмора.
Потом всякая связь оборвалась вообще и сразу, словно одним мощным ударом был уничтожен весь космический арсенал Земли на орбите – от спутника-шпиона до орбитальных станций. Планета в одночасье ослепла на один глаз, оглохла на одно ухо и потеряла одну карающую длань. Это подействовало отрезвляюще, и сразу же на континентах начались лихорадочные поиски противника, чуть было не кончившиеся преждевременной катастрофой.
А когда разобрались – было уже поздно. Нечто огромное, настолько странной формы, что казалось бесформенным, вовсю ползло по планете, не оставляя после себя практически ничего. Тогда-то с чьей-то лёгкой руки её и окрестили Неумолимой Армадой, а так как никто не знал, что она представляет собой в действительности, то название осталось, прижилось.
За считанные дни была создана Объединённая армия, численность ополченцев измерялась миллионами. Пожалуй, это была единственная в истории человечества война, на которой не было дезертиров. Просто бежать было некуда, да и не успевали убежать…
Собственно, ответный удар был нанесён почти мгновенно, но последствия его повергли военных в состояние тяжёлой депрессии. Никаких последствий просто не было: ракеты и бомбы, достигая цели, бесследно исчезали, словно проваливаясь в бездонную пропасть; эскадрильи и эскадры погибали на подступах, не успев даже понять в чём дело; миллионные армии, до сих пор считавшиеся непобедимыми, за доли секунды смешивались с землёй, вызывая у оставшихся в живых новые приступы безысходного страха.
Ужас положения проявлялся ещё и в том, что саму Армаду никто не видел. Те чудовищные потери, которые подкосили спокойствие и самоуверенность землян, были нанесены всего лишь передовыми отрядами Армады, названными так исключительно по аналогии, так как ничего общего с подобными образованиями они не имели и в помине. Просто небо вдруг темнело, пока не превращалось в непроглядно чёрное, и на фоне мрачного бархата начинали метаться ослепительно белые полосы, похожие не то на лучи прожекторов, не то на хвосты комет. Когда иллюминация заканчивалась, внизу не оставалось ничего живого или сколь-нибудь целого. По рассказам чудом выживших после такой свистопляски земля напоминала гигантскую пашню, только «плуг», десятки раз пройдя по живому, не переворачивал почву, а словно вдавливал её с невероятной силой, оставляя после себя ровные отутюженные полосы. Очутиться в полосе удара было равносильно неминуемой смерти.
Через три дня по прибытии Армада послала им первую весточку. В расположении части вдруг объявился ободранный и окровавленный человек, который при гробовом молчании окружающих хватал всех подряд за грудки, заглядывал в глаза, моргая опалёнными веками, и громко с придыханием шептал:
– Молитесь, молитесь, дети мои! Ибо Ад на земле и грядет!
Позже с большим трудом выяснили, что он был капелланом некой части, расположенной как раз на месте предшествующего укрепрайона. А через два часа было официально объявлено, что связь с передовой прекратилась ещё утром… С капелланом им довелось встретиться ещё раз, когда два угрюмых офицера усаживали его в машину для отправки в тыловой госпиталь. Заметив старых знакомых, он вырвался, подбежал к ним и, сняв с груди крестик, положил его на ладонь и протянул им.
– Молитесь, дети мои, ибо Ад грядет. Возьмите крест и молитесь! Господь не оставит, Господь спасёт, – шептал он, а в глазах читалась такая боль, что поневоле верилось – грядет.
Остановившись, бросив лопаты, они смотрели на него, мечущегося, полоумного, но не смеялись, не прятали ухмылки, потому что за внешней решительностью и непоколебимостью тонкой струйкой в их душах шевельнулся могильно-холодный страх.
Воин не взял тогда крестик то ли по наитию, то ли по неведомому и непонятному вне войны суеверию. Крестик у свихнувшегося капеллана взял их командир, молоденький сержантик с детскими чертами лица и ломающимся во время приказов голосом.
А тем же вечером они попали в полосу. Сержантика разнесло в клочья, большинство же просто расплющило с хрустом и чавканьем. Ту технику, которая не взорвалась, вмяло в землю вместе с людьми. От укрепрайона не осталось ровным счётом ничего, кроме пятен на развороченной и утрамбованной земле – красных, бурых, коричневых, стальных… Ночами, забываясь на несколько тревожных минут, он слышал стоны, крики, резкие приказы вперемешку со взрывами, и этот страшный хруст и чавканье справа, слева, спереди и сзади – повсюду. Абсолютная беспомощность и осознание невозможности хоть что-нибудь сделать, и отчаянная попытка ухватиться за жизнь, и гибель – и надо всем этим чёрное беззвёздное небо с безмолвно мечущимися белыми щупальцами.
Причины собственного спасения для него самого до сих пор оставались загадкой. Помнилось только, что накануне он стоял возле склада боеприпасов и по всем законам должен был быть разорван на куски, потому что полоса прошла точнёхонько по складу, этак наискосок. Очевидно, это его и спасло, а взрывной волной забросило в соседний блиндаж. Тут бы ему и помереть, но полоса, как заколдованная, опять прошла мимо, только половину бетонной стены срезала, как ножом, не задев его. Позже он заметит как раз с покорёженной стороны смятый корпус бронемашины с уже потемневшими пятнами крови на обломках. Вот, значит, куда полоса шла. Вот они, спасители…
Когда он понял, что жив, нахлынувшая было радость вновь обретённого бытия быстро отступила, уступив место разуму. Добраться до своих – нечего было и думать. До следующего укрепрайона (они ещё ничего не знают? или уже поняли, ЧТО означает потеря связи, и сидят, и молча смотрят на свои дрожащие руки?) было не менее двадцати пяти километров, и пытаться преодолеть их хотя бы на брюхе было полным безумием.
Локаторы Армады мгновенно улавливали любые передвижения, и тут же незамедлительно следовали удары. Были они, правда, меньшей плотности, но легче от этого не становилось: практически за несколько секунд уничтожалось всё, размером превосходящее кошку.
Не стоило рассчитывать и на возвращение своих. Армада – это вам не банальный противник, у которого утром можно отбить потерянную вечером высоту. Армада брала однажды и навсегда.
Одним словом, приходилось жить. И он жил, приспосабливаясь к почти невозможным условиям, подавляя в себе смертельную тоску и желание засунуть дуло автомата в рот и… слаб человек. Первым делом нужно было научиться передвигаться, не подвергая себя опасности быть раздавленным неожиданным налётом. Способ он обнаружил быстро, но вот овладение им потребовало немалых усилий. Он выбирался из своего укрытия, как большая ленивая каракатица, и начинал продвижение к заданной цели прямо так, на животе, касаясь подбородком земли, по грязи, по воде, по кровавым пятнам… Иногда путешествие от укрытия до укрытия занимало целый день, и в спасительное углубление воин скатывался уже совсем без сил. Причём необходимо было помнить, что каждый раз должна была двигаться только одна рука или нога, иначе (по его расчётам) размеры активной биомассы превысят допустимые нормы и Армада отреагирует ударом. Обычно она не промахивалась. Было и ещё кое-что. Сохранившиеся фрагменты окопов или, что намного лучше, не засыпанные блиндажи намертво укрывали его от вездесущих локаторов. Объяснить это он не мог, да и не особо утруждал себя тонкостями, довольствуясь уже тем, что может спокойно отоспаться и отдохнуть. Но всё это выяснилось не сразу.
Первые сутки воин не ел вообще. Оглушённый и потрясённый случившимся, он лежал на дне окопа и, кажется, плакал. Однако вскоре голод дал знать о себе, спазмами скрутило живот, и человек бился на дне всё того же окопа, извиваясь, как червь земной в предсмертной агонии. А когда отпустило, он уже знал, что делать.
Питался воин мышами, кротами и ещё какими-то грызунами, коих бегало вокруг превеликое множество. Сложнее всего оказалось установить ловушки. Грызунов он ловил в самодельные силки, которые довольно ловко мастерил из нескольких верёвок и валявшегося повсюду хлама. Промысел был неважный, да и день на день не приходился, но если удача улыбалась ему (при слове удача воину представлялась теперь, как беззубая старуха с развевающимися седыми волосами тычет в него батогом, заливаясь прерывистым старушечьим смехом), он возвращался с несколькими маленькими тушками. Дальше, как учили – сначала дать тушке остыть, чтобы выползли все паразиты и насекомые, а потом можно употреблять, предварительно заправив травами, дабы отбить горечь.
Первый раз его вырвало. Потом привык и даже позволял себе философствовать на сытый желудок, дескать, что поделать, человек приспосабливается ко всему. Этого Армада не учла…
По календарю на дворе стоял август. А здесь посреди выжженного поля последний месяц лета существовал разве что в его сознании. Кроме этого не было ничего. Не было тонкой, полупрозрачной, едва ещё только намечающейся позолоты лесов, не было пьянящего запаха болотного мха, настоянного на лесных ягодах; не было плодородного благодушия спелых полей, не было капелек росы по утрам на раскачивающихся травинках, не было крупных звёзд и ошеломляюще величественного Млечного пути.
Вместо этого были обугленные и размолотые в щепки, чёрные даже на фоне всеобщей черноты плеши бывших лесов, почти мёртвая тишина, в которой даже ветер стонал по-особому, и белые безмолвные полосы «передовых отрядов» на бархатно-черном небе…
Однажды он чуть не погиб. А случилось всё так. Пропахав на брюхе не менее двадцати метров по размокшей земле до того места, где прошлой ночью он поставил силки, воин буквально лицом к лицу столкнулся с человеческими останками. Одному ему известно, каких трудов стоило не шарахнуться в ужасе и отвращении в сторону, а несколько бесконечно долгих секунд унимать бешено стучащее сердце. А потом узнал: весельчак из соседнего взвода, белобрысый парень с певучей губной гармошкой.
Вот тогда впервые за последнее время воин испытал чудовищный приступ гнева. Не страх, не паника, не чувство беспомощности, а бешеная злость овладело им; та злость, что даёт силы подниматься в атаку под ураганным огнём врага, сворачивает горы и разрушает города. Он до боли сжал зубы и застонал, прижимая к себе автомат. Что оставалось ему? Единственная короткая и такая же несуразная, как и вся его жизнь, очередь, несколько готовых выполнить свой долг, аккуратно сделанных, маленьких кусочков смерти. Он знал, что бессилен. И что обречен, тоже знал. Но неуёмным смерчем поднималось и росло внутри его желание плюнуть на все условности, подняться в полный рост, заорать благим матом, что есть мочи, да и выплеснуть ненависть и боль свою автоматной очередью в белый свет, как в копеечку. Харкнуть в морду Армаде, пусть утирается!
Позже он поел, успокоился и уже не помышлял о героической гибели во имя давно окоченевшего трупа. И было ему сытно, дремотно и даже немного стыдно за своё недавнее ребячество.
Но бывало и по-другому. На пятый день утром, выпластавшись из окопа, он медленно пополз проверять ловушки. В такую рань он чувствовал себя гораздо спокойнее не только потому, что это время суток почти полностью исключало появление какого-нибудь крупного зверя из выживших, но и по необъяснимой, от пещерных предков идущей убеждённости в сакральности часа, стоящего между ночью и рассветом. Но человеческий опыт основывался на обычных земных вещах и ни с чем подобным Армаде никогда не сталкивался.
Птицы запели без пяти четыре. Он уже потом определил время по сломавшимся от удара о бетон часам, а пока… Рывком, не глядя, почти вниз головой броситься в ближайший блиндаж. Уже в полёте он разодрал себе бедро о торчавшую из стены арматуру, но довольно удачно приземлился на лопатки, и, извернувшись, принялся принимать нормальное положение. Птицы заливались. Их было много, и они пели так, как будто не было ни войны, ни Армады, ни выжженной пустыни кругом… Глупенькие, подумал воин с неожиданной для себя самого нежностью и жалостью, затем отсчитал приблизительные пять секунд и вжался в угол, изо всех сил сдавив голову коленями.
Накатило. Да так, что земля застонала жалобно и совсем по-стариковски, как от непомерной ноши. Затрещали косточки, брызнули в нескольких местах мощными фонтанами грунтовые воды, и хрустяще-шипящая тишина заволокла округу. А когда схлынуло, уже никто не пел. Некому было. Вот тогда, выбравшись из-под завала сразу ставшего узким блиндажа в едкую бетонную пыль, воин поднёс левую руку к глазам. Осколки разбитого от удара о бетон стекла накрепко сдавили стрелки в одном положении – маленькая на четырёх, большая на одиннадцати.
От судьбы не уйдёшь.
Подобные разговоры он никогда не принимал всерьёз.
Его накрыло на седьмой день. История с птицами повторилась почти полностью, только не птицы это были, да и уйти ему на этот раз, видимо, не суждено оказалось.
В тот вечер он проверил уже четыре ловушки, и все они были попорчены. Кто-то поедал его добычу без зазрения совести и при этом умудрялся оставаться незамеченным. Воин перевёл дух и скрепя сердце пополз к последней, пятой. К немалой его радости, она осталась нетронутой, и в верёвочной паутине трепыхались намертво запутавшиеся две серые мышки. Не бог весть какой ужин, но как говорится, чем богаты… Грех жаловаться. Долго оставаться здесь было опасно. Запустив одну руку внутрь трепыхающейся паутины, воин принялся быстро, но аккуратно высвобождать добычу. И замер…
Очевидно, долгие дни в ожидании прихода Армады не прошли для него даром, ибо звериным чутьём первобытного охотника почувствовал он чужое присутствие. Осторожно и плавно, чтобы, не дай бог, не спугнуть и не выдать своего беспокойства, он повернул голову влево. Так и есть. В нескольких шагах на пригорочке стояло нечто узнаваемое, нечто среднее между гиеной и шакалом. Он их никогда не различал и знал только, что раньше в этих краях они не водились, а очутились здесь исключительно благодаря Армаде, вовремя успев удрать от неё. Вот, значит, кто жрёт моих мышей, зло подумалось ему, ну-ну.
Животное стояло, наклонив голову с острыми, дёргающимися ушами, готовое напасть, если повезёт, или же удрать, если понадобится. Свалявшаяся на боках шерсть топорщилась на загривке острым ёжиком, из оскаленной пасти капала слюна, а глаза тускло блеснули пару раз в лучах заходящего солнца багровым огнём. Солнце ещё висело над горизонтом раскрашенным шаром, а уже начинало темнеть…
Лишь бы оно не дёргалось, холодея, думал воин, если дёрнется, или прыгнет, или просто уйдёт восвояси – я пропал: поблизости никакого укрытия. Он любил это место и, однажды поставив здесь силки, только второй раз вернулся проверить их. Нужда заставила, поблизости и правда не осталось ни одного хоть сколь-нибудь пригодного блиндажа или окопа, отутюжено было всё на славу, уж Армада постаралась! Если осторожно подтянуть к себе автомат и прицелиться, соображал он, не сводя глаз со зверя, то попасть, в принципе, можно и еды тогда надолго хватит… И тут же прервал себя: а если промах или конвульсии? Господи, почему же так темно, ничегошеньки ведь не видать! Ладно, чёрт с ним, с шакалом, своя жизнь дороже. Надо убираться отсюда, вот заберу мышей и самый малый назад, пока еще видно куда.
И вдруг он остановился. Во рту мгновенно пересохло и стало больно глотать. Поздно, всё поздно, бежать некуда и некогда, отбегал своё, отползал. Это же было ясно, как божий день, ясно с самого начала! Вокруг не осталось ни одного более или менее целого укрытия, а значит, спрятаться негде. А значит, старый ты осёл, зверюга не появилась вдруг из-под земли, она ПРИШЛА! А значит, рыпаться уже поздно, потому как не успеть. И темнеет почему так быстро, тоже ясно…
Воин бросил взгляд на зверя, всё так же стоявшего на холмике, словно изваяние.
– Привет, подруга, – сказал он шёпотом, – тебе хорошо, ты будешь умирать стоя. Завидую…
В тот же миг почернело небо.
Тихо. Господи, как тихо и благостно! И никто тебя больше не тронет, не побеспокоит, никто не заставит ползать на брюхе по грязи и справлять нужду там же, где лежишь. Как хорошо, как сладостно и блаженно не быть, не существовать…
Мысли выплывали из пурпурного океана сознания сказочно красивыми каравеллами. Могучие корабли грациозно и величественно проплывали мимо, поворачиваясь боком, и до него откуда-то сверху доносилось хлопанье пирамид из ярких натянутых парусов, каскадами ниспадавших на палубу. Он протягивал к ним руки, привставал на носки и тянулся, тянулся изо всех сил к каждой каравелле, втайне надеясь и втайне же страшась, что надежда не сбудется. Но каравеллы по-прежнему величественно и совершенно безразлично проплывали мимо, и с каждым разом надежда в его душе таяла, а страх рос.
Когда последний корабль скрылся в дымке тумана, воин с новой силой испытал чувство одиночества. Второй раз за несколько последних дней его бросили.
И тут же он почему-то вспомнил, что сейчас конец лета, а вспомнив, понял, что давно прислушивается к далёкому рокочущему голосу, говорящему нечто странное, на первый взгляд бессвязное, но красивое и очень печальное. И сам голос звучал печально, только по мере того, как слова выстраивались в предложения, рокот уходил, интонации смягчались, и последние фразы были произнесены тихим и нежным голосом женщины. Будто кто-то стоял рядом и шептал ему на ухо…
И пустота внутри тебя чудовищна.
И последняя надежда, поддерживающая движение вперёд, тает на глазах.
И то, что вчера ещё было мечтой, сегодня становится памятью.
И то, чего ждал с замиранием сердца, проходит буднично и вскользь.
И в грядущем восстаёт осень,
И жаждешь счастья, но не имеешь возможности даже приблизиться к нему.
И помнишь то, о чём хочется забыть; и забываешь то, о чем должен помнить.
И болит давно зажившее.
И Будущее одинаково безразлично и болезненно одновременно.
И хочется плакать, но стыдно лить слезы.
И хочется смеяться, но нет причин для смеха.
И каждое утро удивляешься: зачем я проснулся?
И каждый вечер напоминаешь себе: вот и кончился ещё один день.
И любовь перестаёт быть весенней.
И всё это называется Август.
Вот тогда он узнал говорившую.
Это было нечестно, это был удар в спину! В его-то положении ко всему прочему терпеть снова эти муки! Пощадите! Оставьте меня в покое, кто вы есть! Неужели я снова должен пережить всё это, господи…
Они познакомились на чьём-то дне рождения. Это само по себе было необычно, потому что, как правило, на подобные вечеринки он никогда не ходил, а в тот день пришёл. Что-то подтолкнуло его к такому решению. Предчувствие? Судьба? Предчувствие судьбы? Или всё начиналось уже тогда без его ведома и согласия, разворачивалось либо закручивалось день за днём, час за часом само собой?
Она поразила его мгновенно. Он сразу обратил внимание, как решительно выделяется она во всеобщей суматохе и пестроте праздника. Было в ней нечто особенное: неуловимое очарование вместе с огромной внутренней силой исходило от неё. И красивой она казалась до безумия. Большие чёрные глаза с длинными, чуть загнутыми на кончиках вниз крыльями-ресницами, длинные, ниже плеч, свободно ниспадающие волосы цвета вороньего крыла, изящная шея, гибкий стан в облегающем тоже чёрном длинном платье с разрезом до бедра. И голос – грудной, немного низкий и мягкий, ласковый.
Он бы так и любовался ею издалека, потому что был с женщинами робок и стеснителен, а она постоянно находилась в окружении множества более смелых поклонников, так бы и ушёл с вечеринки один, вздыхая и проклиная себя за нерешительность, если бы она вдруг, оставив поклонников в недобром недоумении и растерянности, не подошла к нему сама:
– Это белый танец. Ты… танцуешь?
Да пропади всё пропадом, весь мир в тартарары провались, лишь бы этот миг длился вечность, и глаза её улыбающиеся, манящие, и голос…
Они кружились, всецело поглощённые друг другом, не замечая ядовито-злобных насмешек в его адрес и раздражённо-недоуменных реплик – в её. Больше в тот вечер они не расставались. Далеко заполночь, вежливо, но решительно охладив пыл добровольных провожатых, она взяла его под руку, и они очутились на улице.
От всего происшедшего потом у него осталось только чувство огромного счастья и радости ожидания следующего дня.
Он так и не смог понять, ЧТО она в нём нашла. Что привлекло её, писаную красавицу, в обычном (свою внешность он всегда оценивал объективно), ничем не примечательном человеке. Было бы безумием ожидать от него звёзд с неба и разной прочей подобной чепухи, которую не скупясь так часто обещают друг другу влюблённые. Равно как и не стоило рассчитывать, что в один прекрасный день, расколдованный её любовью, он из тихого, неприметного человечка превратится в прекрасного и мужественного принца на белом скакуне.
Она это понимала, не могла не понимать. Она была умной женщиной, но несмотря ни на что не оттолкнула его. Всё случилось… случилось наоборот.
Обычно, если она не оставалась у него, он провожал её до дома. Они шли пешком через весь город в любую погоду, потому что для них погода всегда была солнечной. Затем, как это бывает, долго не могли расстаться у подъезда, каждый, опасаясь первым шагом обидеть другого, пока она не говорила ему горячим шёпотом «До завтра!», и тонкие каблучки стучали уже вверх по лестнице. А он, взбудораженный и счастливый, как пацан, отправлялся восвояси, насвистывая и засунув левую руку в карман брюк.
В первый раз они его не тронули. Просто в тёмном переулке, узком и затхлом, отделились вдруг от стены четыре фигуры, прижали его к холодным, покрытым плесенью камням, и один из них сказал:
– Слушай внимательно, мальчик. Завтра, нет, сегодня же забудешь эту девочку. Не про твою честь, понял? Если заупрямишься, хуже будет. Тогда пеняй на себя.
И растворились тихо и все вместе, словно слились со стенами.
Всю дорогу домой у него лихорадочно колотилось сердце и подкашивались ноги, но дома в тепле и уюте, после большой чашки кофе с приличной долей коньяка, он раздухарился и принялся выкрикивать в пустоту комнаты твёрдые фразы, отражающие его непоколебимость. Угрожать ему? Да ещё так банально? Нет, решено, завтра же он демонстративно покажется с ней в самых людных местах города, а вечером, как всегда, проводит домой и, уж конечно, не испугается каких-то наглецов.
Его уже ждали в том же самом переулке, и разговорами на этот раз никто себя не утруждал. Они били его молча, пыхтя и ухая от натуги и злости. Били жестоко, с упоением, потому что не кричал, потому что один, а их четверо, потому что он слабый, потому что она с ним…
Так продолжалось около двух месяцев. Ему требовалось время, чтобы залечить ушибы и ссадины, и они стали видеться реже. Он оправдывался частыми служебными командировками, она кивала в ответ молча и не верила. А потом он вдруг понял, что она всё давно знает…
Однажды, после очередного свидания, ему сломали нос, выбили несколько зубов и, кажется, отбили лёгкие. Когда окровавленный, почти без сознания, он дополз до больницы, левый глаз уже ничего не видел. Позже ему скажут, что ещё немного и осколок стекла насквозь пронзил бы глазное яблоко. А так пусть считает, что ему повезло…
Выйдя из больницы, он сделал две вещи: зарёкся носить очки на улице и сдался, отступил, проиграл – какая разница, как это называется!
Она искала с ним встречи – он всячески избегал её. Она звонила и писала ему – он не отвечал на звонки и жёг письма не читая. Она была полна решимости – он разбит, раздавлен, уничтожен.
Тогда, отчаявшись, в отместку она окатила его холодным презрением и полностью вычеркнула из своей жизни. Она умная женщина, он всегда это признавал. Но ни на секунду не переставал думать о ней. Иногда, когда становилось совсем уже невмоготу, он брал ручку и быстро записывал на листке бумаги. Так рождались сумбурные, без рифмы и размера, противу всех правил сочинённые его стихи…
Её образ неодолимо всплывает
Из туманных глубин памяти
Я боюсь её
Я топлю этот образ-призрак
Новыми ощущениями
Но всё напрасно
Какая связь между её появлениями
Не знаю
Что ей нужно от меня
Или мне от неё
Да к тому же
У нас такие разные судьбы
Нет ничего общего между жизнью моей
И её я вижу редко
Но вижу
Во сне и наяву в видениях
Когда о ней пишешь
Нельзя ставить знаки препинания
Даже точку
Страшно
А вдруг ошибка
И…
Они рождались, и он тут же комкал их и выбрасывал в корзину.
И смешно и трогательно оказалось вспоминать время, когда он был бесконечно молод, непоправимо влюблён и неизбежно глуп. Когда ему не дано было ещё узнать, что счастье мимолётно и его нельзя растянуть на всю жизнь. Когда он упрямо не верил в преходящее и чувствовал себя бессмертным. Бессмертный глупец!
Увы, время – безжалостный враг с твёрдой рукою. Молодость прошла, занозив память тяжёлыми воспоминаниями, юношеская жизнерадостная глупость незаметно уступила место солидной житейской мудрости в домашнем халате и стоптанных тапочках, всезнающей и смертельно нудной. И только любовь, окрылив и затем растоптав, осталась жить, как осколок под сердцем – болезненный, но неизвлекаемый.
Вот и сейчас она склонилась над ним, распластавшимся в грязи, и плакала. И так хорошо ему сделалось… Ведь пришла! Пришла же, а значит, простила! А то, что плачет, – так это не беда, это, верно, от радости. Я ведь тоже…
А она всё плакала, и слезы падали прямо ему на лицо, но были они почему-то жёсткие и холодные…
О, как тяжёл переход из небытия в бытие. Потребовалось усилие всего организма, чтобы только открыть веки. С неба падали, быстро увеличиваясь в размерах, мириады капель. Шёл сильный, холодный, совсем уже осенний ливень. Жив, опять жив. Что же это, господи? Армада всё ближе, а я жив! Небо в белых шрамах, а я жив, кругом смерть, а я жив, земля покрылась трупными пятнами, а я всё живой. Господи, кто ты есть, хоть бы ты меня прибрал. Или что, господи, брезгуешь падалью?
За что мне муки такие?!
За трусость мою? За то, что любовь свою предал, испугался, как жалкий слизняк, и уполз, забился в щель? Так ведь я уже давным-давно наказан и расплатился сполна. Так расплатился, что никому мало не покажется.
За везение моё? За то, что дважды подохнуть должен был и дважды выжил? За то, что несколько дней ползал на брюхе и землю жрал, чтобы с голоду не умереть?








