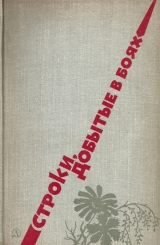
Текст книги "Строки, добытые в боях"
Автор книги: Юлия Друнина
Соавторы: Булат Окуджава,Сергей Наровчатов,Юрий Левитанский,Николай Майоров,Давид Самойлов,Семен Гудзенко,Александр Межиров,Василий Субботин,Константин Ваншенкин,Михаил Дудин
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Я эти песни написал не сразу.
Я с ними по осенней мерзлоте,
С неначатыми, по-пластунски лазил
Сквозь черные поля на животе.
Мне эти темы подсказали ноги,
Уставшие в походах от дорог.
Я с тяжким потом добытые строки,
Как и себя, от смерти не берег.
Их ритм простой мне был напет метелью,
Задувшею костер, и в полночь ту
Я песни грел у сердца, под шинелью,
Одной огромной верой в теплоту.
Они бывали в деле и меж делом
Всегда со мной, как кровь моя, как плоть.
Я эти песни выдумал всем телом,
Решившим все невзгоды побороть.
1945
«Когда нацизма вырвалась машина…»
Когда нацизма вырвалась машина
На новый стратегический простор,
То в ползунках лиловых из сатина
Я выполз в коммунальный коридор.
…Вопил Бриан. В Мадриде шла коррида.
В Нью-Йорке ждали повышенья цен…
Я выползал. Соседские корыта
Поблескивали дьявольски со стен…
Еще чуть-чуть, и ринуться армадам!
Смотри: забился кубик за комод!..
…Я подымусь на бруствер. С автоматом.
И сразу мне землей глаза забьет.
1966
Кама
Почти что год уже идет война…
О, как пустынен городок на Каме!
За пристанью покойна пелена.
Река перекликается гудками.
Сидит над Камой в сквере инвалид.
Тельняшка под халатом полосата.
Скрутить рукой цигарку норовит
Из крупного, как палка, самосада.
Мы кончили на днях девятый класс.
И парень нам рассказывает вяло,
Что выбили ему под Ржевом глаз
И что по локоть руку оторвало.
…Пространство Камы где-то там, внизу.
Как тянет рыбой, соснами, грибами!..
Еще полгода. Я в кювет вползу
И санпакет перегрызу зубами.
1965
Солдат
Мимо лип прибрежных оробелых,
Мимо длинных, длинных, длинных сел
В сапогах больших, от пыли белых,
Полк пехотный шел —
С развеселой песнею военной.
А последним, замыкавшим ряд,
Был в строю совсем обыкновенный,
Роста невеликого солдат.
На спине был щит от пулемета,
Ранец, как положено бойцу.
Пел он громче всех, и струйка пота
Медленно стекала по лицу.
Пыльная дорога. Полдень. Душно.
Это стало все давно былым…
Вспомнил же его я потому, что
Это я был им.
1946
«Я видел мир…»
Я видел мир
Таким, какой он есть,
Тот страшный мир
С яругами кривыми,
Со степью снежною,
Где места нет,
Чтоб сесть,
С примерзшими к винтовкам
Часовыми,
С путем бессонным
От костра к костру,
С березами,
Издерганными ветром,
С весенним ливнем,
Что, пробив листву,
Гудя, уходит в землю
На полметра.
Я видел мир,
Где черная вода
Из мелких лужиц и канав
Целебна,
Где в небо звездное
Взлетают города
И к сапогам
Ложатся слоем щебня.
Сейчас висит он,
Стихший до утра,
Какой-то незнакомо-оробелый,
В дрожащей кайле
У конца пера,
Безмолвной ночью,
Над бумагой
Белой.
1951
«Спит сержант на концерте…»
Спит сержант на концерте,
Упав на барьер головой.
…Там актеры как черти
По сцене бегут круговой.
В тонких юбочках феи
Там ножками бьют на лету.
Знатоки, корифеи,
Ценители в первом ряду…
Спит сержант на концерте.
(Он топал по вмятинам шпал!..)
Захотелось до смерти
Уснуть… Головою упал.
Гуд все глуше и глуше.
А вот и последний хлопок.
И гигантские лужи
Стоят у гигантских сапог.
Спит сержант на концерте.
(Дороги вовсю развезло!..)
Как спалось мне под Верди!
Как было тогда мне тепло!
1966
Двадцать пятого года рожденья
Вчера мы писали диктанты,
Чертили на досках круги,
А утром уже интенданты
Нам выдали сапоги.
В широкой армейской шинели
Мы ростом казались малы,
Мы песни заливисто пели,
Скребли, провинившись, полы.
Когда же, идя на ученья,
Мы путали ногу подчас:
– Двадцать пятого года рожденья! —
С усмешкой кивали на нас.
Но фронт наступил!
Мы мужали
В сражениях день ото дня,
С соседом до битвы сдружаясь,
Друзей после битв хороня.
Орудия, танки, повозки
Гремели по городам,
И пели по-чешски и польски
Веселые девушки нам.
А в час, когда звезды студены,
Над онемевшей рекой
Немецкие аккордеоны
Рыдали рязанской тоской…
1946
«…С правого берега…» (А. Чуянов)…С правого берега привезли группу раненых. Один из них, бородатый, с забинтованной головой, обратился к бойцам с просьбой дать закурить. Ему протянули несколько кисетов с махоркой. Кто-то поинтересовался:
– Что там в городе делается?
– Да сам черт не разберет. Видишь? – Раненый хмуро показал рукой в сторону Волги. – Весь город в огне. Немец забрался на Мамаев курган, туго нашим приходится. Все горит: дома, заводы, земля, металл плавится…
– А люди?
– Люди? Стоят!..
(Из воспоминаний члена Военного совета Сталинградского фронта А. Чуянова)
«…Пехотинцы на переднем крае…» (И. Людников)… Пехотинцы на переднем крае не раз добрым словом вспоминали пушкарей, минометчиков, и теперь я имел возможность лично поблагодарить мастеров меткого огня. От батареи к батарее сопровождал меня командир артиллерийского полка майор Соколов. Перед выстроившимся расчетом одного из орудий майор остановился, скомандовал:
– Федоровы, ко мне!
Не торопясь, но широким шагом подошли к нам два рослых артиллериста – молодой и уже в летах.
– Командир орудия сержант Федоров Петр явился по вашему приказанию! – доложил младший.
– Заряжающий ефрейтор Федоров Василий! – представился старший.
Майор Соколов не без гордости пояснил:
– Отец и сын. Сын командует, отец подчиняется.
И тут, к досаде майора, получился конфуз. Старший Федоров, косясь на сына, стал жаловаться:
– Служба службой, но уж больно суров сержант. Со всех один спрос, а с меня вдвойне. Кому и втерпеж, а мне – никак…
– А кто командовал в бою, за который награду получаете? – спросил я заряжающего.
– Сын командовал, сержант Федоров Петр…
(Из воспоминаний Героя Советского Союза генерал-полковника И. Людникова)
Старики
«Командир батареи» —
Звался я.
Воротник
На мальчишеской шее
Был безмерно велик.
Командира солдаты
За спиною, тайком,
Седоваты, усаты,
Называли сынком.
Не чета ни придирам,
Ни льстецам-добрякам,
Был отцом-командиром
Я своим старикам.
Я бранил их, коль были
Ноги мокры у них.
Письма им из Сибири
Я читал от родных.
Как посмотришь,
пожалуй,
Несерьезная рать!
Да, и старый и малый
Шли на фронт умирать…
1957
«Сосед мой, густо щи наперчив…»
Сосед мой, густо щи наперчив,
Сказал, взяв стопку со стола:
– Ты, друг, наивен и доверчив.
Жизнь твоя будет тяжела.
Но не была мне жизнь тяжелой.
Мне жребий выдался иной:
Едва расстался я со школой,
Я тотчас принят был войной.
И в грохоте, способном вытрясть
Из тела душу,
на войне
Была совсем ненужной хитрость,
Была доверчивость в цене.
Я ел – и хлеб казался сладок,
Был прост – и ротой был любим,
И оказался недостаток
Большим достоинством моим.
1957
Боль
Нас воспитала строгая эпоха,
Ей сетованья были не с руки.
Мой ямб пехотный приспособлен плохо
Для грусти, для признаний, для тоски.
Грусть по тебе меня сегодня гложет,
И я грущу, и в этом нет греха…
А боль моя все прозвенеть не может
Сквозь трубный ритм железного стиха.
1955
«Интернационал»
Тому вовек рассудком не понять
Страну мою,
как строилась, страдала,
Кого ни разу не смогли пронять
До слез
слова «Интернационала»!
Практичен Запад и нетороплив,
Параграф чтущий, делающий дело…
Страна моя, прекрасен твой порыв
Во всем достичь последнего предела!
…Я верю: будет —
пусть идут года! —
Мир и довольство…
Но еще не знала
Вселенная от века никогда
Такой великой жажды идеала…
1961
Михаил Кульчицкий
Михаил Валентинович Кульчицкий родился в 1919 году в Харькове. Отец его, профессиональный литератор, погиб в 1942 году в немецком застенке. Окончив десятилетку, Кульчицкий некоторое время работал плотником, чертежником на тракторном заводе, затем поступил в Харьковский университет. Через год перевелся на второй курс Литературного института имени Горького. Писать и печататься начал рано, первое стихотворение опубликовано в 1935 году в журнале «Пионер». «Он был труженик, – вспоминает Борис Слуцкий. – С самого раннего детства гнул спину над стихами. Написал десятки тысяч строк по-русски и по-украински. Оба языка знал одинаково хорошо. Переводил стихи с нескольких языков… Постоянно прирабатывал то на стройке, то на вокзале – на разгрузке высоко ценимых им арбузов и помидоров. Учительствовал в школе, консультировал в издательстве… Мне пришлось жить с ним в одной комнате общежития. Свидетельствую, что единственным видом имущества, которым Миша дорожил, была толстая бухгалтерская книга, куда записывались стихи. Кроме того, была рубашка с васильками на вороте, тощее пальтецо, скудная еда и любимая ежедневная четырнадцатичасовая работа». С первых дней войны Кульчицкий в армии. В декабре 1942 года окончил пулеметно-минометное училище и отбыл на Сталинградский фронт.
Михаил Кульчицкий погиб 19 января 1943 года под Сталинградом.
В 1966 году вышла его книга «Самое такое».
Будни
Мы стоим с тобою у окна,
Смотрим мы на город предрассветный.
Улица в снегу, как сон, мутна,
Но в снегу мы видим взгляд ответный.
Этот взгляд немеркнущих огней
Города, лежащего под нами,
Он живет и ночью, как ручей,
Что течет, невидимый, под льдами.
Думаю о дне, что к нам плывет
От востока, по маршруту станций.
Принесет на крыльях самолет
Новый день, как снег на крыльев глянце.
Наши будни не возьмет пыльца.
Наши будни – это только дневка,
Чтоб в бою похолодеть сердцам,
Чтоб в бою нагрелися винтовки,
Чтоб десант повис орлом степей,
Чтоб героем стал товарищ каждый,
Чтобы мир стал больше и синей.
Чтоб была на песни больше жажда.
1939
О войнеН. Турочкину
В небо вкололась черная заросль,
Вспорола белой жести бока:
Небо лилось и не выливалось,
Как банка сгущенного молока.
А под белым небом, под белым снегом,
Под черной землей, в саперной норе,
Где пахнет мраком, железом и хлебом,
Люди в сиянии фонарей,
(Они не святые, если безбожники),
Когда в цепи перед дотом лежат,
Банка неба, без бога порожняя,
Вмораживается им во взгляд.
Граната шалая и пуля шальная.
И когда прижимаемся, «мимо» – моля,
Нас отталкивает, в огонь посылая,
Наша черная, как хлеб, земля.
Война не только смерть.
И черный цвет этих строк не увидишь ты.
Сердце, как ритм эшелонов упорных:
При жизни, может, сквозь Судан, Калифорнию
Дойдет до океанской, последней черты.
1940
«Самое страшное в мире…»
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет!
1939
«…Егорова, соседа по парте…»…Егорова, соседа по парте, не приняли в военную школу. Он близорук. Врача не было минут двадцать, и он выучил наизусть третий, мелкий ряд таблицы. И правым глазом все ответил, а левым – забыл. Врач кричал…
(Из дневников М. Кульчицкого)
Дословная родословная«…Мне вспоминается август…» (С. Наровчатов)
Как в строгой анкете —
Скажу не таясь, —
Начинается самое
Такое:
Мое родословное древо другое —
Я темнейший грузинский
Князь.
Как в Коране —
Книге дворянских деревьев —
Предначертаны
Чешуйчатые имена,
И
Ветхие ветви,
И ветки древние
Упирались терниями
В меня.
Я немного скрывал это
Все года,
Что я актрисою-бабушкой – немец.
Но я не тогда,
А теперь и всегда
Считаю себя лишь по внуку:
Шарземец.
Исчерпать
Инвентарь грехов великих,
Как открытку перед атакой,
Спешу.
Давайте же
раскурим
эту книгу —
Я лучше новую напишу!
Потому что я верю,
и я без вериг:
Я отшиб по звену
и Ницше
и фронду,
И пять
Материков моих
Сжимаются
Кулаком «Рот Фронта».
И теперь я по праву люблю Россию.
…Мне вспоминается август 1938 года, когда я со своим другом белорусом Михаилом Молочко лежал на жгучем песке Черноморья и вглядывался в очертания испанского парохода, стоявшего на рейде.
Я хату покинул.
Пошел воевать.
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать, —
задумчиво повторял Михаил светловские строки. И вдруг, приподнявшись на локтях, спросил полувопросительно-полуутверждающе: «Поедем?..» Это была не шальная мальчишеская блажь, заставлявшая когда-то гимназистов бежать в Америку. Нет, этот юношеский порыв был подготовлен всей нашей биографией. Не громко ли сказано «биография» в применении к восемнадцатилетним юнцам? Что же! Пионерский галстук и мопровская книжка, взносы в которую погашались за счет гривенников, полученных на завтрак, были значимыми вехами нашего детства, незаметно перешедшего в юность.
Нашим намерениям не дано было осуществиться. Лодка, на которой мы должны были ночью добраться до парохода испанских республиканцев, так и осталась стоять на приколе. Корабль еще вечером снялся с якоря и ушел в Испанию…
(Из воспоминаний С. Наровчатова)
Баллада о комиссареСтолица
Финские сосны в снегу,
Как в халатах.
Может,
И их повалит снаряд.
Подмосковных заводов четыре гранаты,
И меж ними —
Последняя из гранат.
Как могильщики,
Шла в капюшонах застава.
Он ее повстречал, как велит устав,
Четырьмя гранатами,
На себя не оставив, —
На четыре стороны перехлестав.
И когда от него отошли,
Отмучив,
Заткнувши финками ему глаза,
Из подсумка выпала в снег дремучий
Книга,
Где кровью легла полоса,
Ветер ее пролистал постранично,
И листок оборвал,
И понес меж кустов.
И, как прокламация,
По заграничным
Острым сугробам несся листок.
И когда адъютант в деревушке тыла
Поднял его
И начал читать,
Черта кровяная, что буквы смыла,
Заставила —
Сквозь две дохи —
Задрожать.
Этот листок начинался словами,
От которых сморгнул офицерский глаз:
«И песня
и стих —
это бомба и знамя,
И голое певца
подымает класс».
Здесь каждый дом стоит как дот,
И тянутся во мгле
Зенитки с крыши в небосвод,
Как шпили на Кремле,
Как знак, что в этот час родней
С Кремлем моя земля,
И даже кажутся тесней
Дома вокруг Кремля.
На окнах белые кресты
Мелькают второпях,
Такой же крест поставишь ты,
Москва, на всех врагах.
А мимо – площади, мосты,
Патрульный на коне…
Оскалясь надолбами, ты
Еще роднее мне.
И каждый взрыв или пожар
В любом твоем дому
Я ощущаю как удар
По сердцу моему…
1941
«…Радио из-за атмосферных условий…» (К. Симонов)…Радио из-за атмосферных условий работало очень плохо, но все-таки в политотделе поймали обрывки сводки, в которой сообщались разные новые тревожные известия о Москве. Было томительное ощущение страшной оторванности и невозможности принять участие в том, что там происходит. И это ощущение было не только у меня, а у всех, кто находился здесь. Тут тоже была война, фронт, но казалось, что в эти дни, когда Москва в опасности, все мы, кто сейчас не там, не под Москвой, занимаемся не самым настоящим делом…
(Из дневников К. Симонова)
«Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник!..»
Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал; лейтенант
Звучит «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда —
черна от пота —
вверх
Скользит
по пахоте
пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чеботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино!
26 декабря 1942 года.
Хлебниково – Москва
«…Настоящая весна…» (Б. Полевой)…Настоящая весна. Февраль еще только завязывается, а днем уже жарко в шинелях. Над зазеленевшими полями вовсю поют жаворонки. Но нам от этого не веселей. Все попытки добраться до образовавшегося коридора в буквальном смысле слова увязают в этой первозданной грязи.
Мототранспорт вообще парализован… Но и в невыносимо тяжелых условиях распутицы наступление продолжает развиваться. Бои идут непрерывно, не затихая даже ночью. Боеприпасы в наступающие части сбрасывают на парашютах с транспортных самолетов, везут гужом на конях, на волах. И люди, да, именно люди тащат их на себе во вьюках…
Боже ж мой, во что превратились дороги! Движемся со скоростью «девятый день десяту версту». Появилась сейчас на фронте такая пословица, ДОВОЛЬНО образно определяющая темп продвижения по чудовищно глубокой грязи… Грязь… Всюду грязь. Огромная. Жирная. Прямо-таки гомерическая. А оттепель все нарастает.
Грузовики врастают в грязь по радиатор. Шоферы, уже не пытаясь даже их вытянуть до прибытия мощных тракторов с тросом, отходят с дороги в поле и располагаются на биваках…
Последнюю треть пути пришлось двигаться пешком. И двигались, помогая друг другу выбираться из грязи, вытаскивая за ушки слезающие с ног сапоги. Вот тут-то и познали мы вполне беспримерный солдатский труд… Грязь хватала нас за ноги своими липкими ладонями, приставала к подошвам, делала сапоги более тяжелыми, чем колодки или кандалы. Путь мы считали не десятками километров, даже не километрами, а пролетами между телеграфными столбами…
(Из военных дневников Б. Полевого)
Красный стяг
Когда я пришел, призываясь, в казарму,
Товарищ на белой стене показал
Красное знамя – от командарма,
Которое бросилось бронзой в глаза.
Простреленный стяг из багрового шелка
Нам веет степными ветрами в лицо…
Мы им покрывали в тоске, замолкнув,
Упавших на острые камни бойцов…
Бывало, быть может, с древка он снимался,
И прятал боец у себя на груди
Горячий штандарт… Но опять он взвивался
Над шедшею цепью в штыки
впереди!
И он, как костер, согревает рабочих,
Как было в повторности спасских атак…
О дни штурмовые, студеные ночи,
Когда замерзает дыханье у рта!
И он зашумит!.. Зашумит – разовьется
Над самым последним из наших боев!
Он заревом над землей разольется,
Он – жизнь, и родная земля, и любовь!
1939
Всеволод Лобода
Всеволод Николаевич Лобода родился в 1915 году в Киеве. Его отец – преподаватель русского языка и литературы, мать была оперной певицей. Стихи начал писать еще в школе. В 1930 году, окончив среднюю школу, переехал в Москву и поступил учиться в ФЗУ Щелковского учебно-химического комбината. В это же время начал печататься. Затем редактировал многотиражку Мытищинского вагоностроительного завода «Кузница», работал в журнале «Высшая техническая школа». В 1935 году поступил в Литературный институт имени Горького. В первые месяцы войны работал на радио, а потом ушел на фронт. Был пулеметчиком, артиллеристом, воевал под Ленинградом и Старой Руссой, под Великими Луками и в Прибалтике. Одно время работал в газете 150-й Идрицкой дивизии – «Воин Родины». Василий Субботин, познакомившийся с ним в эту пору, вспоминает: «…Он был требователен к себе. Мы иногда дрогли целую ночь в палатке, растянутой прямо на снегу – где-нибудь в овраге, по берегу реки, – а он все-таки писал. И не только заметки и информации, писать которые мы, в конце концов, были обязаны, но и стихи». Затем Лобода вновь служил в артполку.
Всеволод Лобода погиб 18 октября 1944 года в Латвии при прорыве обороны на реке Айвиексте, неподалеку от города Добеле.
В 1966 году вышел сборник стихов В. Лободы «От рядового с берега Ловати».
Дорога
Солдатские дороги,
коричневая грязь.
С трудом волочишь ноги,
на климат разъярясь.
Лицо твое багрово —
холодные ветра
сговаривались снова
буянить до утра.
Набухла плащ-палатка,
лоснится под дождем.
На то ноябрь.
Порядка
от осени не ждем.
Боец, идешь куда ты
и думаешь о ком?
Шрапнельные снаряды
свистят над большаком.
А где же дом, в котором
просох бы да прилег?..
За голым косогором
не блещет огонек.
Тебе шагать далече —
холмов не перечтешь,
лафет сгибает плечи,
а все-таки идешь.
Ведут витые тропы,
лежат пути твои
в траншеи да в окопы,
в сраженья да в бои.
Шофер потушит фары
под вспышками ракет…
На западе
пожарам
конца и края нет.
Кричит земля сырая:
– Спеши, боец, вперед,
оружием карая
того, кто села жжет!
От гнева – дрожь по коже,
соленый пот на лбу;
ногам легко,
и ноши
не чуешь на горбу.
И греет жарче водки
нас воздух фронтовой.
И радостные сводки
рождает подвиг твой.
Солдатские дороги
придут издалека
к домашнему порогу
со славой на века.
1943
Погиб товарищ
Во вражьем стане цели он разведал,
мечтал о встрече с милой над письмом,
читал статью про скорую победу,
И вдруг —
разрыв,
и он упал ничком.
Мы с друга окровавленного сняли
осколком просверленный партбилет,
бумажник,
серебристые медали.
А лейтенанту было
двадцать лет…
Берет перо,
согбен и озабочен,
бумажный демон, писарь полковой.
О самом страшном пишет покороче
привычною, недрогнувшей рукой.
Беду в письмо выплескивая разом,
он говорит:
«Ведь надо понимать,
что никакой прочувствованной фразой
нельзя утешить плачущую мать».
Она в слезах свое утопит горе,
покуда мы,
крещенные огнем,
врага утопим в пенящемся море,
на виселицу Гитлера сведем.
И женщина инстинктом материнским
отыщет сына дальние следы
в Курляндии,
под елью исполинской,
на скате безымянной высоты.
Седая мать увидит изумленно
на зелени могилы дорогой —
венок лугов,
как яркая корона,
возложенный неведомом рукой.
Блеснут в глаза цветы,
еще живые,
от латышей – сынку-сибиряку…
И гордость вспыхнет в сердце
и впервые
перехлестнет горячую тоску.
1944








