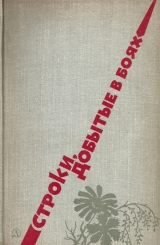
Текст книги "Строки, добытые в боях"
Автор книги: Юлия Друнина
Соавторы: Булат Окуджава,Сергей Наровчатов,Юрий Левитанский,Николай Майоров,Давид Самойлов,Семен Гудзенко,Александр Межиров,Василий Субботин,Константин Ваншенкин,Михаил Дудин
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Возраст
Наедине с самим собой —
Шофер, сидящий за баранкой,
Солдат, склоненный над баландой,
Шахтер, спустившийся в забой.
Когда мы пушки волокли
Позевывающей поземкой,
Команда – разом налегли —
Старалась быть не слишком громкой.
С самим собой наедине,
Я на лафет ложился телом,
Толкал с другими наравне
Металл в чехле заиндевелом.
Когда от Ленинграда в бой
Я уходил через предместье, —
Наедине с самим собой,
И значило – со всеми вместе.
Разговор о Родине
Наша разница в возрасте невелика,
Полдесятка не будет годов.
Но во мне ты недаром узрел старика, —
Я с тобой согласиться готов.
И жестокость наивной твоей правоты
Я тебе не поставлю в вину, —
Потому что действительно старше, чем ты,
На Отечественную войну.
«…Вечером в клуне…» (Г. Занадворов)
Что означает Родину любить?
Во-первых —
Отовсюду к ней тянуться,
Чтобы в конечном счете к ней вернуться, —
Не перервать связующую нить.
А во-вторых —
Так делать, чтобы всем
На ней живущим
Было жить привольно:
Не холодно, не голодно, не больно —
Ну, словом, чтобы жизнь, а не ярем.
И в-третьих —
Надо говорить о ней
Как можно меньше слов, звучащих громко, —
Чтоб не смутить риторикой потомка
И современность выразить верней.
Ну и в последних —
Чтоб в последний бой
Шагнуть, если потребуется это,
Как в то незабываемое лето,
Без разговора
Жертвуя собой.
27 июля 1943 года.
…Вечером в клуне у Л. Тишина. Я смотрю в щель двери. Пасмурно. Темно. Ветви качаются, будто кто-то идет. Шуршат лишь в соломе сзади невидимые совсем Л. и М. Только порой потрескивают контакты и регуляторы. Л. ловит.
Голос его слишком громок для тишины.
– Станций много, но тихо: не разберешь ничего. Вот, вот, сейчас…
Смотрю в щель, думаю, что мы плохие конспираторы. А он особенно.
Предупреждаю.
– Да если кто подслеживать будет, я ему горло перегрызу.
Опять тихо. Вдруг почти крикнул:
– Шш-шш! «…Повернуть это оружие против…» Исчезло. Совсем четко было. Это не немцы. Это наши…
Пора домой. Больше не слышно ничего.
– Дайте хоть шум наш послушаю…
(Из дневника Г. Занадворова, расстрелянного на оккупированной территории полицаями)
Десантники«…В одну из первых же „налетных“ ночей…» (М. Галлай)
Воз
воспоминаний
с места строну…
В городе, голодном и израненном,
Ждали переброски на ту сторону,
Повторяли, как перед экзаменом.
Снова
Повторяли все, что выучили:
Позывные. Явки. Шифры. Коды.
Мы из жизни
беспощадно вычли
Будущие месяцы и годы.
Скоро спросит,
строго спросит Родина
По программе, до сих пор не изданной,
Все, что было выучено, пройдено
В школе жизни,
краткой и неистовой.
Постигали
умных истин уймы,
Присягали
Родине и знамени.
Будем строго мы экзаменуемы, —
Не вернутся многие с экзамена.
…В одну из первых же «налетных» ночей – кстати, с 22 по 31 июля их было семь: немцы прилетали весьма аккуратно – фигура у телефона привлекла мое внимание своей необычной хрупкостью. Невысокий, худощавый, узкоплечий мальчик – именно мальчик – уговаривал кого-то на другом конце провода передать в 177-й полк, что младший лейтенант… Дальше дело не шло, потому что человек на том конце провода никак не мог разобрать фамилии своего собеседника…
Глядя на эту картину, в подумал: неужели такие дети тоже должны воевать?..
Когда мы разговорились с Талалихиным, выяснилось, что хотя по возрасту он действительно очень молод – ему не было и полных двадцати трех лет, – но как воздушный боец имеет все основания смотреть, скажем, на меня сверху вниз. На гимнастерке под комбинезоном у него оказался орден Красной Звезды… Оказалось, что Талалихин и вправду уже успел повоевать…
Разговор был обычный – летчицкий. И ничем особенным он не блистал. Но когда ночью седьмого августа Талалихин, истратив безрезультатно весь боекомплект («маловат калибр пулеметов…»), таранил тяжелый бомбардировщик «Хейнкель-111» – это был первый ночной таран Отечественной войны, – никто из нас как-то не удивился. Такой парень только так и мог поступить, оставшись безоружным перед врагом. И в течение многих лет, когда кто-нибудь при мне говорит о том, что принято называть политико-моральным состоянием воздушного (или любого иного) бойца, перед глазами у меня неизменно возникает невысокий, хрупкий мальчик со спокойными глазами и душой настоящего воина – Виктор Талалихин…
(Из воспоминаний Героя Советского Союза М. Галлая)
Защитник МосквыМузыка
Вышел мальчик из дому
В летний день, в первый зной.
К миру необжитому
Повернулся спиной.
Улыбнулся разлуке,
На платформу шагнул,
К пыльным поручням руки,
Как слепой, протянул.
Невысокого роста
И в кости не широк,
Никакого геройства
Совершить он не смог.
Но с другими со всеми,
Не окрепший еще,
Под тяжелое Время
Он подставил плечо:
Под приклад автомата,
Расщепленный в бою,
Под бревно для наката,
Под Отчизну свою.
Был он тихий и слабый,
Но Москва без него
Ничего не смогла бы,
Но смогла ничего.
«…Во время осады…» (Н. Чуковский)
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка
во всем,
Всем и
для всех —
не по ранжиру!
Осилим… Выстоим… Спасем…
Ах, не до жиру – быть бы живу…
Солдатам головы кружа,
Трехрядка
под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну
струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно,
навзрыд
Одной-единой страсти ради
На полустанке – инвалид
И Шостакович – в Ленинграде.
…Во время осады и голода Ленинград жил напряженно-духовной жизнью… В осажденном Ленинграде удивительно много читали. Читали классиков, читали поэтов; читали в землянках и дотах, читали на батареях и на вмерзших в лед кораблях; охапками брали книги у умирающих библиотекарш и в бесчисленных промерзлых квартирах, лежа, при свете коптилок, читали, читали. И очень много писали стихов. Тут повторялось то, что уже было однажды в девятнадцатом и двадцатом годах, – стихи вдруг приобрели необычайную важность, и писали их даже те, кому в обычное время никогда не приходило в голову предаваться такому занятию. По-видимому, таково уж свойство русского человека: он испытывает особую потребность в стихах во время бедствий – в разрухе, в осаде, в концлагере. Даже разговоры, которые вели между собой эти люди-тени, отличались от обыденных человеческих разговоров; никогда в обыденном существовании не говорят люди столько о жизни и смерти, о родине, о любви, об истории, о совести, об искусстве, о долге, о революции, о нациях, о вечно скованном и вечно рвущемся на волю человеческом роде, сколько говорили любые два ленинградца, случайно оказавшиеся вместе…
(Из воспоминаний Н. Чуковского)
Ладожский ледСаратов
Страшный путь!
На тридцатой,
последней версте
Ничего не сулит хорошего…
Под моими ногами
устало
хрустеть
Ледяное
ломкое
крошево.
Страшный путь!
Ты в блокаду меня ведешь,
Только небо с тобой,
над тобой
высокó
И нет на тебе
никаких одёж:
Гол
как
сокол.
Страшный путь!
Ты на пятой своей версте
Потерял
для меня конец,
И ветер устал
над тобой свистеть,
И устал
грохотать
свинец…
Почему не проходит над Ладогой
мост?!
Нам подошвы
невмочь
ото льда
отрывать.
Сумасшедшие мысли
буравят
мозг:
Почему на льду не растет трава?!
Самый страшный путь
из моих путей!
На двадцатой версте
как я мог идти!
Шли навстречу из города
сотни
детей…
Сотни детей!..
Замерзали в пути…
Одинокие дети
на взорванном льду —
Эту теплую смерть
распознать не могли они сами, —
И смотрели на падающую звезду
Непонимающими глазами.
Мне в атаках не надобно слова
«вперед»,
Под каким бы нам
ни бывать огнем —
У меня в зрачках
черный
ладожский
лед,
Ленинградские дети
лежат
на нем.
Воспоминание о пехоте
В Саратове
Меня не долечили,
Осколок
Из ноги не извлекли —
В потертую шинельку облачили,
На север в эшелоне повезли.
А у меня
Невынутый осколок
Свербит и ноет в стянутой ступне,
И смотрят люди со щербатых полок —
Никак в теплушку не забраться мне.
Военная Россия
Вся в тумане,
Да зарева бесшумные вдали…
Саратовские хмурые крестьяне
В теплушку мне забраться помогли.
На полустанках
Воду приносили
И теплое парное молоко.
Руками многотрудными России
Я был обласкан просто и легко.
Они своих забот не замечали,
Не докучали жалостями мне,
По сыновьям, наверное, скучали,
А возраст мой
Сыновним был
Вполне.
Они порою выразятся
Круто,
Порою скажут
Нежного нежней,
А громких слов не слышно почему-то,
Хоть та дорога длится тридцать дней.
На нарах вместе с ними я качаюсь,
В телятнике на Ладогу качу,
Ни от кого ничем не отличаюсь
И отличаться вовсе не хочу.
Перед костром
В болотной прорве стыну,
Под разговоры долгие дремлю,
Для гати сухостой валю в трясину,
Сухарь делю,
Махоркою дымлю.
Мне б надо биографию дополнить,
В анкету вставить новые слова,
А я хочу допомнить,
Все допомнить,
Покамест жив и память не слаба.
О, этих рук суровое касанье,
Сердца большие, полные любви,
Саратовские хмурые крестьяне,
Товарищи любимые мои!
Медальон
Пули, которые посланы мной,
не возвращаются из полета,
Очереди пулемета
режут под корень траву.
Я сплю,
положив голову
на Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.
Я подымаю веки,
лежу, усталый и заспанный,
Слежу за костром неярким,
ловлю исчезающий зной.
И когда я
поворачиваюсь
с правого бока на спину,
Синявинские болота
хлюпают подо мной.
А когда я встаю
и делаю шаг в атаку,
Ветер боя летит
и свистит у меня в ушах,
И пятится фронт,
и катится гром к рейхстагу,
Когда я делаю
свой
второй
шаг.
И белый флаг
вывешивают
вражеские гарнизоны,
Складывают оружье,
в сторону отходя.
И на мое плечо,
на погон полевой зеленый,
Падают первые капли,
майские капли дождя.
А я все дальше иду,
минуя снарядов разрывы,
Перешагиваю моря
и форсирую реки вброд.
Я на привале в Пильзене
пену сдуваю с пива
И пепел с цигарки стряхиваю
у Бранденбургских ворот.
А весна между тем крепчает,
и хрипнут походные рации,
И, по фронтовым дорогам
денно и нощно пыля,
Я требую у противника
безоговорочной
капитуляции,
Чтобы его знамена
бросить к ногам Кремля.
Но, засыпая в полночь,
Смежив тяжелые веки,
вижу, как наяву:
я вдруг вспоминаю что-то.
Я сплю,
положив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.
Плыл плавный дождь
…И был мне выдан медальон пластмассовый,
Его хранить велели на груди,
Сказали: – Из кармана не выбрасывай,
А то… не будем уточнять… иди!
Гудериан гудел под самой Тулою.
От смерти не был я заговорен,
Но все же разминулся с пулей-дурою
И вспомнил как-то раз про медальон.
Мою шинель походы разлохматили,
Прожгли костры пылающих руин.
А в медальоне спрятан адрес матери:
Лебяжий переулок, дом 1.
Я у комбата разрешенье выпросил
И, вдалеке от городов и сел,
Свой медальон в траву густую выбросил
И до Берлина невредим дошел.
И мне приснилось, что мальчишки смелые,
Играя утром от села вдали,
В яру орехи собирая спелые,
Мой медальон пластмассовый нашли.
Они еще за жизнь свою короткую
Со смертью не встречались наяву,
И, странною встревожены находкою,
Присели, опечалясь, на траву.
А я живу и на судьбу не сетую,
Дышу и жизни радуюсь живой, —
Хоть медальон и был моей анкетою,
Но без него я долг исполнил свой.
И, гордо вскинув голову кудрявую,
Помилованный пулями в бою,
Без медальона, с безымянной славою
Иду по жизни. Плачу и пою.
«…Десятого мая вечером…» (К. Симонов)
Плыл плавный дождь. Совсем такой, как тот,
Когда в траве, размокшей и примятой,
Я полз впервые по полю на дот,
Чтоб в амбразуру запустить гранатой,
И был одной лишь мыслью поглощен —
Чтоб туча вдруг с пути не своротила,
Чтобы луна меня не осветила…
Об этом думал… Больше ни о чем.
Плыл плавный дождь. Совсем такой, как тот,
Который поле темнотой наполнил,
Который спас ползущего на дот.
Плыл плавный дождь. И я его припомнил.
Плыл плавный дождь. Висела тишина.
Тяжелая, угрюмая погода.
Плыла над полем черная весна
Блокадного истерзанного года…
И вот сегодня снова дождь плывет,
До каждой капли памятный солдату,
И я, гуляя, вдруг набрел на дот,
Который сам же подрывал когда-то.
Окраина Урицка. Тишь. Покой.
Все так же стебли трав дождем примяты.
Я трогаю дрожащею рукой
Осколок ржавый от моей гранаты.
И вспоминаю о дожде густом,
О первом доте, пламенем объятом,
О ремесле суровом и простом…
……………
Плыл плавный дождь.
В июне.
В сорок пятом…
…Десятого мая вечером по дороге через Судеты на Прагу, которую уже освободили армии Конева, останавливаемся перед разрушенным мостом. Ехать надо три километра в объезд лесной дорогой. Но перед мостом скопился уже десяток легковых машин, и никто не едет в объезд, потому что недавно там проехала какая-то машина и по ней выстрелили и кого-то не то убили, не то ранили бродящие по лесу и еще не знающие о капитуляции немцы. Война кончилась, и никому не хочется рисковать, хотя еще два-три дня назад никто из толпящихся здесь у моста офицеров или шоферов даже и не подумал бы считаться с таким ерундовым риском. Мы тоже топчемся, как и все, у моста, в ожидании какого-то бронетранспортера, который откуда-то вызвали. Потом мой спутник, вдруг озлившись на это ожидание, на себя, на меня и на все на свете, говорит мне: «Не будем ждать, поедем». Я жмусь и ничего не могу с собой поделать. Мысль об этих чертовых немцах, которые могут сейчас, после войны, стрельнуть по мне оттуда, из леса, угнетает меня. Мой спутник кипятится, и мое положение в конце концов становится стыдным. Мы садимся в машину и выезжаем на эту лесную дорогу. Другие машины сейчас же вытягиваются в колонну вслед за нами…
В лесу тихо, и мы, не выдержав напряжения, сами начинаем стрелять по лесу из автоматов из несущейся полным ходом машины. Проскочив лес, мы так и не можем дать себе отчета – стреляли там в лесу немцы или нет. Мы слышали только собственную отчаянную, испуганную трескотню автоматов. Нам стыдно друг друга, и мы молчим. Мы уже не можем вернуться к тому состоянию войны, в котором, конечно боясь смерти, в то же время саму возможность ее мы считали естественной и даже подразумевающейся. И мы еще не можем без чувства стыда перед самими собой вернуться к тому естественному человеческому состоянию, в котором сама возможность насильственной смерти кажется чем-то неестественным и ужасным…
(Из дневников К. Симонова)
«После боя в замершем Берлине…»«Человек живет на белом свете…»
После боя в замершем Берлине,
В тишине почти что гробовой
Подорвался на пехотной мине
Русский пехотинец-рядовой.
Я припомнил все свои походы,
Все мои мытарства на войне,
И впервые за четыре года
Почему-то стало страшно мне.
Коммунисты, вперед!
Человек живет на белом свете.
Где – не знаю. Суть совсем не в том.
Я лежу в пристрелянном кювете.
Он с мороза входит в теплый дом.
Человек живет на белом свете,
Он в квартиру поднялся уже.
Я лежу в пристрелянном кювете
На перебомбленном рубеже.
Человек живет на белом свете.
Он в квартире зажигает свет,
Я лежу в пристрелянном кювете,
Я вмерзаю в ледяной кювет.
Снег не тает. Губы, щеки, веки
Он засыпал. И велит дрожать…
С думой о далеком человеке
Легче до атаки мне лежать.
А потом подняться, разогнуться,
От кювета тело оторвать,
На ледовом поле не споткнуться
И пойти в атаку —
Воевать.
Я лежу в пристрелянном кювете.
Снег седой щетиной на скуле.
Где-то человек живет на свете —
На моей красавице земле!
Знаю, знаю – распрямлюсь да встану,
Да чрез гробовую полосу
К вражьему ощеренному стану
Смертную прохладу понесу.
Я лежу в пристрелянном кювете.
Я к земле сквозь тусклый лед приник…
Человек живет на белом свете —
Мой далекий отсвет! Мой двойник!
Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.
Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих нор
Не нашел
Всё равно.
Год двадцатый,
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб, —
И не встать под огнем у шестого кола.
Полк
Шинели
На проволоку побросал,
Но стучит над шинельным сукном пулемет,
И тогда
еле слышно
сказал
комиссар:
– Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Есть в военном приказе
Такие слова!
Но они не подвластны
Уставам войны.
Есть —
Превыше устава —
Такие права,
Что не всем
Получившим оружье
Даны…
Сосчитали штандарты побитых держав,
Тыщи тысяч плотин
Возвели на реках.
Целину подымали,
Штурвалы зажав
В заскорузлых
Тяжелых
Рабочих
Руках.
И пробило однажды плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли головные бригады
Ко дну,
Под волну,
На морозной заре,
В декабре.
И когда не хватало
«…Предложенных мер…»
И шкафы с чертежами грузили на плот,
Еле слышно
сказал
молодой инженер:
– Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин
в синеву, —
И не встать под огнем у шестого кола.
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях
Закопанных в пашни КВ
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда
еле слышно
сказал
командир:
– Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка…
Под февральскими тучами
Ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля…
Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
Сквозь века
на века,
навсегда,
до конца:
– Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Булат Окуджава
Булат Шалвович Окуджава родился в 1924 году в Москве в семье партийного работника. Не окончив среднюю школу, после девятого класса, в 1942 году ушел добровольцем на фронт. Был минометчиком. Участвовал в обороне Крыма. Был тяжело ранен. В 1950 году окончил филологический факультет Тбилисского университета, затем в течение пяти лет работал учителем в одной из сельских школ Калужской области. Писать начал после войны. Первая книга «Лирика» вышла в 1956 году в Калуге.
РодинаДо свидания, мальчики…
Говоришь ты мне слово покоя.
Говоришь ты мне слово любви.
Говоришь ты мне слово такое,
восхищенное слово «Живи!».
Я тобою в мучениях нажит,
в долгих странствиях каждого дня.
Значит, нужен тебе я и важен,
если ты позвала вдруг меня.
Говоришь ты мне долгие сроки.
Говоришь ты мне слово «Твори!».
Мои руки – они твои слуги,
не мои они слуги – твои.
И твое меня греет дыханье.
Значит, с празднествами и бедой,
с мелочами моими, с грехами
я единственный, праведный, твой.
Значит, люб я тебе хоть немного,
если, горечь разлуки клубя,
говоришь ты мне слово «Тревога!»,
отрываешь меня от себя.
И наутро встаю я и снова
отправляюсь в решительный бой…
Остается последнее слово.
Оставляю его за собой.
«…Женя Руднева спокойно улыбнулась…» (Н. Кравцова)
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли.
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли – за солдатом солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите…
Но все-таки
Постарайтесь вернуться назад!
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься! —
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом!
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…
До свидания, девочки!
Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!
…Женя Руднева спокойно улыбнулась мне и села. Тонкая шея в широком вырезе гимнастерки. Строгий взгляд серо-голубых глаз. Тугая светлая коса.
Слегка нагнув голову и глядя на себя искоса в зеркало, Женя стала неторопливо расплетать толстую косу. Она делала это с таким серьезным выражением лица и так сосредоточенно, будто от того, насколько тщательно расплетет она косу, зависело все ее будущее. Наконец она тряхнула головой, и по плечам ее рассыпались золотистые волосы.
Неужели они упадут сейчас на пол, эти чудесные волосы?
Мастер, поглядывая на Женю, молча выдвигал и задвигал ящики, долго и с шумом ворошил там что-то, перекладывал с места на место гребенки, щетки. Потом выпрямился и вздохнул.
– Стричь? – спросил он негромко, словно надеялся, что Женя встанет и скажет: «Нет-нет, что вы! Ни в коем случае!»
Но Женя только удивленно подняла глаза и утвердительно кивнула. Он сразу нахмурился и сердито проворчал:
– Тут и так тесно, а вы столпились. Работать мешаете!
Я отступила на шаг, и вместе со мной отошли к стене другие девушки, ожидавшие своей очереди.
И снова защелкали ножницы – неумолимо, решительно. Даже слишком решительно…
Нет, я не могла смотреть. Повернувшись, я направилась к выходу. Справа и слева от меня неслышно, как снег, падали кольца и пряди, темные и светлые. Весь пол был покрыт ими. И мягко ступали сапоги по этому ковру из девичьих волос.
Кто-то втихомолку плакал за дверью. Не всем хотелось расставаться с косами, но приказ есть приказ. Да и зачем солдату косы?..
(Из воспоминаний Героя Советского Союза Н. Кравцовой)








