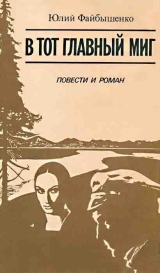
Текст книги "В тот главный миг"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
ЛЕПЕХИН
Сердце разрывалось, грудь ходила ходуном, но он лез в гору, не давая себе ни секунды продыху. Надо было уйти, изготовиться и встретить погоню так, чтобы отбить охоту преследовать Лепехина. Свою истинную фамилию он забыл давно, с сорок второго года, когда вступил в антипартизанскую бригаду. У немцев он был унтер-офицером Лоскутовым, а та фамилия, под которой он родился, вырос в небольшом городке, почти стерлась в его памяти, потому что человек, носивший ее, был совсем другой. А настоящий окончательно появился в эту войну, во время плена. Хотя жил, конечно, в этом парне всегда. Но кто знает, если б не сорок первый год, кем бы он стал? Может, и прожил бы благополучно, как большинство других, выбился бы в люди, заслужил уважение и почет... Но. жизнь по-другому крутила, И он стал Лепехиным. И не жалеет. Хотя, жалей не жалей, толку чуть. Нет возврата.
Лепехин ворвался в гущу стланика и рухнул на траву. Теперь надо было перевязать руку и подкопить силенок. Он распахнул пиджак, расстегнул гимнастерку, нащупал под ней майку и рванул ее. Треснула материя. Он вырвал большой лоскут, достал из-за голенища нож, располосовал рукав пиджака и, помогая зубами, крепко стянул лоскутом раненую руку. Слабость все еще кружила голову. Лепехин лежал на холодной траве, слушал тишину и вяло обдирал с лица мошку. Проклятая тайга! От одного гнуса можно с ума сойти. Думал, что делать дальше. Надо идти к границе. Но и те могли двинуться туда же, потому что знали его прежние планы. Могут они и пойти на юг, к жилью, потому что на базу им уже не вернуться – не хватит продуктов. Но сначала с ним расквитаются. Они все его ненавидят. И Колесников, и Чалдон, и Нерубайлов. Искать будут. Особенно эти трое. Колесников – стоящий офицер, он это доказал, организовав сегодняшнюю атаку. Чалдон – солдат и таежник. Нерубайлов – старый солдат, так что враги у него такие, что можно их ждать в любую секунду. К тому же Порхов может подстрекнуть. Порхов трусоват, а у страха глаза велики. Поэтому он испугается, что Лепехин их живыми не оставит. Да он бы так и сделал, не будь ранения. Перещелкал бы, как бекасов.
Унтер-офицера русской освободительной армии Лепехина недаром обучали немецкие офицеры из егерских частей. Да что немцы, он сам соображать мог и без них приобрел известность своей неутомимой жестокостью. Тридцать красных партизан гниют теперь а земле от его пули или финки. Он бы показал этой большевистской сволотени, и бабу эту он так бы не выпустил... Рука. Чалдонская собака, пульнул наугад, а попал. Сибирячок... Ладно. Попадись ты мне сейчас, я из тебя потроха вытряхну.
Он встал, поднял и повесил на плечо карабин, ощупал карманы, в них бренчали патроны, в пиджаке – остатки лепешек, бутылка спирта. Он зашагал не вверх, а низом. Надо было держаться реки. Уже сейчас горло сушила жажда, а идти больше недели. Река доведет почти до границы.
Сейчас ему надо вызнать одно: есть ли погоня. Если нет, надо идти и идти. Опередить их... Молодцы они с Хорем были, когда с первых дней вывели из строя рацию. Теперь и те с их лошадьми, и он с раненой рукой в одинаковых условиях. Лошадь по звериным тропам идет медленнее человека. По пути надо убить кабаргу или изюбра, разделать, запастись мясом. Но главное – вода. Где вода– там и рыба. Лепехин не пропадет, братцы-большевички, рано вы радовались. Понятно, что Хоря шлепнули, он в воровском деле был мастер, а здесь нужна солдатская работа. Зато бывший унтер Лоскутов мало кому уступит... А что рука – ничего, он и с одной стрелять умеет. Одно только – перезарядка оружия времени требует. Но все равно выкрутится.
Он ободрял себя, но чувствовал, что слабеет. И мысли его стали менять направление. Во всем война виновата. Разве он так уж рвался к немцам или хотел воевать против Советов? Ну, батя у него был конторщик у купца Соломина, ну прижали купца после нэпа, ну батяня поначалу лишился работы, так потом он ее получил и не хуже прежней. И сам он работал рабочим на бойне и в ус не дул. Лепехин вспомнил, как они выходили вечером в пятницу, в конце рабочей пятидневки, три дружка, народ здоровенный, хмельной от кровавой своей работы и от самогона, шли – в красных рубахах, стянутых наборными ремешками, с пиджаками на одном плече, с чубами из-под картузов. Он – Валька Басков с гитарой на перевязи, Кирюха Клейменов с гармонью на груди, а Толька Савченко бил чечетку прямо на мостовой, и на булыжнике тонко позванивали подковки его сапог. А вверху, на спадавшей вниз к центру улице, застроенной частными, нередко в два этажа, домами, где жили торговцы и бывшие мелкие чиновники, на самом взгорье лучилась в закате голубая колокольня. Вдоль заборов на скамьях посиживали старики и бабки, стояли подростки, и все смотрели, как Басков с приятелями шел гулять в общежитие текстильной фабрики к веселым подружкам, недавно только приехавшим из деревни и пустившимся в городе во все тяжкие...
Конечно, пьяненький папаша ворчал тогда на большевиков. Говорил, что жизнь пошла неправильная и нельзя человеку размахнуться в ней, потому что запрет на инициативе. Но им, молодым, до того ли было? Весь день укладывали одним ударом кувалды на бойне бычков, перерезали шеи мычавшим и бившимся животным. Хмелели от запаха крови и выходили за ограду, полные здоровой и пьяной силы, жаждущие драки и веселья. И что бы там ни трепал папаша, к ним это не приставало. Потому что в самом конце улицы, в бывших конюшнях полицейской части было теперь общежитие, и там ждали их такие же хмельные, яростные и грудастые подруги.
В тридцать восьмом Валентина и двух дружков посадили за драку; покалечили соперника-текстильщика, который пытался ухаживать за их девчонками. Но на канале Басков вкалывал так, что произведен был в передовики, а затем через полтора года выпущен. Особой обиды и тогда не осталось. В тридцать девятом был призван в армию, и за два года перед войной стал неплохим сержантом. Но пришла война, и тогда-то все решилось: бывший советский гражданин Валентин Семенович Басков стал унтером РОА Лоскутовым Петром Семеновичем.
...Ночь загустела. Погони пока не было слышно. Лепехин огляделся. Надо было располагаться на ночлег. Костер разводить нельзя. Но мошка жрала его со свирепой силой, становилось все холоднее, от потери крови он мерз сильнее, чем раньше, неудержимо хотелось тепла. Пожалуй, можно костер развести по-партизански, сделать его маленьким и незаметным.
Он стал надрезать и обдирать кору с ближайших лиственниц. От коры дыма не бывает. Если вырыть углубление в земле или найти какую-нибудь зверюжью нору, то огня не будет видно совсем. Можно и отогреться, можно и отогнать огнем мошку. Немного оживет, потом и спать. Для этого тоже надо место выбрать как следует. Тогда наутро он будет в норме. А когда он в норме, давай подходи, кто ты там есть: Нерубайлов, Колесников, Чалдон, кто хошь. Он встретит. Как в сорок третьем встречал партизан знаменитого Гаврикова. Мало осталось таких, которые об этом могли рассказать, может, только те два немца из «Абвера», что были прикреплены к их бригаде. Такие были ловкие, прилизанные баре...
В углублении, которое он выкопал ножом, уже потрескивала кора. Хотелось бы чайку, но не в чем сварить, да и заварки не успел прихватить впопыхах, когда удирал.
Удирать ему приходилось не раз, и в сорок первом особо. Тогда немцы прижали их сразу. Самое страшное было – их авиация. Как она появлялась, тут начиналось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Немецкие самолеты настигли их в первый раз на марше у Пинска. Сверху , сразу свалились черные птицы, от одного воя которых обозные и артиллерийские лошади кинулись кто куда. Стоптали капитана – их командира батареи, когда тот кинулся наводить порядок. Потом пошли бомбы. Он, сержант Басков, старослужащий, рухнул в болото и забыл о своем взводе и обо всем на свете. Потом, когда юнкерсы улетели, он вылез на дорогу, очищаясь от липкой грязной тины, посмотрел на своих солдат – они выглядели не лучше, смущенно,пересмеивались.
Недалеко от Молодечно вырыли они жидкие окопчики. На них поперли танки. Это страшно, когда танк прет прямо на тебя. Пушка палит, пулемет трещит, окоп осыпается, а танк пыхтит прямо над тобой. Такое немыслимо выдержать человеку. Некоторые, правда, выдерживали. С соседнего окопа, где сидели старослужащие пулеметчики, танк сполз, а они опять пулемет на бруствер и по немецкой пехоте. Танк вернулся и еще раз на окопчике покрутился. Там только мокрое место осталось. Но Валька Басков не рожден был так умирать. Как только танк с их окопчика сполз, он встряхнулся, огляделся, сказал:
– Кончай воевать, ребята.
Один было выставил винтовку на бруствер, но он это пресек. Вывесил белый платок на штыке. А немцы уже орали:
– Ком, ком, русс!
Они и вышли, бросив винтовки. Сержант тогда объяснил подчиненным: «У нас против немцев кишка тонка». Но ребята брели рядом чумазые, бледные и почти его не слушали. Так, небось, и сгинули где-нибудь в лагерях. Туда им и дорога. Валька Басков за здорово живешь и за всякие там красивые слова помирать не хотел: Родина там, коммунизм, это для дураков. Он жить хотел и жить по-человечески. И раз там, наверху, мозги у них не сварили, что немец вдарит, то он за это не ответчик. Но совсем потрясла Баскова немецкая батарея в двадцати шагах у обочины. Командовал ею офицер в сером парадном мундире с белыми манжетами на обшлагах, в сверкающих сапогах. Артиллеристы работали, как машины. Вот тогда Басков и потерял голову. Воюют в белых манжетах. Европа! Не-ет, это настоящие хозяева. Теперь, вспоминая тот случай, он понимал, что гауптман в Молодечно перебрал, был, видно, у женщины, и приказ на выступление сорвал его с места в неподходящем для боя парадном виде. Но так он мог думать только теперь, когда война легла позади, когда хорошо узнал немцев и их порядки. А в сорок первом и помыслить не мог о случайности виденного. Тогда он уверовал: на деревенскую его Расею шла культурная Европа, а она все умела делать культурно, даже воевать в белых манжетах.
Посидев три месяца в лагере для пленных под Бобруйском, поголодав и похолодав, понял Валька Басков: не для него такая жизнь, и смерть такая не для него. За что он должен тут подыхать? За что? За Советы? А на кой они ему, эти Советы, комиссары и прочее? Да и много ли от всего этого останется через два месяца? Немцы вон к Москве уже прут. Кто их остановит? Утром на перекличке в лагере он подошел к немецкому майору-коменданту и сказал, что согласен помогать Германии в ее борьбе с большевиками. Тогда, конечно, он не знал, на что шел. Но это дело десятое. Он просто влюблен был тогда в немецкий порядок и щегольство, хотелось как-то по-бабьи прислониться к этой могучей и четкой силе.
...Лепехин подбросил в огонь коры. Костер грел и почти не давал дыма. Прислушался. Было тихо. Может, и не будет погони? Эти ведь тоже устали, плюнули на него: мол, сам подохнет... Лепехин за войну научился быть готовым к любым неожиданностям. Он поел. Спустившись к реке, напился. Потом потянулся к бутылке. Чистый спирт ожег желудок, но через минуту внутри все улеглось, и он почувствовал прилив сил. Заткнул бутылку скрученной бумагой, вылез на склон гольда, срезал себе рогатину, поглядел вниз на костер. Пламя было все-таки чуть видно. Но только вблизи. Он выругался!. Надо было ямку выкопать поглубже. Да, ладно, перед сном все равно придется потушить.
Лепехин вернулся, сел у огня, окончательно отстругал рогатину и заострил ее нижний конец. Тот, кто увидит костер, сам теперь попадет в ловушку. Единственно, что надо придумать, это как приспособиться быстро выбрасывать гильзу... Тут и ноги помогут, сжимаешь ногами ствол, дергаешь затвор. На все это тратится секунда-другая. Конечно, потеря времени большая. Но ничего! Первая пуля Колесникову! Или Чалдону. Уж больно меток, гад, сибирячок... Ладно, первая пуля тому, кто вылезет первый..У партизан первым нередко ходил командир, а в разведке – почти всегда командир.
Ловко немцы их запрягли тогда в партизанские дела. Ребята у них в антипартизанской бригаде РОА были разные. Некоторые ненадежные. В лагерях было голодно. Чтобы не подохнуть, пошли служить немцам. Однако служили через силу, с жителями цацкались, а на войне с партизанами такого никак нельзя позволять. Но немцы были не дураки, не-ет не дураки: первый же приказ, который был ими отдан, все поставил на место. Кто участвовал в выполнении задания, тот уже к большевикам перебежать не мог.
Он установил карабин в рогатине. Теперь надо было оглядеть место битвы, если она произойдет. Он осмотрелся. Было темно, но в черном небе зеленым льдом попыхивали звезды, и луна растягивала паутину серебряного света между деревьями. Если сесть спиной вон туда, прижавшись к комлю лиственницы, то сзади к нему никак не подобраться. Пологая полянка перед ним вся, как на ладони. Откуда бы ни пришли за ним – с гольца или от реки, он их увидит. Так и порешим. Лепехин хотел было загасить костер, потом подумал: «А чего таиться? Пусть видят. Он дает бой большевичкам проклятым!»
Лепехин встал и, вслушиваясь в ночной шорох тайги, пошел надрать еще коры для костра, чтобы горел ярче. Их командир генерал Ламсдорф всегда говорил: «Надо попытаться обмануть. Обман на войне – это доказательство ума, а не трусости». Вот мы и встретим красных соколов по-генеральски. Он резал ножом лиственничную кору, с хрустом обдирал ее, а сам все прислушивался. Тайга была полна шорохами и гудом. Где-то пронзительно крикнул филин. Лепехина пробрала дрожь. До чего он не любил эту птицу! Она и там, в партизанских лесах, портила им кровь.
Воевать было тяжело. Партизанам помогал народ по деревням. А ведь те тоже были не сахар. Бывало, последние продукты брали и стреляли по одному подозрению, а все-таки – «свои». Это всех власовцев раздражало. Они-то что, не русские? Особенно обижало, что ошибались в тех, кто непременно должен был помогать им. Считали, те, кто обижен Советами,– за них, бывший – них, кулак – конечное дело, кто в тюряге сидел,– тоже, попы и все, кто за церковь и бога,– опять же за них, потому как их большевики теснили! А на деле все шло кувырком. Попы помогали партизанам, а не власовцам. Назначили бывшего кулака старостой в деревне, дали ему секретный пароль, а он, скотобаза, оказался партизанским лазутчиком. А мужик был действительно раскулаченный. И должен был на Советскую власть зуб иметь, с большевиками бороться. Очень обидел тогда этот мужик унтера Лоскутова, и он его, ясное дело, повесил, а обида осталась: они же для «бывших» стараются, а свиньи эти красным помогают...
К сорок третьему Валька Басков, ныне унтер Лоскутов, вешал, стрелял и не знал укороту. От немцев железный крест получил. Жизнь была пьяная и разгульная...
Прошло время. Немцы стали нервничать. Как-то отставший от своих Лоскутов спрятался в кустах и увидел, как идет русский батальон. Такие же, как в сорок первом, курносые лейтенанты со сбитыми на ухо фуражками, не слишком вымуштрованные солдаты. Но вот где-то ухнул взрыв, и в секунду развернулись цепи, упали за пулеметы номера, раскинулась минометная батарея, сигнал – и все это ударило, заревело, понеслось к лесу, и минут через пятнадцать погнали назад по дорогам пропыленные молоденькие автоматчики длинную колонну немецких пленных.
Вот тебе и Расея беспорточная! Вот когда взвыл унтер Лоскутов! Не на тех поставил! Не на тех! Распромать твою, Европа! Прикупила Вальку Баскова немчура проклятая! Затянула в кровь, как выныривать?
Надо срочно было сматывать удочки, менять биографию, добывать чистые документы. Пришлось воспользоваться немецкими врачами. Немало он перетаскал им и деревенского масла, и награбленных мехов. Когда в сорок пятом его взяли в Прибалтике, он был рядовой власовский санитар Копалкин Петр Семенович, таким он и остался в лагере, а в побеге по добытой Хорем «ксиве» стал Лепехиным.
Хоря уже нет, а Лепехин остался.
«Что ж,– подумал Лепехин,– кажись, твое время пришло, Басков».
Он попытался было двинуть раненой рукой, но она висела плетью, растеребил только... Ладно. Уложил карабин в рогатину, уселся спиной к лиственнице и весь обратился в слух. Потом попробовал, как идет карабин вбок. Шел, как на штативе, хорошо. Значит, он их встретит, как только сунутся к костру. Рука болела, потом напряжение сменилось внезапной дремой. Стал щипать себя здоровой рукой, положив приклад на колено, но дрема и слабость наползали. Он испугался, испарина покрыла лоб, его знобило мелкой дрожью: куда пропала его сила – тело не слушалось. И в этот миг где-то неподалеку хрустнул сук. Сон мгновенно пропал. Он сидел собранный и злобный, как когда-то в окопе за пулеметом, ожидая атаки красных. Вытянул из голенища и взял в зубы нож: пригодится!
ЧАЛДОН
Он шел, зорко вглядываясь в темно-зеленые низкорослые косяки кедрового стланика. Его вел точный расчет и охотничий азарт, тяжелая и так долго таившаяся под внешней невозмутимостью ненависть теперь вырвалась наружу. Чалдон знал, что Лепехин – зверь опасный, пострашнее шатуна или волка, но охотник рано или поздно выйдет на зверя.
Сумерки были ему на руку. Лепехин не таежник. Он обязательно разведет костер. Чалдон ходил в партиях и на порубку леса еще до войны. Рядом всегда оказывались приезжие с запада. Они боялись тайги. Без костерка, особо поначалу, никак не могли обойтись. Сибиряк тоже знал цену теплу и огню, тянулся к нему, как к родному.
Чалдон знал, что Лепехин хитер и смел. Значит, от реки не уйдет. Река в тайге и поилица и кормилица. Это раз. Второе. Куда еще мог Лепехин податься? Только туда, куда и собирался о самого начала,– к границе. Тайги он не знает, без дороги тут никуда не выбраться, а к границе путь уже намечен, по карте они с Хорем не раз смотрели, да и Алеху-возчика расспрашивали, как туда пройти. Другое дело, что выйдет он к границе не обязательно там, где собирался. Но как ни крути, а с недельку ему переть по реке, тут-то и прижмет его охотник. Дороги их обязательно скрестятся. К власовцам у Чалдона свой особый счет, за Епиху Казанцева и весь лыжный батальон. Для Чалдона упустить власовца – это на всю жизнь стыдоба. В его роду народ гордый, и так ведется, чтоб позора за своими не было. Роду этому уже триста лет, от казаков, почти что от Ермака, у Чалдона нитка вьется, и он эту нить ни запутать, ни опозорить не позволит.
Село их старое, кондовое. У дедов в сундуках спрятаны рукописные книги, аж с тех пор, когда Иван Грозный царствовал. Дома рублены дедами да прадедами из почернелого от времени железного листвяка. Русские свое помнят, но и врагам ничего не забывают. Особенно таким, как Лепехин, который немцам продался, над людьми изголялся. Как вспомнит Чалдон про завхоза или про Саньку, так все в душе костенеет. Не будет тебе, Лепехин, пощады! И за Епиху Казанцева тоже расквитаться самая пора.
Раздался треск. Чалдон вздрогнул, остановился, влип спиной в лиственницу, вскинул карабин. Шагах в десяти, раскинутые чьим-то движением, отлетели лапы стланика, и тяжелая туша, плохо различимая во тьме, вылезла на поляну. Чалдон удержал себя от выстрела. Медведь втянул в ноздри воздух и замер, подняв переднюю недонесенную до упора ногу. Он был сейчас похож на огромную собаку, почуявшую зверя. Глаза его сверкнули во тьме и нашли Чалдона. Секунду они молча глядели друг на друга – зверь и человек, словно спрашивая, что же будет, потом зверь попятился и, не спуская с Чалдона глаз, опять скрылся в стланике, только качнулись лапы кустарника. Чалдон вздохнул и вытер пот со лба. Как ни говори, а встреча эта была ему сейчас ни к чему. А если бы это был шатун? Пришлось бы бить в упор. И себя обнаружить. Попробуй тогда найди Лепехина!
Сколько раз они с Епихой в молодые времена встречались вот так со зверем! Но тогда они сами искали таких встреч, и кончались они добычей и радостью, потому что за них была молодость и опыт, перешедший от отцов и дедов. Раз только чуть не погиб Епиха, но то было не от медведя, а от волка.
Волк – зверь сильный и умный, а боится глупого флажка. Чалдон знает, что есть и такие люди, которые не самой опасности боятся, что ждет их с ружьем в засаде, а такого вот обложного флажка, за которым ничего нет, и выставлен-то он с расчетом на испуг, на нервность противника.
Вот так немцы в сорок втором на испуг взяли их командира дивизии, и он бросил без помощи совершивший прорыв отборный лыжный батальон, где служил Епиха и куда собирался после госпиталя контуженный Чалдон. Вот как это было. Прорвали немецкую оборону. Лыжники двинулись и исчезли в белой мгле. Но в тот же миг сообщили, что немцы атакуют танками левый фланг дивизии. Приказано было отменить движение резервов к прорыву, и батальон за батальоном потянулись на левый фланг. Патом узнали, что танков было всего три, атаковали немцы силами двух рот, и эти роты наши положили у проволоки и выморозили их к утру до последнего. Но пока все это происходило на левом, на правом фланге немцы заткнули свежими частями дыру прорыва, и лыжный батальон остался в захваченной им деревушке в шести километрах за линией фронта, ожидая подхода товарищей.
Плакали каленые сибиряки, слыша, как гремит невдалеке за немецкими окопами стрельба. Комбаты и комроты приходили в штабы со своими планами помощи лыжникам. Солдаты целыми делегациями настигали комдива. Но только через сутки было решено прорвать фронт. Оставляя трупы на проволоке, снова и снова атаковали сибиряки. Но не было внезапности в их действиях, а без нее и успеха. А за линией немецкого фронта рвалось и гремело ещё трое суток. Сражался и умирал лыжный батальон – краса и гордость сибирской дивизии. Когда же прорвались и взяли село, где дрались лыжники, жители привели солдат к сожженному сараю: там были одни обгорелые кости: немцы сожгли раненых, человек двадцать.
Старуха в огромных худых калошах нагнала одного сержанта:
– Соколик, записку мне давеча, как их похватали, чернявый один сунул, отдай, говорит, мать, как наши придут.
А писал его друг Епифан Казанцев:
«Ребята, у нас нет ни гранат, ни патронов. Не сдаемся, но тут все ляжем. Отомстите за нас выродкам. Деремся мы не с фрицами, а с власовцами, и они, подлые души, кричат нам по-русски: сдавайтесь, чалдонские валенки! Не откажите, ребята, расплатиться за нас. Уж больно тяжко от падали этой русскую речь слышать»...
Вот тогда и начался у Васьки Косых свой счет к власовцам, и вел он его всю войну. После выхода из госпиталя пошел в разведку. Народ там был веселый. Как раз в те поры дела у них были швах. Не приводили «языков». Вернее, не доводили. Резали. Начальство грозило карами. Но с месяц ничего сделать не могло. После, когда угнали в штрафбат капитана, командира батальона дивизионной разведки, ребята пошли к комдиву, выпросили, чтоб капитана вернули, привели двух «языков».
А история эта вся началась из-за сожжения раненых лыжников. Очень хотелось расплатиться. В разведке и ждала Василия его беда. В марте сорок второго они впятером ушли за «языком». Но вместо этого попали у проволоки в ловушку. Пошли на голос, а немцы нарочно вслух разговаривали. Вместо боевого охранения нарвались на целый взвод эсэсовцев. Резались у кольев ножами. Ваське вмазали между глаз прикладом, очнулся в блиндаже. Допрашивали его строго. Переводил русский, переводил и все сочувствовал: «До чего ж дурной ты парень. Отвечай, иначе плохо будет». Чалдон молчал. Его избили, но не до смерти, а потом попал в лагерь.
Лагерь этот на Смоленщине был самое страшное и подлое место, которое видел Василий за всю свою жизнь. За проволокой кучились в дырявых бараках тысяч десять наших солдат. Иногда их выгоняли на работу, иногда вообще не трогали. Это было, пожалуй, страшнее. От голода, от разных мыслей безделье убивало скорее, чем самый каторжный труд. Кормили немцы пленных так: утром и в обед солдаты из-за проволоки кидали в толпу брюкву и буханки непропеченного хлеба. За ними бросались ордой, рвали из рук, отталкивая друг друга. Глядя на голодных, солдаты даже не смеялись, смотрели, лениво переговариваясь, и отходили.
Сначала Чалдон решил вообще не есть. Не мог он стерпеть лютого этого унижения. Само русское имя было втоптано в грязь. Он уползал в глубь захламленного барака, ложился там и закрывал глаза. Но товарищи нашлись и там. Подошел к нему как-то курносый парень, сунул кусок хлеба.
– Умирать собрался? – спросил он, перекатывая желваки под мутной кожей щек.– А мстить кто будет?
Ненависть дала силу. Теперь оба кидались вместе с толпой за брюквой и хлебом, ели только часть, другую – откладывали. Готовились к побегу.
Как-то вывели их на работу – ремонтировать дорогу. По дороге непрерывно шли обозы и грузовики, охрана зазевалась. Бежали незаметно. Сначала отползли в поле. Неубранная гречиха прикрыла их, а потом на коленях, ползком, бегом ударились в ближний лес. Добрались до него только через час. Охрана потому и прозевала их, что лес был километрах в трех, а гречиха в поле низкорослая – не спрячешься. Однако им повезло.
На фронте Чалдон был ранен два раза. Второй – в Польше. Взяли Люблин, дивизия прошла по его улицам, и цветы, приветственные крики людей, улыбки женщин всех ослепили. Однако на следующий же день пришли сообщения другого свойства: в не большом городке под Люблином была перестрелка, убит лейтенант из их дивизии и двое ранено. Вот тогда-то и подзалетел Чалдон. Он с двумя ребятами из разведвзвода должен был выяснить, укрепились ли немцы в небольшом фольварке. Фольварк был каменный, со стеной, похожий на старый замок. Когда подползли, немцы их встретили точными пулеметными очередями. Чалдона ранило в ногу. Ребята пытались его утащить из-под огня, и как он их ни молил, все волокли его по жидкому ноябрьскому снегу. Оба так и остались в снегу рядом с раненым Чалдоном.
Дальше дела пошли совсем плохо. Немцы из фольварка ушли. Чалдон слышал, как рычали моторы машин, как кричали унтера, как шлепалось что-то тяжелое в кузова грузовиков. Потом все стихло. Наши тоже прошли где-то стороной. И остался он в грязном тающем ноябрьском поле один. Ни сдвинуться, ни шелохнуться. Чалдон лежал, глядел в небо, вечером вмерзал в лужу, утром оттаивал, рядом лежали два убитых дружка: Колька Кандыба и Петька Серых.
На третий день нашла его полька-крестьянка, женщина лет тридцати, жгуче черноволосая и черноглазая, глянула из-под платка, встретила его взгляд и ахнула:
– Москаль!
Чалдон глядел на нее молча. Нога его опухла, как бревно, и уже не болела, он знал, чем это грозит, лучше бы болела.
Через час женщина явилась с лошадью и подводой и по страшенной грязи, по разбитой дороге увезла его на хутор. Где-то совсем близко были наши, но хутор в лесу в зону их действий не попал. Вот тут-то и понял Чалдон, как нелегко у них в Европах. Хозяйка была на хуторе командиршей. Муж слушался ее, как овца, но от одного взгляда на Чалдона начинал трястись мелкой дрожью:
– О матка бозка, помилуй нас, приде Армия Крайова, нас забьют, як бога кохам!
Эвелина – так звали хозяйку – грозно прикрикивала на него, и муженек плелся работать по хозяйству. До своих Чалдону добраться было нельзя, потому что вокруг шла чересполосица наших и немецких позиций, как бывает всегда после большого наступления, когда оно, наконец, выдыхается.
Немцы на хутор не заходили, наши тоже, зато Армия Крайова пришла. Они вошли под вечер. Шесть человек в старой польской форме, в конфедератках с огромными кокардами. Старший с узким лицом, на котором выделялись серые стальные глаза и огромный орлиный нос, сразу увидел ширму, за которой лежал Чалдон, и отодвинул ее. Понял все с первого взгляда.
– Москаль? – спросил он и яростным взглядом выбелил лица хозяев.
Чалдон сел на койке. Шесть человек с автоматами стояли в комнате и молча смотрели на него. Бледные хозяева жались к стенам. Человек с могучим носом закричал на них. Он кричал, все повышая голос. Чалдон разбирал только два слова «москали» и «герман»– он понимал, что офицер ставит их и немцев на одну доску, и это возмущало его своей несправедливостью.
Он вдруг перебил крик офицера:
– Эй паря,– сказал он,– чо болтать? Вали сюда, потолкуем.
Двое постарше аж зашипели от его невыносимой дерзости, хозяин чуть не упал в обморок, двое уже лезли к нему с автоматами, тыча их ему под нос, но молодые засмеялись. И, неожиданно, взглянув на Чалдона, улыбнулся и офицер. Спросил чисто по-русски:
– Откуда будешь?
– Из Сибири,– сказал Чалдон.– Из Иркутской области. Закурить нет, братишка?
Офицер, не оборачиваясь, что-то сказал, и ему поднесли самокрутку и огонь.
– Зачем пришел к нам, Иван? – спросил офицер, тоже закуривая, но сигарету.
– Освобождать, однако,– пояснил Чалдон.– И вот гляжу: навроде это вам не нравится?
– Нам что москаль, что герман – один дьявол,– сказал офицер,– но это хорошо, что ты сибиряк.
– Вестимо, хорошо,– ответил Чалдон.– У нас там, в Сибири, герман не бывал, а видишь, куда мы за ним притопали.
– В тех местах, где ты живешь, бывали мои предки,– сказал офицер, задумчиво разглядывая его.– Их ссылало туда русское правительство.
– Знамо,– сказал Чалдон.– У нас вокруг польских деревень штук пять будет: и Шуровское, и Лодзияка, да мало ли.
– И сейчас живут поляки? – оживился офицер. Остальные слушали, боясь проронить хоть слово. По ожившей хозяйке Чалдон понял, что дело его не так плохо.
– А что им не жить,– рассказывал он,—У нас в Сибири земли хватает, зверя – неисчислимые тучи, охота, хозяйство, чо хошь!
– А колхозы? – спросил пожилой усатый, зло косивший на него с самого начала.
– А что колхозы? – спросил Чалдон в ответ.– Колхозы, паря, это правильное дело. У нас там земли – хоть с самолета меряй, одному такое в хозяйстве не потянуть. Надо вместе.
С этого момента все пошло крутиться наоборот.
– Так ты красный агитатор? – спросил, вставая, офицер.– Ты не простой русский солдат, я вижу.
– Самый чо ни на есть простой, паря,– сказал Чалдон.– Ефрейтор.
– Нет, ты врешь. Ты политрук,– сказал офицер, резко взглядывая на своих.
Те сразу построжали, подтянулись, выставили автоматы.
– Я служил в русской армии,– говорил офицер,– тогда солдаты не агитировали, а ты агитируешь, ты политический работник.
Чалдон засмеялся.
– Брось, паря, чушь молоть. То ж старая армия была, а мы новая, Красная. У нас политинформация как-никак бывает.
– Мы тебя расстреляем, москаль,– сказал офицер.– Ты пришел на чужую землю, тебя сюда не звали.
Чалдон не испугался, гнев ударил в голову, заглушил все опасения.
– Стрели,– сказал он, распахивая гимнастерку.– Стрели, пан. Давай, стрели русского солдата. Ты германа не сумел со своей земли прогнать, я пришел тебе помочь, по твоему слабосилию, а ты теперь меня, ранетого, убей. Верно, благородный ты, паря, пан, как я погляжу. Только вот чо,– он приподнялся и спустил с кровати здоровую ногу.– Кабы встренул ты меня здорового, я бы с тобой на равных поговорил, тогда, паря, видно было б, кто из нас лучше в солдатском деле!






