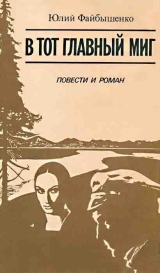
Текст книги "В тот главный миг"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
КОЛЕСНИКОВ
– Едет,– шепнул, наклоняясь к своим, Колесников,– Глядите, ребята!
Лошадь задышала над самым ухом.
– А ну, уймись,– приказал Актер и ткнул в спину Нерубайлова карабином. В тот же миг Колесников рывком выхватил у Актера оружие. Лошадь взвилась, но Нерубайлов уже висел на всаднике. Он сбросил Аметистова на землю, тот руками и ногами отпихивал навалившегося Нерубайлова, но к ним кинулся Чалдон, блеснуло кайло, и с Актером все было кончено.
Колесников отвел глаза от лежащего тела и заметил прицельный, жесткий взгляд Соловово. Тот стоял на бруствере шурфа и смотрел прямо на него.
Чалдон и Нерубайлов занесли под сосны Аметистова. Положили его на мох, забросали ветками и хворостом. Лошадь привязали поблизости. Она еще могла понадобиться. Вдруг заскрипела трава, и голос Соловово крикнул:
– Едут! Скорее в канаву!
Колесников кинулся к лиственнице у самой просеки, выглянул из-за нее. В промежутках между деревьями виден был конный. Кажется, Глист. Надо его встретить так, чтобы он не успел выстрелить: один выстрел – и все пойдет прахом. У тех в руках Альбина, а у них одна только обойма на карабин.
– Чалдон,– сказал он,– возьми карабин и дай ему проехать. Стреляй только в крайнем случае. Лучше бы его напугать. Не надо тех, внизу, тревожить. Мы с Нерубайловым к канаве. Как только он подъедет к нам, заходи с тылу. И действуй.
Через несколько секунд Колесников рядом с Соловово орудовал кайлом, а Нерубайлов, присев на корточки, рассматривал комки, в которых, если их покорябать, тускло светилось золото.
Затопали копыта, и Колесников обернулся. Глист подъезжал лихо. Заметно было, что он пьян. У самого шурфа, почти наехав на сидящего на корточках Нерубайлова, он осадил лошадь и заорал:
– А ну, грузи золото, работнички! Мешки привез! И он сбросил прямо на Нерубайлова груду пыльных мешков.
Колесников осторожно, стараясь не спугнуть его, стал спускаться с бруствера шурфа. Глист веселился.
– Трудовой народ! – орал он, и лошадь приплясывала под ним, понукаемая каблуками,– жратву вам привез. Вкалывайте получше! Кто не работает – тот не ест.
Нерубайлов встал, почти касаясь его сапога, погладил лошадь по крупу и взглянул на Колесникова. Сзади неслышными прыжками подбегал Чалдон, держа наперевес карабин.
Слезь,– сказал подходя Колесников.– Чего гарцуешь-то? Расскажи, что там?
И тут неизвестно что встревожило Глиста. Он взглянул на Нерубайлова, на подходившего Колесникова и натянул поводья. Лошадь осела на задние ноги,, готовясь повернуть, и тут Чалдон ткнул сзади ему ствол под лопатку и сказал негромко:
– Однако, слазь, паря!
Глиста всего выгнуло вперед от прикосновения дула, он открыл рот, хотел что-то сказать, но вдруг вывернулся, вынося сбоку пистолет, попытался обернуться, и тогда грянуло. Выстрел был не слишком слышен, ствол был вбит в Глиста, и тело его, вышибленное страшной силой из седла, валилось, тяжелело, падало. Федор закрыл мертвому глаза и заторопил товарищей: «Ехать надо, давеча, как я уходил, Хорь с Лепехой баял, будут Альбину сильничать. Поспешать надо».
У Колесникова дернулось и остановилось сердце. «Альбина! Она же в их руках!»
– Порхов где? – спросил Чалдон.
– Лежит на бережке, однако. Отмыл им золото и лежит бормочет. Вроде не в себе он.
– Нерубайлов, на коня! – крикнул Колесников, выхватывая пистолет из застывшей руки Глиста.– Чалдон, на второго! Я у стремени побегу!
– Мне куда? – спросил подошедший Соловово. Глаза его глядели строго и осуждающе.
– Бегом! – сказал Колесников.– Надо успеть.
АМЕТИСТОВ
«Ма-маня,– шептал он пересохшими губами, пытаясь бессильным языком сбросить иглы лиственницы, прилипшие к углу рта.– Маманя, готов твой Митька, готов...»
Он бредил. Прямо на лице его лежало несколько прутьев хвороста. Весь он был с головы до ног забросан мхом, ветками и прутьями, хвоя щекотала лицо.
«Маманя,– шептал он,– помираю... Дурак был твой Митька, вышло все, как ты говорила...»
«Не водись ты со шпаной,– говорила ему маманя,– не носи ты, Митенька, эти ножики по карманам. Зачем она тебе, эта свинчатка? Ах, Митька, Митька, баловный ты, не кончишь ты по-хорошему, не кончишь. Непутевый!»
Непутевый он был, не путем шла его жизнь, не его путем, а так, как другим захотелось, а то вообще неизвестно как... Хотел быть сильным, никого не бояться. И вот... Ах, маманя, как голова болит... Хотел я жить как человек, как все, хотел... Только училка по математике придиралась, и Васька-Козел из седьмого дома выпендривался. У него приятели были, и мне без приятелей стало не обойтись. Девочка ходила в седьмую женскую школу, по Октябрьской, и я ее встречал, как раз напротив сквера. Она шла по той стороне, а мы – по нашей. Красные туфельки, красный капор, красное пальто и сумка красная... А волосы черные... Она и не смотрела на нас. У нее все было, как надо... Ее не поджидал Васька-Козел с приятелями в подворотне, меня караулил, и надо было в рукаве держать ножик, иначе все равно бы запороли, а толку б не было... Вся в красном девочка была. Я к ней и подступиться, боялся. Ветер дует в чистом поле, лист вокруг роняет... Непутёвый я, ма-маня-а! Непутевый... Ма-ма-ня. В красном капоре... Ма... А что меня они кончили, так законно... Не они бы меня, я бы их... Почему их, а не тех своих... Как человек выбирает своих?.. Может, это они его выбирают.., Ма-а-ма! Все. Умирает Митька, уми...
ЛЕПЕХИН
– Ладно, выпьем,– сказал запыхавшийся в борьбе с Альбиной Хорь,– никуда теперь не денется.
Связанная, брошенная на спальник, Альбина неотрывно следила за ними полыхающими глазами. Ее волосы разметались, пуговицы на груди гимнастерки были оборваны. Рот заткнут тряпкой. Руки прикручены к телу, ноги в сапогах накрепко стянуты пеньковой веревкой. При каждом движении обоих преступников она вскидывала голову и глаза ее сверкали жгучей ненавистью.
Хорь и Лепехин присели на ящики и разлили в кружки спирт.
– Чего кочевряжишься, дура? – спросил Хорь, повернувшись к Альбине.– Не хочешь добром, силой возьмем.
– Ничего,– усмехнулся Лепехин.– Время есть, пусть поломается.– Он навел на Альбину угрюмые, как дула двустволки, глаза,– когда брыкаются, оно даже интереснее.
Они выпили. Молча стали закусывать черствой лепешкой и рыбой.
– Где муженек-то? – спросил Хорь, дожевывая.
– На бережку. Клад открыл, теперича мечтает.– Лепехин чуть не подавился от хохота.– Открыл, понимаешь, жилу.– Он подмигнул Альбине.– Открыть-то открыл, да не он. А вот разработать не успеет. Он встал и тяжело шагнул к Альбине.– Усекаешь, баба, нет? Кто золото это видел, тот народ конченый.
В глазах Альбины метнулся ужас, она уронила голову на спальник, Довольный Лепехин повернулся к Хорю.
И в этот миг где-то сквозь шум тайги донеслось ржанье лошади.
– Наши ржут? – насторожился Хорь.
– Чего? – равнодушно переспросил Лепехин, опять одним глазом кося на Альбину.– Приехал кто?
Хорь подошел к выходу из палатки, отдернул полог и тут же выскочил из палатки:
– Шухер!
Альбина вскинула голову. Лепехин метнулся к карабину, щелкнул затвором. Совсем рядом трижды выстрелил пистолет, и тут же длинно и тягуче ответила ему винтовка.
Хмель разом выветрился из головы Лепехина. Он кинулся к пологу, но остановился, рывком выхватил нож и вырезал кусок парусины. У самого выхода корчился Хорь. От верхних палаток крались трое. Лепехин, не целясь, выпустил обойму. Трое упали. Пока он вставлял новую обойму, уползли за палатки наверху. Он узнал их: Колесников, Нерубайлов, Чалдон. Где же кореша? Один карабин у них. Значит, Актера они прибрали. Царство ему небесное. Но тут вам, сволочи, не выгорит. Хорь застонал снаружи, Лепехин выглянул в щель. Тотчас же длинно ударил карабин, у самого лба цвикнуло. Хрипнул распоротый пулей тент. «Бьет, как снайпер,– подумал Лепехин.– Ладно, хрен с Хорем, пусть гниет, раз такая его звезда. Что теперь делать?»
Он нагромоздил перед щелью ящики. Выглянул сбоку. Канавщики опять ползли, заходя с трех сторон. Лепехин торопливо расстрелял вторую обойму и, пока они там отлеживались, оторвав крышку от ящика, набил патронами карманы. Опять выглянул. Снова свистнуло, и он почувствовал, что из уха потекла кровь. Ладно, суки! Приподнял еще один ящик и поставил его поверх остальных. Теперь у него была целая баррикада, но сектор обстрела был узок. Рывком рассадил тент почти до полога. Парусина провисла, и он увидел движение атакующих. Они распределились. Армейская фуражка Колесникова торчала за лиственницей с правого фланга. Слева заходил Чалдон. Из-за куста ерника видна была его белесая шевелюра. Нерубайлов шел по центру. Но сейчас он был где-то за столпившимися у дымокура, тихо ржущими лошадьми. Порой его склоненная голова мелькала меж конских крупов. А остальные? Он похолодел от этой мысли. Где эта божья коровка Шумов? А где Седой? Но тут же успокоился. Эти не вояки.
Теперь он был полон холодной злобой. Попробуй сунься, попробуй!
Лепехин прицелился и разрядил винтовку в фуражку Колесникова. Фуражка исчезла. Но Чалдон в это время сделал перебежку и устроился за сосной метрах в тридцати от палатки.
«Стой,– подумал Лепехин,– у этого карабин. Надо его выследить».
Он раздвинул два ящика, в отверстие между ними выдвинул ствол, начал караулить Чалдона. В двух шагах от него, загороженный парусиной, лежал и странно вздыхал Хорь. Потом ойкнул и затих. Лепехин шаркнул ногой, устраиваясь. Звякнули гильзы. В палатке пахло порохом и серой. «Ничего, прочихаемся»,– подумал он и опять трижды выстрелил в сторону Чалдона. Не попал, но заставил того затаиться. Колесников пока не двигался. Значит, он его все-таки продырявил. Но вот Нерубайлов, видимо, что-то предпринимает! Лошади вдруг начали двигаться на палатку. Лепехин хладнокровно расстрелял первых трех. Они с ржанием забились на земле, пытаясь подняться, остальные, дико визжа, бессмысленно пятились и топтались вокруг них. Нерубайлов спрятался за телами подстреленных лошадей.
И вдруг Лепехин увидел, что из-за палаток спокойно выходит Соловово. Обогнул беснующихся лошадей и пошел прямо навстречу дулу карабина. Ему. что-то крикнули из-за лиственницы, значит, Колесников жив. Седой, не отвечая, шел прямо к провиантской палатке. Лепехин взял его на мушку, потом решил дать ему подойти еще. Выстрелил в сторону сосны, но Чалдон опять укрылся за стволом. Немедля он вогнал три пули в лиственницу, и там движение прекратилось. Седой все шел, до палатки ему осталось шагов пятнадцать.
– Лепехин,– крикнул Седой. Лицо у него было все в поту, глаза неотрывно смотрели в прореху парусины.– Выпусти Альбину, и мы тебя отпустим.
«Альбина! – радость током пронзила мозг Лепехина.– Вот кто им нужен». Он спокойно прицелился и дважды выстрелил. Седой дернулся, упал, заскреб руками землю. Но и Лепехина ранило в руку. Кровь сочилась на брюки. Попали! Попали, гады! В бешенстве, орудуя одной рукой, он, как из пистолета, выпалил из карабина в сторону сосны. Чалдон затаился, примолк. Но палатка тут же была пронзена двумя выстрелами из-за лиственницы. Значит, у Колесникова был «ТТ». Ни Аметистова, ни Глиста, видно, не было больше на божьем свете, ну и аллах с ними. Надо о себе позаботиться. У Чалдона в запасе один или два выстрела. У Колесникова– пять. Пистолет против его карабина не тянет. Но Чалдону, чтобы попасть, одной пули хватит. Лепехин оглянулся. Что делать? Теперь, когда рука висела, как плеть, дело его швах!
– Эй,– заорал он, пригибаясь за ящиками.– Если будете еще пулять, я вашу бабу тут прикончу.
– Слушай, сука! – крикнул Чалдон, хоронясь за сосной.– Освободи. Альбину, и мы тебя выпустим!
– Дурака нашли! – захохотал Лепехин в ответ.
– Лепехин! – крикнул из-за лиственницы Колесников.– Слушай наши условия. Если сейчас же выйдешь, мы тебя помилуем.
– Плевал я на вас! Слушай сюда: я выхожу и оставляю Альбину, а вы пять минут не стреляете.
– Покажи нам ее! – крикнул Колесников.– Докажи, что она жива.
Новая мысль обожгла Лепехина:
– Если будете сидеть на месте три минуты, Альбину выпущу.
– Идет! – ответил голос Колесникова.
Лепехин бросился к задней стенке палатки, тремя ударами ножа разодрал ее и вырезал дыру. Там позади был кустарник, затем просека. Пробежать метров двадцать открытого места, и он свободен. Ринулся к ящикам. Так! Спички! Лепешка! Кусок недоеденной рыбы, бутылка спирта. Все. В карманах полно патронов. Он швырнул на ящик с динамитными патронами тряпку, полил ее спиртом и поджег. «Ждите свою Альбину!» Он выпрыгнул через дыру из палатки и помчался к кустарнику. Просвистела пуля, но мимо. Позади легла борозда. Стланник бил в лицо. Он отшвыривал ветки, вгорячах даже не чувствуя боли в руке, «Сейчас рванет»,– ждал он. Но взрыва не последовало. Успели, гады! Но и он ушел.
КОЛЕСНИКОВ
Он ворвался в палатку, сразу почувствовал запах гари и с размаху грудью упал на ящик с динамитом. Тряпка погасла, грудь обожгло, но Колесников этого даже не заметил. Вскочил, огляделся.
В палатке было дымно, кто-то корчился за вьюками на спальнике, он кинулся туда и склонился над Альбиной.
Она смотрела снизу огромными молящими глазами, в них закипали слезы. Владимир упал на колени, стал распутывать и развязывать узлы веревок. И вдруг – нет, это не сон, почувствовал, что лица его касаются губы Альбины. Колесников развязал ей ноги, она вскочила и припала к нему всем телом, забилась у него в руках, плача и повторяя одно и то же:
– Жив! Жив! Жив!
В палатку вбежал Нерубайлов.
– Как Соловово? – спросил его Колесников.
– Две дырки в груди. Пока жив.
Альбина зажмурилась, дико, словно просыпаясь, взглянула на Нерубайлова и выскочила из палатки.
– Владимир Палыч,– спросил появившийся в палатке Чалдон,– Этого-то зверя как, аль жить оставим?
– Черт с ним,– сказал Колесников,– не до него сейчас. Как там Седой?
– Ежели быстро его доставить к людям, выживет,– ответил Чалдон, набивая карманы патронами.– Альбина там его бинтует.– Он вышел, вскинув на плечо карабин.
– Вот и все, – сказал Колесников и сел, чувствуя, что ноги его не держат. Подошел и сел рядом Нерубайлов. Руки, которыми он пытался свернуть самокрутку, тряслись.
– Как мы их, а? Владимир Палыч?
Колесников заулыбался. Но тут он вспомнил о Соловово и заставил себя встать. Молодец, Викентьич. Если бы не он, этот Лепехин мог бы их, как кур, перестрелять. У Чалдона патрон в обойме оставался, в пистолете Колесникова два. Он вышел на поляну. Рядом с убитым Хорем стоял неизвестно откуда взявшийся Порхов и тянул у того из руки пистолет.
– Мое оружие,– сказал, он в ответ на недоумевающий взгляд Колесникова.– За мной числится.
Соловово лежал на середине поляны, прикрытый ватником, а Альбина подсовывала ему под спину сосновые лапы, чтобы ему легче было лежать, полусидя. Грудь его была забинтована. Глаза потухли.
– Главное, что жив, старина! – сказал Владимир, присаживаясь перед ним на корточки.
Соловово вздохнул. Подошел Порхов, скомандовал:
– Колесников, к лошадям. Сейчас уходим.
– Что-о? – не веря своим ушам, спросил Колесников, поражаясь тому, как быстро этот человек снова взял бразды правления в свои руки.
– Как уходим, а похоронить?
– Ждать не будем,– заявил Порхов, не глядя на канавщиков.– Раненого берем и уходим.
– Нет уж,– сказал Колесников.– Я без Чалдона шагу не сделаю.
– Он за Лепехиным пошел,– пояснил Нерубайлов.– И пока того не кокнет, не воротится.
– А я говорю, выходим немедленно,– сказал Порхов, вонзаясь в них небольшими злыми глазами.– Я начальник партии. Кто не подчиняется, тому платить зарплату отказываюсь.
Нерубайлов широко раскрыл глаза. Секунду подумал, потом растерянно улыбнулся:
– Может, чуток подождем, Алексей Никитич!
– Ни секунды!
Нерубайлов взглянул на Колесникова, отвел глаза и пошел к палаткам.
– Я отсюда не двинусь,– сказал Колесников твердо.
– Ваше дело,– отрубил Порхов.– А я обязан позаботиться о раненом, его надо доставить к людям как можно скорее.
– Я не дам себя унести отсюда, пока не придет Косых,– прошептал Соловово и посмотрел на обоих спорящих отсутствующими глазами.
– Я тоже буду ждать Васю,– сказал женский голос.
Порхов и Колесников оглянулись. Альбина стояла простоволосая, в разорванной на груди гимнастерке, на лице ее, когда она смотрела на мужа, было выражение вызова и вражды.
Из палатки с «сидором» за спиной вышел Нерубайлов.
– Остаемся,– резко скомандовал Порхов.– Но без дела сидеть не дам.– Он враждебно уставился на Колесникова.– Где Шумов? Берите лопаты. Закопайте этих... .Там, на горке. Кроме того, надо забрать с собой породу, которую вы набурили.
Колесников исподлобья взглянул на Порхова. Итак, власть вновь переменилась. Где же ты был, начальник, когда мы дрались? Однако Колесников был военный человек, и когда приказ исходил от истинного начальства, его надо было выполнять. Он встал:
– Что ж, закапывать, так закапывать.
Через полчаса они уже поднимались в гору, Колесников вдруг почувствовал, что страшное напряжение последних дней разрядилось. У него задергалось веко, ноги ослабли, и двигать их приходилось с усилием. Они брели сквозь тайгу, и покой ее с ровным шумом листвы, с покряхтыванием стволов напоминал ему то далекое, блаженное предвоенное время, когда они осваивали новую технику в Западной Украине. Так же было тепло, так же пахло лесной свежестью и гнилью и на огромной вырубленной в буковой роще площадке ревели новенькие сверкающие свежей краской «яки», а рядом еле слышно работали моторами старики—«ишачки», тупорылые коренастые машины. На этих машинах они и вступили в схватку с врагом. В боях он думал только о том, что страна его, стиснутая за горло, боролась изо всех сил, и он хотел сделать только одно: уничтожить хоть одного фрица...
Они подходили к канавам. Глист лежал, как упал, лицом вниз. Черная спецовка под лопаткой была ржавой от крови. Над ржавчиной пятна висел столб мошки.
– Жрут, однако,– сказал со вздохом Федор Шумов и стал снимать с лошадей лопаты и кайла.– Днем жрут, ночью жрут, живого жрут, мертвого жрут.– Он подошел к трупу, нагнулся и перевернул его на спину. Длинное лицо Глиста с раскрытым в непрорвавшемся крике ртом поразительно быстро заросло темной щетиной: Колесников все смотрел на искаженное вскриком лицо Глиста и думал о Соловово. Викентьич не простил им убийств. Но как они могли вести себя иначе? Викентьич не был на фронте. Кто не был там, тот еще может сомневаться, мудрствовать. Но война все решает просто. А разве не было у них тут крохотной гражданской войны?
Соловово – штатский, ему свойственно колебаться. Он же военный и умеет не только отдавать приказы, но и подчиняться. Это у него в крови. Армия научила, армия его спасла. Да, посадили по наговору. Это несправедливо. Но если бы товарищи, его ребята из полка не боролись с оговором, не искали бы свидетелей того, как он вел себя в плену у немцев, разве бы его выпустили через три года? Пусть Соловово что хочет наговаривает на армию, пусть считает их баранами, которых можно повести куда угодно – на праведное и на неправое дело,– это болтовня людей со стороны. Нерубайлов, Чалдон, он, Колесников,– все, кто посмел выступить против урок, воспитаны армией и подготовлены ею для борьбы с любой несправедливостью... Приказ остается приказом. И правилен он, нет ли, обсуждению не подлежит, Может быть, нормальный человек и не должен жить по приказу, но иногда привычка к нему важна. Он еще поспорит с Викентьичем об армии, когда вернется.
Похоронив Глиста и Аметистова, Колесников и Федор отправились за телом Алехи. Колесникова мутило. Действовал он, как надо, не трусил и не медлил. Но вот теперь, после схватки, после победы, приходили тягостные мысли. Все-таки это были люди, хоть, может быть, и нехорошие, злые... А с Алехой вообще вышло не совсем справедливо. Но жизнь есть жизнь. У них была война, они выиграли ее. Он выиграл свою вторую войну, и эта вторая, маленькая и короткая, потребовала от него такой же мобилизации всех душевных и физических сил, как и большая. Так или иначе, а они вернули закон и порядок. Пусть ему сейчас и не очень радостно оттого, что это порховский закон и порядок, но таков он был изначально. Порхов во главе, и рядом Альбина. И, едва вспомнив ее, он сразу отвлекся от всех других мыслей.
Они забрасывали тело Алехи землей, собирали лопаты и кайла, складывали их вместе, связывали, бросали в мешки тяжелые коричневые комья. Владимир что-то отвечал Федору, слушая Нерубайлова, говорившего о Чалдоне, а сам думал только об этой высокой темноволосой женщине с гордым лицом и горячими глазами, о той женщине, которая обняла его несколько часов назад, прижалась всем своим яростным телом и твердила только одно: «Жив! Жив! Жив!» Что это было? Благодарность за спасение? Так или иначе, а с этой женщиной он был теперь связан невидимыми прочными путами, от которых некуда деться и нечем спастись.
Он заметил ее в первый же день, когда Порхов, по своей манере грубо поговорив с ними, оформил его в партию.
Но главное случилось тогда на канавах. Он увидел, как знакомятся белка и кабарга. Это было так смешно и так прекрасно: живое существо тянулось к другому, хоть и не похожему... Альбина подкралась незаметно, а он сразу ввел ее в ход своих мыслей, и она стала следить за ними послушно и любопытно, как девочка, которую ведут по незнакомой пещере.
Вот тогда все и началось. Впрочем... Что началось? Что, собственно, было? Несколько незаконченных разговоров? Ощущение ее понимающей близости, а потом чувство необходимости его для нее, потому что Порхов вдруг сломался, повел себя недостойно не только как руководитель, но и как мужчина...
– Пошли,– сказал, поднимаясь с колен, Нерубайлов.– Образцов тут на полгода хватит.
В лагере между палатками по-прежнему лежал Соловово. Он повернул к ним голову и посмотрел, но как-то словно сквозь них куда-то дальше. Неподалеку от провиантской палатки сбились в кучу лошади у дымокура. Никого больше не было. Ревниво отметив, что нет обоих – и Порхова, и Альбины, Колесников подсел к Соловово:
– Как себя чувствуешь, Викентьич?
– Слишком хорошо, Володя,– сказал Соловово, чуть улыбаясь, и посмотрел на него тоскливыми отстраненными глазами.
Колесников знал, что делает с людьми боль. Он сам дважды валялся по госпиталям, а один раз оказался в таких условиях, что думал уже отдать-богу душу,– в немецких лагерях не очень стремились вылечивать русских пленных. Он сел на траву рядом с раненым.

– Где эти...– он отвел глаза под понимающим взглядом Соловово и повторил: – Начальство-то куда делось?
– Отправились к реке посекретничать,– сказал. Соловово. Подошел Нерубайлов.
– Как, Исидор Викентьевич? – спросил он, наклоняясь.– Крепко тебе впаял?
Соловово и ему улыбнулся.
– Крепко, Иван. Где Чалдон?
– Лопахина выслеживает,– ответил Нерубайлов, присев.– Он его, иудину душу, ни в жись не упустит. Он энтих власовцев за войну в разных видах повидал. Они ему только мертвые нравятся.
Соловово закрыл глаза. Видно, не хотел больше разговаривать па эту тему.. Колесников мигнул Нерубайлову и отошел к палаткам. Ожидание дрожало в нем. Он боялся подумать о Порхове и Альбине. Его давило сознание того, что этот трус и наглец, карьерист и себялюбец снова станет ее мужем, предъявит на нее свои права...
Он вошел в общую палатку и сел на свой спальник. Но кто он ей? Кто? Что дало ему право надеяться? Она обняла его? Просто потому, что он первый вбежал в палатку. Она поддержала его против мужа в споре о том, ждать или не ждать Чалдона,– это из чувства справедливости. А остальное – его помощь в переходах, краткие разговоры – это все в те времена, когда ее муженек потерял себя и женщине нужна была рядом сильная мужская рука...
Он вспомнил свою Лизу, тихую, скромненькую, с пшеничной высокой пирамидой кос на голове, ее томные взгляды, ее вечно женское стремление одновременно и к тишине, и к гостям... Он полюбил ее, когда еще был курсантом. Переписывался два года, приезжал в отпуск в Калинин, чтобы с ней повидаться. Светлоокая студенточка физмата покорно выслушивала его горячечный бред о будущих победах, о подвигах в грядущей войне, слушала мнения о книгах, молчала и робко целовалась в подворотнях. Потом он стал лейтенантом, они поженились. Началась гарнизонная жизнь. Полк часто перебрасывали, менялся состав. Неожиданно ей стала нравиться эта чехарда перемещений и людей. В тихой скромнице с пшеничными косами он внезапно обнаружил начинающую, но несомненную кокетку, любительницу застолий, хорового пения и танцев. Но придать этому значения не успел. Родился мальчик. Началась война, и все полетело в тартарары. Сначала она с мальчиком уехала в Алма-Ату, с трудом нашла его адрес. В сорок втором он попал в плен. Потом, выйдя из партизанского отряда, нашел семью. Письма связали его с женой, но в сорок пятом, так и не добравшись до дома, он опять попал в лагерь – теперь уже в свой... А через четыре месяца получил от жены официальное сообщение о разводе. И не пожалел об этом. Такая женщина, как Лиза, не могла его ждать, а уж на понимание он и не смел надеяться. Да и как ей было понять человека, которого перед самой победой сажают в лагерь? Он мог выглядеть в ее глазах шпионом, изменником, кем угодно... А объяснить все из лагеря ему бы не дали. Да он и не стал бы пытаться. Настоящая жена должна была верить, ей не надо ничего объяснять. Жаль было сына, но, по правде говоря, настоящей тоски Колесников по нему не испытывал. Он помнил только курносую кроху, его лысенькую головку. Он не успел почувствовать себя отцом. Но иногда, как нож, сердце пронзала мысль, что где-то есть на свете родной ему человек.. Но... Что же он мог дать своему сыну?
Снаружи раздались голоса. Он узнал Порхова, тот что-то выговаривал Шумову. Федор обстоятельно отвечал.
Колесников вышел из палатки и увидел, что на тагане уже висело ведро с каким-то варевом, костер пылал вовсю, расшибая пламенем густеющий сумрак. Около лежащего неподалеку Соловово сидела Альбина. Порхов отдавал приказания у костра. Колесников постоял немного, стараясь утихомирить биение сердца. Что же там у них было у реки? Наверняка, супруги примирились. Да, ее благоверный не проявил мужества, когда обстоятельства того требовали. Да, один из лучших геологов струхнул, когда перед ним встали не только рабочие задачи. Но она женщина, жена, и она все поняла и простила. Колесников усмехнулся. В конце концов Порхов ищет золото, и в этом смысл его существования, а так или иначе – задачу эту он выполнил. Нашел жилу. Кому какое дело, что при этом он потерял больше половины состава своей партии... Собственно, за что осуждает он Порхова? Алексей Никитич все-таки первым начал оказывать сопротивление: не дал тогда Лепехину часы, разбил их... Хотя, конечно, это бунт одиночки, он обязан был организовать ответный удар, возглавить людей. Порядок был наведен с помощью иных лиц... И даже тех, кто совсем недавно числился в нарушителях закона. Но в этом ли дело? Почему он пытается то принизить, то оправдать Порхова? Альбина – женщина, у нее другой суд.
– Лепешки спечем, однако,– обещал от костра Федор.– У меня и тесто подходит. Коли сутки простоим – с хлебом будем.
Колесников смотрел, как Альбина ухаживает за раненым Соловово, видел гибкую спину, черные волосы, упавшие на плечи, и горечь переполняла его сердце. Эта женщина была как раз по нему. С такой бы он выстоял, чтоб бы там ни было уготовано в жизни. Не примут в армию – пусть. Он смог бы начать все заново на заводе – механиком или мастером, а то и слесарем. Он все мог и все умел. Мужчине нужен защищенный тыл, надо, чтобы он воевал там – на трудовых своих фронтах, чтоб умел не замечать неприятностей, приносить деньги в семью, умел делать свое дело, но там, сзади, у него должен быть крепкий тыл – его жена, его любимая женщина. Она должна быть надежной, любящей, готовой заслонить его от пустяков и мелочей, создать тепло и уют в доме. Понимать мужа, как самое себя... Разве ее найдешь, такую верную и любимую, помощника и друга во всех делах? Он встретил ее, и она как будто поняла его. Но она чья-то жена, и теперь, чтобы увести ее, он должен заставить ее отречься от того самого качества, которое в ней ценил больше других – от верности и чувства долга. Увести ее – нет! Это она способна увести его от кого угодно и куда угодно... Но она пока не рвется это сделать.
Колесников подсел к костру.
– Слышь, Владим Палыч,– сказал Федор, помешивая ложкой в ведре.– А Хорь-то живой ишшо был, когда я к нему подошел. Глаза открыл, говорит: «Зря Саньку пришили... Коли б не это, дошли бы...» – тут и вытянулся.
– Ты его зарыл? – спросил Колесников.
– Зарыл,– сказал Федор, дуя на щи в ложке.– Какой ни есть, а человек.
Колесникову почудилось, что его кто-то окликнул, оглянулся, Соловово, пробуя привстать, позвал его. Он лежал, до подбородка закрытый телогрейкой. Во тьме болезненно светились его глаза.
– Викентьич,– встревоженно присел над ним Колесников,– Плохо?
– Володя,– с трудом, облизывая белесые губы, заговорил Соловово.– Надо было перебить столько народу, чтоб вернуть все назад?
– А разве нет? – спросил Колесников. Он с жадностью глядел в исхудалое тонкое лицо с удивленно приподнятыми черными бровями, с белой щетиной на впалых щеках. Соловово закрыл глаза.
– А Алеху? – спросил он.
– Что Алеху?
– Зарезали, как барана... А если он не хотел выдавать?
– Викентьич, не будь ребенком. Ты сам тревожился больше всех. Из-за него все дело висело на волоске, а теперь – хоть мы живы...
– Значит... Только такой ценой? – Соловово глядел на него со странным, исступленно-вопрошающим выражением.
– Что за мысли, Викентьич,– склонился над ним Колесников.– Жизнь продолжается – это главное.
– Такой ценой продолжается? – спросил Соловово, все более уходя в себя.– Нет, это не для меня.– Он опять прикрыл веками глаза, потом с трудом открыл их и глядел теперь перед собой отчужденным, спокойным взглядом.
– О чем ты? – пытаясь сломать равнодушие, которое теперь завладело Седым и пугало его, убеждал Колесников.– Мы победили – это главное. Пойми!
– Не хочу я... этой вашей победы,– пробормотал Соловово.– И кровь на нас... на всех....
– Брось разводить интеллигентские сопли,– перебил Владимир,– разве бы лучше, если бы победили Они?
– Не хочу,– сказал Соловово, и вдруг весь обмяк, откинув голову вбок.
Владимир приподнял ватник и вскрикнул. Вся гимнастерка Соловово набухла кровью, бинты были сорваны.
– Что ты сделал? – закричал он в ужасе и гневе.– Что ты наделал, Викентьич?.
– Не хочу, ничего не хочу, ни вас, ни ваших побед...– он дернулся, в горле у него забулькало и захрипело. Колесников, весь дрожа, смотрел на вытянувшееся на траве тело друга.






