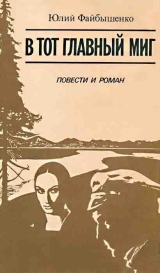
Текст книги "В тот главный миг"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
ФЕДОР ШУМОВ
Шли звериной тропой. Федор молча вышагивал вслед за Чалдоном. Инструмент тяготил плечо, «сидор», набитый под завязку, горбил спину. Настроение было хуже некуда. У Федора из головы не выходил случайно подслушанный разговор. Разговаривали Альбина с завхозом. Смысл этого разговора сводился к тому, что начальник, который так понравился Федору с первой встречи, был мужик неосновательный. Вел он их зимовать, а в поисковой партии этого не положено. Да к тому же Федор знал, что значит зазимовать в тайге. Как-никак, а сам прожил четыре зимы, как зверь, в землянке, топя по-черному, обосновавшись и обовшивев как каторжник. Однако логовище он себе готовил с лета, запасал продукты, свежатину, ходил по ночам на село к Марье, приносил капусту и огурцы, собирал все лето черемшу и ягоду, разные коренья, благо, различать их в тайге учил еще его дед. Оттого и выжил и зубы не все утерял, хотя зубы шатались, а десны кровоточили.
Конечно, их в партии почти полтора десятка – артель, а артель за зиму не пропадет, кругом лесин хватает, и барак сделают, и на изюбря устроят загон – оно все так. Только не каждый к такой жизни готов, да и не нанимались они на зиму, вербовались только на сезон.
– Что носом колени щупашь? – спросил неунывающий Чалдон своим веселым тенорком.– Ай вспомнил, как иные с немцем дрались, а ты в тайге отсиживался?
– Заказано мне кровопролитие,– угрюмо ответил Федор. Не любил он этих разговоров.– Бог не велит.
– А как гансы народ кровью захлестывали, так тебе это наплевать? Сам кровью не умылся, а чо другие головы кладут, не твово ума дело? Совесть-то теперь не мандражит?
Федор ничего не ответил. Разговоры эти давались ему трудно. Он верил, что бог не гневается, когда убиваешь зверя. Зверь он для того и рожден. А человеку человека убить—это уже от беса. Душа божеская в человеке, но Васька этого не поймет, никогда не поймет.
– Гады вы,—свирепел Чалдон,—только о себе думаете. А туда же – бог! Кончил бы я вас всех, пра слово, будь моя воля. Только воздух портите, гады!
Когда Чалдон расходился, Федор терялся, боялся, как бы Чалдон его не прибил. Силой он едва ли уступил бы Василию, но драк не любил и не велено ему было от бога. Поэтому Федор решил усмирить бурю, поделившись с товарищем своими заботами.
– Слышь, Вась,– сказал он,– ты все рычишь, а эт – дело прошлое. К тому и указ был. Там наверху понимат, за чо простить, за чо миловать. Я вот тебе о нонешнем такое скажу, чо портки на заду загорятся.
Чалдон хмуро взглянул на него, облизнул губы и надвинул на самый лоб шляпу накомарника.
– Чо такое?
Федор рассказал ему подслушанный разговор.
– Ах ты, матерь твою кипятком в одно место,– всполошился Чалдон,– это чо ж нас так и загубят почем зря? Я на это контракту не заключал.
Федор ничего не ответил а, когда объявили привал, спустил сетку накомарника, прилег у сосны, подложив «сидор» под голову. Ссориться с людьми он не любил и ни в какие смуты мешаться не собирался, поэтому и лег в сторонке. Однако от того, как разберутся остальные в том, что он сообщил Чалдону (а тот сейчас у костра рассказывал об этом товарищам), зависело многое, и он ждал с нетерпением, какое же будет их решение.
Он вспомнил свою тихую Марфу. Ее черноглазое скуластое лицо коренной сибирячки, вспомнил, как она ходит по двору, мягко раскачиваясь в своих коротких, от бабушки еще перешедших, пимах, как ладно укладывает в валок сено, как граблит, как гладит по темным головенкам ребятишек Кольку и Нюрку, и все в нем затосковало, потянуло туда, к «железке», в двадцати километрах от которой и лежало его село. Хорошо было в деревне, но такая ли она была сейчас он и не помнил, потому что осенью после указа прибежала к нему Марфа и рассказала, что теперь он опять свободный человек но в село возвращаться пока нельзя – фронтовики гуртуются у клуба и грозятся вышибить из него душу. И особенно горячатся безногие Митька Яковлев и Кеха Тонконогих, а с ними и другие инвалиды. Вот тогда они дождались ночи, и вместе с Марфой направился Федька в райцентр сдаваться. А на третий день, получив документы, сгинул из своих краев, чтоб вернуться, когда изгладится память о его дезертирстве.
Кто-то ткнул его сапогом. Над ним стоял Васька.
– Чо? – спросил он, поднимаясь и откидывая с лица сетку.
– Пошли, ребята обсуждают, что теперь делать.
Хорь предлагал.
– Порхова повернуть? Да его убьешь – не стронешь.
– Отобрать оружие и самим повести! – быстро сказал Шалашников, заглядывая в глаза Хоря. Тот одобрительно кивнул головой и оглядел остальных.
– Это как повернуть? – спросил Колесников.– А как же работа? Мы же подрядились работать?
– А денежки, чо ж? Тю-тю? – поддержал его Чалдон.– Мы
вертаемся, а начальник напишет, что мы работу сорвали. Это нам кукиш в карман, да еще и срок дадут. За бунт. Нету, брат, однако, дураков.
– С Порховым связываться – зряшнее дело,– загудел Алеха,– человек он сурьезный. Если дружно работать – он и заплатит, не обидит.
– Мы, товарищи, тут государственное дело делаем,– снова вступил в разговор Колесников.– Золото ищем. Вы знаете, что такое золото сейчас. И, видимо, Порхов, как человек умный и опытный, знает, что делает, раз нас ведет в такую трудную экспедицию. Я считаю: надо с ним поговорить, и только. А главное, работать, как положено, и выполнять все его задания. Тогда выберемся.
Соловово криво усмехнулся, но ничего не сказал.
– Значит, к начальству на поклон? – спросил Хорь.
– Почему на поклон? – ответил Колесников.– Просто поговорить с ним надо. Если среди тайги перегрыземся – добра не будет.
– Точно,– сказал Чалдон,– это я одобряю. Он сам себе не враг... Зачем ему тут зимовать.
– И толковать тут неча,– сказал Алеха.– Порхов знает, что делает. Я его не первый год рядом вижу. С головой мужик.
Четверка переглянулась, и Хорь встал. За ним все остальные.
– Дело ваше, мужики,– сказал он с усмешкой.– Мы, как все.
Народ начал расходиться от костра, и Федор снова улегся под сосной. Ему захотелось поговорить с богом. Он молился про себя. Молился жарко. Просил не оставить его бабу и мальцов, просил у бога и снисхождения к себе, грешному, рассказывал о грехах своих за день. Помолившись, он спокойно заснул. Его разбудили чьи-то голоса. Говорили шепотом, но Федор узнал брата завхоза Пашку и Хоря.
– Не могу я,– зудел один,– брательник все же. А как застукает?
– Два раза повторять не буду,– перебил второй,– ты меня. Колпак, знаешь. Сегодня же ночью!
– Да не могу я... ей-богу!
– Жизнь свою не ценишь, Колпак, в копейку ее не ценишь.
– Брось ты, Хорь. Каку таку жись... Чо молотишь?
– Смотри, Колпак, не принесешь сегодня – завтра за тебя гроша ломаного не поставлю. Все понял?
– Попробовать попробую, а как выйдет – не знаю.
– И я попробую Лепехину сказать, чтоб целым ты остался... Да не грозись ты!..
– Я не грожусь. Вступаешь в дело, берем в долю, слягавишь – перо в бок. Закон...
Опять помолчали. Потом подрагивающий голос Пашки сказал:
– Да ладно. Сделаю. Но и ты гляди.
– Как сказал. Все будет. Марафет и прочее. Бери ее, чтоб с орешками. Так-то на что она нам?
Они еще пошептались, потом от сосны отделилась тень и пошла К костру. Через минуту Пашка уже сидел там среди других, бессмысленно глядя в огонь. Хорь исчез.
«Темные мужики,– подумал Федор,– опасные... Может, пойти Порхову сказать, что они Пашку на какое-то дело подбивают. Но на какое? Погожу, пока яснее станет...»
КОРНИЛЫЧ
Завхоз вошел в провиантскую палатку и присел у входа на ящик с динамитными патронами. Отсюда был хорошо слышен разговор. «Где четверо-то эти? – подумал Корнилыч.– Чего опять замышляют, шаромыги?»
Кто-то прошуршал у входа, откинулся полог, и перед завхозом присел на корточки Санька.
– Поговорить я, Корнилыч, насчет рации. Когда лиственница рухнула, ее ведь подрубил кто-то.
– Как так? Ты, паря, однако, в своем уме?
– Вот ей богу! Честное комсомольское. Я потом все вспоминал, вспоминал... Вроде слышал я, как рубят рядом-то. Лиственница вершиной повалилась. Там ветки... Они короб раздавить не могли. Дерево его просто прижало. Но лампы не должны были повредиться. Это поработал кто-то...
– Сам видал, али так? Додумал потом?
– Месяц об этом думаю, Корнилыч. Хоть я сразу побежал народ созывать, но помню, что не могла лиственница корпус раздавить, ветки же ствол держали... И еще, слышал я вроде шаги в тот раз... Вокруг палатки...
– Как в кино,– улыбнулся Корнилыч.
Санька махнул рукой и прянул в темноту. После разговора с радистом на сердце у Корнилыча стало еще тяжелее. В партии творилось что-то непонятное, и он за это в ответе. Поговорить с Порховым завхоз не решался. Была у него перед начальником вина, а не такой Порхов человек, чтобы забыть о ней, когда узнает.
Ничего не боялся Корнилыч в этой жизни, все мог перенести, одного не терпел – унижения. Был он человеком с самолюбием, но мало кто об этом догадывался. В армии лейтенант приставил его на первых порах к кухне. Таежник Корнилыч по следу умел читать на снегу и на земле, а его сделали кашеваром, но он старался кормить солдат получше. А когда начались бои, стал одним из лучших разведчиков. Но все же и тогда его, бывало, унижали. Смеялись над его ростом или манерой говорить. А он улыбался. Улыбка была его щитом и его страховкой, он улыбался, когда его хвалили и когда ругали. Он улыбался, когда был прав и когда виноват. Со временем его перестали трогать, потому что этот всегда спокойный, улыбчивый человек, казалось, был непробиваем.
Не улыбался он, лишь оставаясь один и думая о Пашке, о непутевом своем братухе, который так вляпался в дерьмо, что неизвестно было, когда из него выберется и выберется ли вообще. Но сейчас о брате думать не хотелось, потому что у костра заговорили про войну, а слушать про нее Корнилыч очень любил. Колесников сидел рядом с Седым прямо напротив палатки, и высвеченные огнем их лица были отчетливо видны Корнилычу. Колесников щурил глаза, вспоминал фронт, Седой сидел прямо, молча, и было что-то в самом выражении этого красивого, но безмерно утомленного лица, с кругами синяков под глазами, что заставило Корнилыча прийти к странному выводу: а не жилец, Седой-то. Какая-то жила в нем порвана.
Когда от костра стали расходиться, у входа в палатку появился брат.
– Чо, не спишь, Паш?—спросил Корнилыч, выкладывая продукты на завтра.
– Братуха, помоги!
Корнилыч поднял голову:
– Обидел кто, чо ли?
– Братуха,– со стоном донеслось из угла.– Добудь ты мне отравы моей... надо уколоться. Помираю, пра слово.
– Пашк,– сказал Корнилыч, обнимая судорожно напряженное тело брата.– Очнись!
Пашка обмяк.
– Братуха,– пробормотал он,– попроси у Альбины... Из аптечки.
Корнилыч сидел в темноте усталый, безмерно одинокий.
– Пашка,– сказал– он,– мать умирала, помнишь, о чем просила? Человеком просила стать! А ты?
Опять судьба лупешила Корнилыча, как хотела. Чтоб он пошел за морфием к Альбине, да никогда!
– Не пойдешь? – спросил глухой и злобный голос Пашки,– Не пойдешь, да?
– За ядом этим не пойду,– твердо сказал Корнилыч.– И точка. Спать готовься.
– Ладно,– сказал в темноте Пашка.– Хрен с ним, с лекарством, ты мне завтра свою «дуру» не дашь? Я б с утра кедровок пострелял. Мужики жалуются – свежатины мало.
– Работать надо, а не по тайге шататься,– ответил Корнилыч, Он думал о том, как глубоко угнездилось в братишке безделье: о работе вообще не говорит.– Нельзя мне тебе ружо-то давать,– пояснил он.– Порхов это мне настрого заказал.
– Что-то больно полюбил ты начальство, братуха,– засмеялся Пашка,– ай много платют за это?
Корнилыч промолчал. Пашка в темноте чиркнул спичкой, поднес огонек к труту, тот задымился. Огонь высветил подвешенный на гвозде карабин. Глядя на него, Пашка спросил:
– А патронов хватит? Как без жратвы тут останемся – перво дело патроны.
– Два ящика,– ответил Корнилыч.– Хватит. А чего ты такой заботливый стал? Иди лучше спать.
Брат нехотя встал и вышел из палатки.
Когда Пашка ушел, Корнилыч раскатал спальник, скинул сапоги и залез в него. За парусиновой стенкой слышно было, как Колесников заливал костер, копошился и вдруг запел:
– Бро-ня креп-ка, а танки наши быстры!
А наши лю-ди му-жест-вом полны!
Корнилычу не нравилось поведение Альбины. Муж в двух шагах, она в партии – вторая по чину, а возле парня вертится. «Бабы,– думал он,– глупой народ. И чего хотят? Сами не знают». Память его мягко отплыла вдаль, в молодость, в предвоенный год, когда он уже каждый сезон ходил в тайгу, зарабатывал хорошие деньги, а Пашка учился в седьмом классе. Мать болела, боли у нее были адские но она переносила их терпеливо и померла, как и жила, без единого стона. В то время у старшего появилась женщина. Но он пожалел брата и не женился. А потом началась война, и Пашка остался один. Теперь же они вдвоем, а понять друг друга не могут...
Он спал всегда чутко, и сейчас проснулся от шороха и по привычке фронтовика, делая вид, что продолжает спать, поглядел из-под век. В палатке стоял Пашка и осматривал карабин. Вид у него был возбужденный, глаза блестели. Наклонившись над ящиком, он стал набивать карманы патронами. «Уж не уйти ли из партии собрался дурень,– соображал Корнилыч.– С него станется».
– Паш,– сказал он, высвобождаясь из спальника и садясь в нем.– Ты ружо-то оставь. Не положено мне его выдавать без разрешения.
Пашка, как стоял согнувшись над ящиком, так и застыл. Корнилыч начал обертывать портянки.
– Напрасно ты это придумал,– сказал он, сумрачно поглядывая на брата.– Все окольно, все вьюном, Чо хотел? Уйти собрался? А куда? Тут, кто покрепче тебя, до жилья не дотопает.
Он обул сапоги и встал, невысокий, крепкий, нахмуренный.
– Давай карабин, брательник,– шагнул он к Пашке, уже улыбаясь.– Ружо тебе не на пользу, однако. Ты с кайлухой пока ладить научись.
Пашка прыгнул к выходу и направил карабин в грудь брату.
– Вот чо,– сказал он, задыхаясь, лоб его был в испарине,– Слышь, не подходи, говорю – стрелю.– Голос его сорвался на визг, глаза были сумасшедшие.
– Сказился, поганец! – видя поднимающийся на уровень его лба ствол карабина, произнес Корнилыч,– А ну брось ружо!
Но Пашка, вдруг весь осунувшись, стиснул зубы и дернул затвором.
– Нужен мне карабин, а коли крикнешь, я те все пять пуль в брюхо встрелю. Понял?
Тяжелый, неудержимый гнев ослепил Корнилыча. Это ему братка говорит такие слова, ему, отдавшему все ради него? Да разве это человек? Не научили тебя – так он научит! Корнилыч шагнул, и Пашка выстрелил. Пуля цвикнула у самого уха.
– Значит, в брата стрелил, паря?—сказал он, подстерегая момент.– Видно, крепко родную кровь ценишь. Легко ее льешь.
Пашка отступил на шаг и был уже у выхода. Ствол карабина по-прежнему сторожил каждое движение Корнилыча.
– Баял я тебе,– сказал злобно Пашка,– нужен карабин. А раз нужен, так все одно возьму!
В ту же секунду, почти без размаха, Корнилыч швырнул в брата крышкой ящика и прыгнул. Он вырвал карабин, отшвырнул его и тяжело ударил в лицо осевшему Пашке.
– Ростил я тебя! – хрипел он.– Человека хотел сделать. А ты, каторжна душа, в брата стрелил! Змея! Паскудина подколодная!
Пашка застонал, Корнилыч опомнился, сел рядом с Пашкой, достал из кармана бинт, начал обтирать его лицо. Брат застонал, потом раскрыл один глаз, другой был залеплен синяком, взглянул на брата, сказал сипло:
– Не трудись, чо там... За дело бил.
И тут Корнилыч заплакал.
– Скотина ты! Бревно ты глухое,– бормотал он, тщетно пробуя сдержать спазмы горла.– Кто ж ближе-то тебя у меня?
Из единственного открытого глаза Пашки тоже потянулась слеза. Он с трудом сел и потряс за колено старшего.
– Не плачь, Кеш, поделом мне... Запутался я, Кеха... Пропал я,– он дернулся разбитым лицом и скривился от боли.– Не жилец я теперь.
Корнилыч выпрямился. Слезы у него разом высохли. Он вытер ладонью лицо и затеребил Пашку.
– Запутали, говори кто?
Но Пашка мотал головой и молчал, облизывая разбитые губы.
– Я понял! Это Хорь, он один мог! Так? Он карабин велел тебе выкрасть?
Пашка стрельнул в брата взглядом и отвернулся.
– Ясно,—сказал Корнилыч.– Только зачем, не пойму. Уходить, чо ли, из партии собрались?
Пашка дрогнул плечом, и Корнилыч понял: угадал.
– А чо уходить им? Ишачить не охота? Так идти тайгой – работа похлеще. Да и что уходить нормальным людям?
Он смотрел в разбитое лицо Пашки, а тот отводил, прятал взгляд.
– Стой,– сказал Корнилыч, осененный догадкой.– Санька говорил, чо рацию ему нарочно разбили. Чо не от дерева, однако, лампы побились, а кто-то потом хватил. Стоп! А когда первый раз лошадь упала, с ней этот их Глист был. Ни одна лошадь не упала, а та, что с рацией, в пропасть сорвалась... Это чо выходит? – Он не отрываясь, смотрел на Пашку, а тот, оцепенев, слушал брата.– Я принял этих людей в партию, а кто за них просил? Братка родной просил. А почему он просил за них, однако?—спрашивал Корнилыч, наливаясь злобой.– Знал, видно, зачем. Кто эти четверо, шпионы?– тряхнул он Пашку за шиворот.– Ну! Говори сейчас, потом хуже будет!
Пашка отвел глаза.
– Зачем им надо было рацию разбить? Кому продался, говори, последний шанс тебе даю.
– Какие шпионы? – пробормотал Пашка.– Из лагеря... Блатные...
– Беглые?
Пашка молчал. Корнилыч встал. Ярость раскалила его, сердце бухало, как на фронте, когда надо было подниматься в атаку.
– Сиди тут,– сказал он, накидывая на плечо карабин.– Сиди и жди!
Завхоз бегом поднялся в голец, открыл полог палатки канавщиков и вошел в нее. В углу кто-то тяжело храпел. Голова с челкой поднялась, зевнула и опять скрылась во вкладыше. «Лепехин,– отметил Корнилыч.– Дойдет черед и до этого. Главное:—Хорь». Тот спал у самой стенки палатки. Едва Корнилыч склонился над ним, как он открыл глаза, спросил:
– Чего бродишь, завхоз?
– А то,– сказал сквозь зубы Корнилыч, сдерживая ненависть.– Вылезай. Разговор есть.
Хорь смотрел куда-то за плечо завхоза. Тот оглянулся, увидел, что Лепехин сел в своем спальнике.
– Ты спи!—сказал ему Корнилыч.– Рано еще.
Лепехин посмотрел на Хоря, тут же упал в спальник и затих.
Хорь встал и быстро оделся.
– К чему столько спеху? – спросил он.– Пожар, что ли?
– Считай – пожар! – сказал Корнилыч, выходя вслед-за Хорем из палатки.– Айда во-он туда на верхотуру, там поговорим.
Ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся: никого не было.
– На верхотуру, так на верхотуру,– сказал Хорь.– Мне хоть где. Вооружился-то до зубов! На медведя, что ли?
– Считай – на медведя,– сказал Корнилыч, и они зашагали наверх.
– Давай тут толковать,– сказал Хорь и встал под березой.– Некому нас тут подслушать.– Он всматривался во что-то позади завхоза. Корнилыч скинул с плеча карабин.
– За то, что гнидой живешь, вражина,– сказал завхоз,– за то, что Пашку мово гадом сделал, поставлю я на жизни твоей точку.
В тот же миг морщинистое лицо Хоря вспыхнуло радостью. Корнилыч оглянулся, и тут же рухнул от страшного удара по голове.
Ему показалось, что на него обрушилось дерево. На самом деле он лежал с расколотым черепом, а над ним с кайлом в руке стоял Лепехин.
ХОРЬ
– Готов,– сказал Лепехин, наклоняясь над завхозом и выкручивая карабин из мертвых рук.– А кабы не поспел– кранты тебе. Хорь.
– Молоток,– сказал Хорь, утирая крупный пот на лбу.– В самое время. Видал, что фраер хотел? Дух из меня вышибить.
– Пашка прослюнил, сука! – сказал Лепехин.– Пришить надо.
– Суке – сучья и смерть,– подтвердил Хорь, все еще тяжело дыша.– Что делать будем?
– Карабин есть,– сказал Лепехин.– Кончаем всех, и ходу – к Охотке. У Порхова с Альбиной два карабина и винт. Их надо первыми брать.
Хорь встал, посмотрел на небо. Там медленно растекалась заря.
– Часов пять,– определил он.– Время есть, пошли.
Они зашагали между лиственницами и кустами стланника вниз.
– Нам бы до Охотки добраться,– размышлял Хорь,– там столько машин, затеряемся. Дальше можно по тракту. На Иркутск или к Хабаровску.
– Че-го? – сказал Лепехин, рывком останавливая его.– Эт-ты как же надумал? А меня спросил? В Китай пойдем.
– В Ки-та-ай? – изумленно переспросил Хорь,– Я по-китайски ни бум-бум, заблужусь еще.
– Зачем тогда на Охотку повертывать? – спросил Лепехин,– Я и думал: ты со мной.
– Нет, кореш,– замотал головой Хорь,– до Охотки нам на пару надо, а уж дальше у каждого своя дорога.
Лепехин долго оглядывал ближние сосны, потом сказал:
– Лады. Мне-то что! Твое дело. Пымают, все одно —хана. А я в Китай.
– Как знаешь,– сказал Хорь.– Как приходим, я в нашу палатку, а ты на стрёме. Подымаем своих и берем начальство.
Они спустились к самому ручью и, прячась за деревьями, вышли к табору. Хорь подождал, пока Лепехин, мягко ступая, станет за палаткой Порхова, и нырнул в общую. Алеха-возчик уже вставал, натягивал сапоги, давя на лице мошку. Хорь растормошил Амети-стова и Глиста, шепнул им, чтобы выходили.
– Чо в такую рань шасташь? – спросил Чалдон.– Не на охоту, паря?
– На охоту,– буркнул Хорь и выскочил из палатки.
Через минуту вышли Глист и Аметистов, которого приятели за красоту звали Актером.
– Выйдет Алеха, за ним,– приказал шепотом Хорь.– Никуда от него. Мы начали.
Он прошел до палатки Порхова, ощупал тесемки полога. Они были развязаны. Оглянулся. Насупленный Лепехин ждал позади, держа карабин на изготовку. Хорь откинул полог и вошел. В отверстие для трубы струился свет. Один спальник лежал у стенки палатки, в другом кто-то спал. Хорь огляделся. Карабин стоял в углу, прогибая своим весом парусину. Он, неслышно ступая, подскочил к нему и, схватив, показал Лепехину. Тот недоумевающе пялился на второй спальник. Кого-то одного не было. Лепехин шагнул к сложенной на чурбаке одежде, разворошил ее. К ремню была подвешена кобура. Лепехин открыл ее и вынул «ТТ». В это время спальник заколыхался, и Альбина вынырнула из вкладыша. Черные волосы сбились у нее на лбу, она отвела их.
– Что случилось?—спросила она.– Где Порхов?
– Это мы у вас спросим, где он,– сказал Лепехин, подходя вплотную к спальнику и глядя на нее сверху.
– Что такое? – с неуместной надменностью спросила она,– Что вы тут делаете, Лепехин?
Она села, придерживая на плечах вкладыш.
– Кто разрешил вам брать оружие?
– Ты, девка, не пыжься,– сказал ей Хорь, направляясь к выходу.– Скидывай портки, власть переменилась!
Лепехин, стоя над женщиной, медленно и жестоко улыбался, растягивая толстые губы.
– Что, Альбина Казимировна,– сказал он,– непонятно? Погоди, то ли еще будет?
Женщина смотрела снизу, оцепенев.
– Лепехин!.– позвал Хорь. Тот выскочил из палатки. Перед дымокуром сидел на корточках Алеха-возчик, раздувал дымок, над ним стояли Глист, Актер и Хорь. У Актера в руках , был пистолет. Хорь держал карабин. Лепехин подошел.
– И гляди,– говорил Хорь своим тихим голосом.– Крикнешь – считай, нету тебя на свете.
– Не пужай,– сказал Алеха-возчик, вставая.– Пужаные мы.– Он шагнул было к палатке, но дорогу ему загородил Актер.
– Ты уж с нами побудь,—посоветовал он, играя пистолетом,– а то как бы чего не вышло.
Послышался конский топот. Все обернулись к гольцу. Сверху галопом шел вороной. На нем высилась фигура начальника.
– Вот будет потеха!—захохотал Актер. Он оттянул предохранитель и дослал патрон в ствол.
Порхов спрыгнул с коня, бросил повод и вдруг увидел винтовки в руках Лепехина и Хоря, пистолет у Актера.
– Что тут происходит?—спросил он, делая шаг к ним.
– Пистолет-то с собой, начальник? – спросил Лепехин, укладывая на плечо приклад.– А ну брось его на землю!
Порхов дернул рукой, и тут же три выстрела ударили в утренней тишине, три пули взрыли землю у его сапога. Он подпрыгнул.
– Не нравится!—с удовольствием сказал Хорь.– Отстегни пояс, фраер!
Порхов смотрел на них. Лицо его стало серым.
– Ну! – заорал Лепехин, целясь.– Бросай ремень, падло!
Порхов вспотел. Он смотрел в дула, направленные на него, и мучительно что-то решал. Актер резко обернулся, повел прижатым к бедру пистолетом. Полуодетые канавщики, вылезшие на выстрелы из палатки, шарахнулись обратно.
– Бросай ремень, сука! – теперь выстрелил Хорь. Порхов снова подпрыгнул.
Все трое, крича и веселясь, стали расстреливать землю у его подошв. Не успевая сдерживать инстинкт тела, Порхов все прыгал. Глаза его почти вылезли из орбит. Пот капал с лица.
– Алексей! – услышал он вдруг и увидел стоящую у палатки Альбину,– Алеша! Не смей унижаться перед ними!
Актер хохоча выстрелил в ее сторону. Но Альбина не дрогнула. В парусине палатки задымилась дыра. Лепехин и Хорь снова стали целиться в Порхова. У самых его ног рвануло землю, но Алексей Никитич не пошевелился. Тогда Хорь понял, что дело может затянуться. Он кинулся к Порхову и, пока тот все еще стоял парализованный происшедшим, сорвал с него пояс с кобурой. Актер втолкнул в палатку Альбину. Хорь заставил последовать за ней Порхова. Потом двинулись к провиантской палатке совещаться.
Возле нее бродили стреноженные лошади, чернело вчерашнее огневище. Хорь закинул полог, и золотой параллелограмм света упал на тюки и ящики, наваленные внутри двумя огромными грудами.
– Поглядим, чего тут у него было,– сказал Лепехин.
– Мука! – объявил он.– Гречка! Рис! Сольца! Это правильно, это Корнилыч молодец! – Он захохотал.– Для нас припасал. Начальство-то, Хорь, заботливое у нас было.
Хорь сидел почти в полусне. Он сейчас вспоминал сорок четвертый год, когда погорел с корешами на банке. Нюхали вокруг они две недели. По банкам в это время мало кто работал: давали за это «вышку». Время строгое, военное, про амнистию – никаких разговоров. Кое-кто из корешей дрейфил. Но он верил в свой фарт. Четыре года он уже шлялся на свободе, хотя за ним шел срок «десятка» и добавка за побег в сороковом, на четвертом году отбытия наказания. «Ксива» на этот раз была в лучшем виде. Паспорт и белый билет – он всегда добывал себе белый, чтоб не попасть под военный трибунал,– чище не придумаешь.
Банк они чистили на рассвете. Милиционера тяпнули по черепку, но не до «летального исхода», как выразился Профессор – лучший из медвежатников, встреченных им за все время веселой жизни. Они работали четко. У банка ждал военный грузовик. Один из шайки состоял при штабе округа. Подвел случай. В тумане не заметил патруль, и солдаты вышли прямо на них. Профессор после первого окрика побежал, это их и завалило. Он до сих пор помнит то ощущение странного спокойствия, когда из рассветного морозного тумана вывалилось четверо в полушубках, треухах и валенках, с автоматами на ремнях. Он уверенно шагнул им навстречу, у него был липовый документ на вывоз семисот тысяч денег на нужды Уральского добровольческого корпуса. Но Профессор, вынесший из дверей банка ящик, увидел четверых одновременно с ним, бросил ящик на мостовую и побежал. После третьего окрика его срубили из автомата, а остальных взяли, кроме Ежа. Тот попытался пришить финкой конвоира, но второй сторожил его сзади и убил на месте.
Спасло Хоря, что кореши не раскололись. Все дружно указывали на Профессора как на организатора. Все написали прощения о помиловании с просьбой отправить их на фронт. «Чтобы своей кровью»,– как писалось в то время,– и все такое... Но он схлопотал четвертак. Однако на прежнюю его фамилию не вышли. И чудно. Отпечатки у них были. Видно, война многое запутала. К тому же данные о Барышеве были в Ленинграде, а мало ли что там произошло в блокаду! Он же теперь был Коляскин. Попробуй угадай.
– Жратвы на два месяца, не меньше! – сказал, подходя и садясь, Лепехин.– Давай решать.
Хорь только взглянул на него и опять задумался. Лепехин ему помог. Сегодня спас. Иначе завхоз мог и пристукнуть. Чудило, из-за Пашки... Нашел из-за кого.
– Где шестерка-то? – спросил он.
– Кто? – спросил Лепехин, поглаживая приклад карабина.– Глист? На стреме. Сам же поставил.
– Пашка где?
– А-а!—Лепехин усмехнулся.– Сбег, курва! Иначе где ему быть? Знает, платить приходит срок.
– Плохо,– сказал Хорь.– Дрек наше дело.
– Не боись.– Лепехин сощурил и без того маленькие глаза.– До милиции не добежит. Мы скорее того в Китае будем.
– Эти разговорчики, кореш, для грудных запаси,– хохотнул Хорь.– Я, братишка, советский. Нет мне резону отсюда сматываться.– Он стал серьезен.– Ты, Лепеха, пойми. Тебе выгоднее со мной идти. А тогда маршрут иной. На Охотку, может, даже хуже, чем на Читу. Подальше, зато со смыслом. У меня кореша как грибы: что под березой, что под осиной. В Чите, Иркутске, Томске, по всей Железке и в Питере, и в Москве.
– Слушай сюда, Хорь,– сказал Лепехин, сверля его кабаньими глазками,– я тебя в деле видел в скажу: меня ты не стоишь. На хитрости ты скор, а на сполнение – не ловок. Я это тебе не так говорю, я на войне четыре года отмахал, унтер-офицером был, а все твои штуки с войной не сравнятся. Говорю тебе так: я пойду на Охотку, а на Читу – без меня пойдешь. Я иду на Охотку, и Актер со мной. Вдвоем идем – проводник нужен. Алеху с собой берем и штук пять лошадей– не мене. Вот так я это дело понимаю.
Хорь, причмокивая губами, слушал Лепехина с видом полного равнодушия. На самом же деле он был оскорблен до глубины души. Этого типа он выволок из лагеря. Без его связей, без его работы он и сейчас бы гнил там, за проволокой.
– Власовец вонючий,– сказал он сквозь зубы,– мало вам русские харю-то кровью умыли. Сволочь ты. Кто послал корешей в Иркутск, чтоб тебе «ксиву» оформили? Кто уговорил «отпускных», чтоб они подрядились в партию? Кто плановал над побегом? Кто своего добился? Ты, вошь тифозная?
Лепехин не отвел взгляда, и взгляд этот был тяжелый, завораживающий.
– Что было, то было, Хорь,– сказал он и притянул карабин поближе к бедру.– А теперь, как я скажу, так и будет. И ты не рыпайся, паскуда,– он вскочил одновременно с Хорем, и ствол карабина, упершись тому в грудь, заставил Хоря сесть.– Хочешь войну со мной начать? Тут морга нет, так сгниешь.
Хорь молча разглядывал Лепехина. Вышло не так, как он ожидал. Кореш становился врагом. А это всегда опасно. Надо было торговаться. Ссориться с Лепехиным не время.
Затопали сапоги, в отверстие взглянула голова Глиста.
– Хорь,– сказал он, облизывая губы.– Тут эти... канавщики... просят, чтоб их до ветру пустили. Как скажешь?
– Пущай под себя ходят,– угрюмо пробормотал Лепехин.– Недолго им землю марать.
– А потом,– полюбопытствовал Глист,– отпустим их или как?
– Отпусти,– сказал Лепехин,– милосерд больно, зелень! А кого потом в свидетели позовут?
– Пришить я их не дам,– сказал Хорь холодно и уперся взглядом в Лепехина.– Ты, скотобаза, в Китай попрешь, а нам тут работать. Нас возьмут – я за всю мокреть ответчик? Или он? – Хорь кивнул на обомлевшего от его слов Глиста.– Чтоб «вышка» сразу?. С нами они пойдут.
– Правильно,– завопил Глист,– да и веселей! И дорогу они знают!
– Цыц,– рявкнул Лепехин.– Пошел отсюда!
Глист исчез и тут же всунулся опять.






