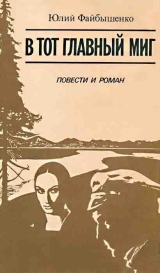
Текст книги "В тот главный миг"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Они ушли. Не тронули. Но хозяйка в ужасе свалила его на телегу и повезла через все фронты. Она была уверена, что те вернутся...
Чалдон остановился. Размышляя, он не заметил, как стал все больше отворачивать от реки. Мрак стоял вокруг плотный, тугой. В темноте в тайге жутко даже привычному человеку. Ухнул филин и смолк. Низко, цепляясь за хвою, пролетела сова. Деревья пропали во мраке, лишь гуд и треск выдавал их присутствие. Запах вечерней сырости наползай с реки. Чалдон почувствовал, что устал. И все-таки надо было идти. Ночью Лепехин должен себя выдать. Ночью звуки слышны далеко. Да и костер. Без него он не обойдется.
Чалдон неторопко полез в голец. С вершины что-нибудь увидишь, да и утром хорошо. Ночку он тут переможется, а с утра у него обзор на десятки верст.
Он шел чутко, обостренно слушал, дулом заряженного карабина караулил мрак. Глаза начинали привыкать к темноте. Да и луна уже вышла, странным призрачным светом высвечивала стволы.
Чалдон подумал, что, ежели бы с ним в партии был Епиха, кровавой этой заварухи точно б не произошло. Хоть Епиха и умер в сорок втором совсем молодым, двадцати двух не полных лет, но Чалдон, знавший его чуть не с пеленок, верил его чутью и понятию.
– Эх, Епиха-Епиха... Сожгли тебя подлые Лепехины, но дай срок, я посчитаюсь...
Не стало друга – жизнь пошла не так. Чалдон и сам был парень самостоятельный, но с Епихой вдвоем они горы могли свернуть. Всегда хорошо, когда в большой драке можно стать спиной к спине и верить в надежность отпора там, позади, тогда и сам маху не дашь.
После войны, когда приехал Чалдон в родное село, многое пошло прахом. Не дождалась его Настька Бакланова. Уехала на лесоповал, вышла там замуж в сорок четвертом за какого-то начальника. Баб, правда, было хоть заметом греби. Из мужиков и парней вернулся с войны разве что четвертый. Вешались на бравого разведчика вдовы, клали на него глаз девки из выросшего за войну молодняка. Но опостылело ему в селе. Мать и бабка еле тянули хозяйство. Отец погиб под Питером. Братья повыбиты: один – инвалид, без руки вернулся. Решил Василий податься на заработки. Скучно было в родных местах без Епихи, да и хозяйству нужна была помощь нешуточная. Так и пошел он с сорок шестого по геологическим маршрутам, так встретил он паскуду эту, Лепехина...
Чалдон помнил, как резануло его в самое сердце, когда тот палил сверху в них, вмятых в песок, и вопил, что он унтер-офицер «русской освободительной армии». Не мог простить Чалдон власовцу своего позора, того, что он, гвардии младший сержант, победитель, кавалер двух орденов Славы, ордена Красного Знамени, шести медалей «За отвагу», лежит в песке, а тварь, которую он победил и которой наступил ногой на горло в сорок пятом, через три года в его родных местах глумится над ним, над памятью его сожженного друга, над всей его такой тяжкой победой. Он был сибиряк, решения принимал не сразу, но тогда поклялся себе, что, если минуют его эти пьяные слепые пули, он с Лепехина шкуру спустит.
Чалдон взобрался на голец, сердце тяжко бухало в груди. Он стал спиной к сосне и огляделся. И вдруг... Быть того не может... Нет, точно... Метрах в трехстах внизу горел костер. Он вспыхивал и тут же пропадал, словно прятался куда-то.
«Вот,– подумал Чалдон,– мое время пришло».
Он немного подождал, обдумывая, как лучше подобраться к костру. Лепехин был мужик тертый, его дуриком не возьмешь. Чалдон решил, что обойдет его с другой стороны, откуда тот не ждет. Он медленно двинулся вниз, прикладом ощупывая дорогу, помогая себе. Главное было не хрустнуть какой-нибудь палой веткой, а они, как назло, все чаще попадались под ноги. Если б по ровному месту. Чалдон бы сумел пройти беззвучно, но тут в темноте можно было, того гляди, сорваться и покатиться по склону, а это сразу давало Лепехину все преимущества. Поэтому он тихо спускался, от дерева к дереву, не теряя из виду костер. «Почему у костра никого не видно, не капкан ли? – думал Чалдон.– Огонь, как наживка, я сунусь, а он – вот он». До костра оставалось шагов сорок. Тут местность шла ровнее, но хворост все-таки успел напоследок звонко обломиться под ногой. Он застыл на месте и долго слушал. Все было тихо, но он был разведчик и знал, что на войне нет ничего страшнее тишины. Наконец все же двинулся к огню, выбирая в уме наиболее точное и хитрое решение. Карабин был крепко зажат в руках, и он знал, что, если Лепехин даст ему одну секунду, он ее не упустит.
Чалдон бесшумно обошел громадную лиственницу, шагнул вперед и тут же шарахнулся от чужого движения рядом. Темная фигура в двух шагах от него выпрямилась, глухо ахнула, и резкий свист ножа прорезал воздух. Чалдон дернулся от боли, но успел спустить курок. Он уже падал, когда фигура у лиственницы рванулась, забилась, потом медленно осела, съехав по стволу. Плечо жгло. Он знал, что если сейчас вырвать клинок – ударит кровь. Шатаясь, поднялся. Враг был в трех шагах. Чалдон подошел, не выпуская из рук карабина. Луна была высоко, и свет ее, не проникая под свод лиственницы, все же помогал, видеть. Власовец лежал, скорчившись, подмяв под себя левую руку. Карабин его, вставленный в рогатину, торчал вверх дулом, прикладом в землю. Чалдон встал над телом врага. Почему Лепехин не стрелял? Наверное, потому что он вышел слишком близко от власовца и карабин с упора мог ударить ему только по ногам. Лепехин положился на нож...
Боясь наклониться из-за режущей боли в плече, он стоял и разглядывал темное лицо с накрепко зажмуренными глазами. Нож в плече мешал движениям, боль нарастала. Он ткнул дулом Лепехина, и тот вдруг со стоном разлепил веки. Глаза его, прищуренные от страшной боли, смотрели с мукой, ненавистью, с мольбой.
Чалдон, стараясь не наклоняться, сел около.
– Куда пуля-то вошла? – спросил он.
Лепехин заскрежетал зубами.
– Сука,– пробормотал он,– сука большевистская... Обхитрил.
А то бы сам лежал.
– Ничо,– сказал Чалдон, усмехаясь.– Я б лежал, другие нашли б, однако... Такого зверя все одно затравили б, паря. Расея, она предателей не прощат.
– Ду-ура...– выдохнул Лепехин.– Кому служишь?.. Коммунистам... Чтоб они жрали да пили... А ты им подноси...
– Слыхали,– сказал Чалдон, прикрывая глаза. Голова у него кружилась.– Холуй ты немецкий. Шавка ты, хошь и хищная...
С минуту они помолчали. Лепехин хрипел и корчился на земле, Чалдон старался не потерять сознание. Кругом бормотала листва.
– Помираю,– просипел Лепехин.– Ошибся... Коли б в плен тогда не попал... так сам бы так посиживал... Васька,– он, волоча руку и второй гребя, как в воде, подполз к Чалдону.– Слышь... Помираю...– глаза горели на буром лице.
– Что ж, паря,– сказал Чалдон, косясь на него.– Как жил, так и помирашь. Собаке собачья смерть.
– Васька,– шепотом кричал Лепехин,– пойми: в плен попался... Не судьба... Ежели на фронт... в другой год... я бы в козырях.., ходил... Не предатель я... Планида такая...
– Помирашь, а врешь, однако,– сказал Чалдон, потряхивая головой, чтобы прогнать дурноту.– Плен – пленом, а человек – человеком. Не русский ты... Отцов и дедов предал. Как шавка, перед Гансом хвостом вилял. Родову свою продал, кровь русскую лил. Чо ж, однако, хочешь-то, паря?
– Не на тот кон поставил... А был, как все... В лагере... Никто не вы... не выдерживал.
– Кого обмануть хошь? – спросил, поворачивая к нему голову, Чалдон.– Бога? Дак он, коли есть, все видит. Меня? Дак я сам в плену был. Падаль ты, паря, и помирашь, как падаль. Нету тебе прощения.
И тут Лепехин кинулся, ударился головой о плечо Чалдона и сполз вниз.
От дикой боли в ране все в Чалдоне взвыло. Но он еще нашел в себе силы, чтобы ощупать Лепехина. Тот был мертв. Посчитался он с вражиной. И за Епиху, и за себя, и за Расею... Чалдон расстегнул гимнастерку, отодрал клок нижней рубахи. Боль шла страшная, раздирала сердце. Не давая себе опомниться, он рванул нож из плеча, заткнул рану тряпицей и намертво прижал ее правой здоровой рукой. Тотчас все закрутилось перед глазами, запрыгали тени и лунные блики, и, помня только, что нельзя отрывать руку от плеча, он рухнул навзничь.
КОЛЕСНИКОВ
Решено было на ночь выставлять караульных. Первым вызвался охранять табор Владимир. Весь день его жгло чувство вины и странное озлобление. Колесников злился на Соловово, так нелепо покончившего с собой, злился на Чалдона, ушедшего вслед за Лепехиным невесть куда, злился на Альбину, за спокойствие ее поведения, за сочувственные разговоры о Соловово, которые она с ним несколько раз пыталась заводить. Разве у них не было своих, только им близких, тем? И, конечно, больше всего он ненавидел сейчас себя. Он размяк, он не у дел, все нашли какое-то свое решение. Чалдон вышел на охоту за зверем и никого не позвал помочь. Может быть, он лежит сейчас где-нибудь под кустом стланика с простреленной грудью или перерезанным горлом, а Колесников сидит здесь, таращится на звезды и глупо ждет: придет ли Лепехин мстить за своих корешей? Соловово, этот интеллигент! Как он смел решиться умереть? Что за философия! Ему, видите ли, не нравится этот мир, и он пожелал из него убраться! Не нравится, так переделывай, что за слюнтяйство драпать на тот свет! Конечно, жизнь не дарит одних подарков! Но, черт побери, разве мало есть такого, из-за чего стоит жить?
Он сидел на чурбаке у костра. Пистолет оттягивал карман брюк. Неподалеку, изредка всхрапывая, дремали лошади. Три лошадиных трупа так и валялись посреди лагеря. Сегодня до них руки не дошли, завтра они их зароют. В палатке, где разместилось начальство, горела свеча, и Альбина, по временам появляясь, вытряхивала какую-то дрянь, оставшуюся после хозяйничанья урок. Вот она опять появилась, выбросила ветошь и тряпки и взглянула на него. Владимир спокойно встретил ее взгляд, она постояла немного, потом ушла в палатку. Опять, как в начале сезона, палатка их была освещена, и видны были две тени, сидевшие спиной друг к другу. Колесников с волнением наблюдал за силуэтами. Они сидели в тех же позах довольно долго, потом длинная тень Порхова качнулась, он повернулся, дунул на свечу, и все исчезло во тьме.
Владимир, яростно затягиваясь, докурил и выбросил самокрутку. Итак, надо на этом поставить точку. Никто не давал ему права на что-то надеяться. Они разговаривали, он помогал ей в походе, но никаких слов или обещаний она не давала. И нечего таращиться на их палатку и прислушиваться к шорохам.
Он заставил себя прекратить это чертово курение. В чем дело? Отчего он так взволновался? Женщина, которая ему нравится, предпочла другого – собственного мужа? Это ли трагедия? Умер, сорвав с себя бинты, друг? Но сам-то он жив! Ушел другой близкий человек, может быть, на смерть, что ж, такова жизнь. Его никто не посылал в погоню за Лепехиным...
Но стать циником Колесникову не удавалось. Он просто не мог им стать. И весь изболелся от того, что вовремя не смог понять, что собирается сделать с собой Соловово. Он же знал Викентьича. Он был иной, у него было иное отношение к миру, и можно было ждать, что столько смертей не пройдет для него даром. Нормальная логика борьбы не доходила до Соловово. Он, Колесников, должен был следить за ним и прийти на помощь, когда Соловово ослабнет. Стране нужны и такие, как Викентьич, с его дружелюбием, гуманностью, огромной образованностью, а он бегал тут, взвинченный тем, что женщина, принадлежащая другому, прижалась к нему на секунду. Прижалась в такой момент, когда даже фонарный столб мог сойти с ума от радости. И сейчас Чалдон бредет где-то в поисках врага. Лепехин должен умереть. Это враг. Он враг страны, народа, строя, враг его, Колесникова, но только один Чалдон бросился по его следу.
Колесников выплюнул в костер окурок и, вскочив, зашагал в темноте. А женщина – что ж, она права. С Порховым она связана несколькими годами близости, общими интересами, постелью, наконец,– от этой мысли он чуть не закричал. Что они делают сейчас там, в палатке? Но, раздери его дьявол, какое дело ему, Колесникову, что делают ночью в своей палатке супруги Порховы?! Кто он в конце концов – мелкий завистник? Жалкий сластолюбец, жаждущий вырвать у другого кусочек счастья? Или мужчина, воин, строитель, каким всю жизнь себя считал, как бы с ним ни шутила злодейка-судьба?
Теперь он озлобился окончательно. Дошел до того предела злобы на самого себя, когда человек становится тверд, как камень. Нет, он не побежит за ней, как щенок, жалобно поскуливая и ласкаясь. У него своя жизнь и свои планы. Первое, что завтра он сделает, это пойдет на поиски Чалдона. А потом... Потом все будет так, как он решил перед выходом из лагеря. Случайность и чужой навет прервали нормальный ход его жизни. Но он не сломался. Случайность случайностью, а он всю жизнь учил, что закономерности побеждают. Закономерность его жизни состоит в том, что он сильный, самостоятельный человек, что он коммунист и офицер. И опять станет тем и другим, чего бы это ему ни стоило. И опять будет делать свое любимое дело – летать и обучать этому других. Если же не удастся летать, он будет строить самолеты. В тридцать лет ничего еще не кончено. Есть впереди возможность учиться, а затем работать там, где он решит. Все...
Утром Порхов подъехал к ним, горяча лошадь. Альбина ждала на Сером неподалеку.
– Вот что,– сказал Порхов, холодно оглядывая всех троих.– К нашему приезду убрать это.– Он ткнул рукой с плетью в сторону лежащих лошадиных тел,– и готовьтесь к выступлению.
– Мы должны выяснить, что с Косых,– сказал Колесников, с усилием поднимая выцветшие за ночь, словно пропыленные глаза.– Я и они должны пойти на поиски.
– Сам придет! – отрезал Порхов.– Его никто не гнал за этим гадом. Сам увязался.
Колесников в упор посмотрел в это скуластое, толстогубое лицо с маленькими глазами, с русым начесом, сваливавшимся на угол лба.
– Мы пойдем,– сказал Колесников.– А как вы решите,– ваше дело.
Порхов еще с минуту покалывал его лицо жесткими серыми глазами, потом повернул голову к остальным:
– Выходить из лагеря запрещаю.
Он повернул коня, и они с Альбиной поскакали вверх на голец.
– За образцами,– сказал Нерубайлов – Упрям начальничек. Чалдона-то бросить, что ли?
– Я иду,– сказал Колесников, ощупывая в кармане пистолет и прикидывая, сколько захватить патронов.– Кто со мной?
– Так не приказано,– почесал в затылке Нерубайлов.– Может найдется Васька, а, Палыч?
Колесников и это отметил. Теперь для Нерубайлова он был не Владимир Палыч, а просто Палыч. Времена его командирства кончились безвозвратно. Он усмехнулся. Ладно, это еще можно пережить.
– Я пошел,– сказал он.– Ваше дело: ждать меня или не ждать. Он повернулся, чтобы идти, когда Федор Шумов схватил его за руку. Веснушчатое лицо его было все в поту.
– Это,– бормотал он.– Я... это...
– Что? – спросил Колесников.
– Я, браток, тоже... Я Ваську бросить не могу, однако... Соседи мы с ним, паря... Да и тайгу я лучше знаю. Вот...
– Идите, ребятки,– согласился вдруг Нерубайлов, глядя под ноги.– Дело ваше правильное. А я пока тут порядок наведу... Стяну туши в яму.
...Они вернулись в лагерь под вечер. Чалдона несли на жердинах, застланных хвойными лапами. Чалдон метался в бреду и все звал какого-то Епиху. Альбина, увидев его, кинулась к раненому. В лагере было чисто. Потный Нерубайлов плескался в реке. Стреноженные лошади скакали между палатками. Подошел Порхов:
– Где нашли?
– Дак это,– начал объяснять Шумов.– Мы-то прошли было его... Аккурат около остановились и пошли, однако, дале. Кедровки помогли. Оченно они, паря, там кричали. Вернулись на полянку. Энтот ешо живой, а отчего: как падал, руку с тряпицей от раны не отнял. Кровь сдавил. Теперча жить будет, однако.
– А Лепехин? —спросил Порхов.
– Кончил его Василий,– сказал, удивленно качая головой, Федор.– С одной пули кончил. Охотник, однако. В наших местах, паря, все охотники. Даром пули не стратят.
Порхов постоял, коротко и непонятно взглянул на Альбину, потом сказал:
– Завтра выходим. С утра. Чтоб готовы были.– И ушел.
Колесников постоял рядом с Чалдоном, но около него уже хлопотала Альбина. Шумов побежал за водой для промывки раны, а Колесников, видя, что нужды в нем нет, ушел в провиантскую палатку спать. Два спальника валялись в углу. Он расстелил один. Плевать, что в нем спали урки. Не до таких тонкостей сейчас. Свалился и поплыл в легкой полудремоте. Он очень устал за эти два дня, но нервы были так возбуждены, что заснуть по-настоящему не удавалось. В полудреме Владимир слышал топот и храп лошадей за парусиновым тентом, разговоры Нерубайлова и Шумова, голос Альбины, отдающий приказания, треск костра, шорохи тайги.
В палатке было темно, и слипшиеся веки с трудом открывались и смыкались опять. И вдруг он услышал еле заметный шорох. Сел в спальнике и, разыскав в карманах спички, чиркнул. Дрожащий огонек высветил вход и стоящую в нем Альбину.
Он сразу проснулся. С оглушительной ясностью шумела за парусиной тайга. Пахло какой-то плесенью. Она стояла в нескольких шагах перед ним и смотрела. Спичка погасла.
– Альбина Казимировна,– спросил он хрипло,– припасы...
– Нет,– сказала Альбина,– я не за этим.
Она подошла и села рядом с ним на спальник, и все стало еще яснее и еще нереальнее.
– Колесников,– сказала она чуть дрогнувшим голосом.– Володя... Как вы ко мне относитесь?
У него все перевернулось в мозгу. Черт побери, зачем ей это? Ну и женщина! Но надо было не терять себя. Он прокашлялся.
– Я... С большим уважением...
Она засмеялась. В смехе была боль.
– Володя,– сказала она, протягивая руку и легко касаясь его холодом ладони.– Дело в том, что я люблю вас.
Он задохнулся. Все рушилось в этом мире, и все вставало из пепла.
Они сидели, тесно слитые, почти неразделимые, он чувствовал в ней каждую жилку и каждое биение сердца. Не о чем было говорить. Но говорить им было и не надо.
Внезапно откинулся полог, и луч фонаря, пошарив по углам, нашел их и остановился на лицах, заставив зажмуриться.
– Ясно,– сказал голос Порхова.– Ясно... Времени тут не теряют.
Фонарь погас, хлопнул полог.
– Все? – спросил Владимир, еще не веря.
– Все,– сказала она.– Оно давно было все. Но сегодня все стало на свои места. Я сказала ему. О тебе и о себе. И о том, что, даже если ты меня не любишь, жизни у нас не будет. Мне стыдно, как он вел себя в это время. Он сказал: «А что, собственно, произошло? Просто неприятности среди сезона. То, что урки погубили Корнилыча, это паршиво. Саньку тоже жаль. Но остальные-то – все отбросы. И этот Соловово–репрессированный». Смысл этих слов наконец дошел до Колесникова и вернул его к реальности.
– Так это были всего лишь неприятности? – спросил он.– Только неприятности, и все?
Но зачем они обсуждают этого человека? Его не исправить. Он нашел золото, а на остальное ему наплевать. Но им-то он зачем? Владимир смотрел на Альбину. Глаза ее поблескивали в темноте, как у косули.
– Любимая,– сказал он.– У меня ничего нет... Я даже не знаю, куда мы с тобой сможем поехать.
– И у меня ничего нет,– сказала она, охватывая его шею руками.– Но ты у меня есть. Мне этого хватит.
Колесников понимал, что они, конечно, страшные эгоисты. Убиты люди, стонет и бредит неподалеку раненый товарищ. Но он любил ее, эту женщину, и ни о чем больше не мог сейчас думать. Он любил ее, и она любила его, и товарищи, те, которые остались в живых, и те, которые лежали в земле, должны были понять его и простить. Он сделал все, что мог, и теперь имел право на счастье.






