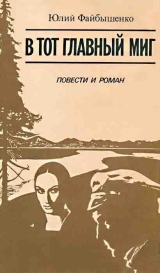
Текст книги "В тот главный миг"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
АЛЕХА
К вечеру, после трудного подъема, взобрались на хребет и тут остановились. В котловине, куда им предстояло спуститься, лежало озеро, ровное, как блюдце с черной водой. Вода под редкими вспышками солнца не просвечивала и только близ берега смугло цвела золотым отвесом заката. Алеха-возчик вывел лошадей на небольшую каменистую площадку, от которой начинался пологий спуск к воде, и оглянулся на подъехавшего Хоря.
– Табор тут будет! – сказал Хорь.– Разбивай палатки.
В молчании хмуро разбили лагерь. Актер разложил костерок.Альбина и Порхов первыми вошли в палатку и легли сверху на свои спальники, каждый в своем углу. Остальные побрели к озеру. Алеха начал осматривать лошадей. Одну надо было перековать, да разве в тайге это сделаешь? Лошадей Алеха любил. Он вспомнил детство, двор с амбарами и кирпичными конюшнями, горячий запах конского пота и кислой конской шерсти.
Воспоминания Алехи прервал разговор в палатке. Он сидел, прислонившись к парусине, и все слышал.
– Алексей,– сказала Альбина,– надо искать выход.
– Вот ты и ищи,– яростно просипел Порхов.– Ты ж у нас фронтовичка. Недаром возле бывших офицеров хвостом вертишь!
– Перестань говорить пошлости. Давай лучше о деле. Ты начальник партии и отвечаешь за все, что случилось...
– Я больше не начальник...
– Для этих уголовников ты действительно больше не начальник. Но для остальных. И если готов...
– К чему тут можно быть готовым?
– Они убили Саньку, могут перебить всех. Ты должен поднять и организовать людей.
– Ничего я не должен. Ты с завхозом наняла этих уркаганов, а мне отвечать? Нет. Я выпал...
Его голос погас, и в палатке наступила тишина.
Алеха поднялся, вздохнул. Бывшее начальство отступилось, от нового не знаешь чего ждать. Одна надежда на самого себя. Он двинулся к палатке Хоря, взялся было за полог, но, услышав голос Лепехина, опустил руку.
– Чего тянешь, Хорь? – говорил Лепехин.– Теперь мы все одной веревочкой повиты... Возьмут – всем пришьют «мокрое». Вот Глист—и тот дрейфит. Я это к тому, что на хрен нам с собой балласт таскать? От них каждый день жди... Я, брат, в войну пленных охранял, знаю...
– Чьих пленных-то? – ядовито спросил Хорь.
– Большевиков. И в расход их пускал без всякой милости.
– Большевики-то все сплошь жиды были?
– А хоть и русские,– ответил Лепехин.– И ты меня, брат, этим не упрекай. Я их, гадючье племя, как стрелял, так и стрелять буду. Ну зачем, скажи, ты с собой столько народу тащишь?
Алеха услышал, как они разливают и пьют спиртное, у него запершило в горле. Подумал с завистью: «жизнью наслаждаются, гады, а нам – так шиш».
– У границы всех отправим червей кормить,– снова раздался голос Хоря. Он что-то жевал и смачно чавкал.
– Альбину попридержим,– сказал Лепехин и потянулся.– Королевна-баба... Сгодится на дорожку.
Глист противно захихикал.
– Насчет Альбины решим,– помолчав, сказал Хорь,– а остальных – где-нить на дороге, чтоб нежданно.
– Добро,– заключил Лепехин,– чтоб визгу было меньше. Лей! – О жестяное днище крышки опять ударила струя.
У Алехи в животе странно захолодало, он хотел привстать, а ноги не держали, «Сволота!.. Вот как? Так вот они как... Ладно».
Он сидел на мокрой траве, ладонь его заледенела от сырой пропрохлады валуну. «Значит, всех кончат... А меня-то за что?» Он рывком встал и бросился к костру. Не-ет, братцы, меня так не возьмешь. Я всякое видел и выжил. Я вам не бычок на веревочке,– судорожно думал он, спускаясь с обрыва. Внизу в наползающем лунном свете видны были силуэты сидящих у самой воды канавщиков, шел негромкий разговор. Едва Алеха спустился, рассыпая сапогами мелкие камешки, разговор угас. Потом Нерубайлов сказал:
– Нет, ребята, надо этих гнид передушить, иначе они нас передушат, и вас, гражданин, тоже.– Он кивнул в сторону Соловово.
Опять помолчали. Потом взволнованный голос Колесникова спросил:
– Сейчас-то, интересно, чем они занимаются?
– Пьют,– откликнулся Алеха.
– Где достали? – с завистью спросил Чалдон.
– Корнилыч покойный сберег.
– Да, а выпить бы сейчас в самый раз,– вздохнул Алеха,– они ведь пришить нас собираются. Как к границе дойдем...
Слышно было, как сыплется песок, уносимый волной.
– Кранты, значит? – ужаснулся Чалдон.– Да что ж мы, паря? Аль мы скот безрогий?
– Спокойно,– сказал, повышая голос, Колесников.– Давайте, товарищи, обсудим ситуацию. Теперь точки над «и» расставлены. У нас выход только один: бороться.
– Надо к Порхову идтить! – продолжил Нерубайлов.– Он начальник, пусть и командует.
– Сломался он, робята,– уставшим голосом продолжал Алеха.– Альбина его подбивала, говорила, действовать надо. Отказался.
Опять замолчали. Издалека ровно шуршала тайга, да неслась пьяная песня из провиантской палатки.
– Гуляют победители,– усмехнулся в темноте Соловово,– наверху гульба, внизу заговор – типичная революционная ситуация,
– Ты! – вдруг взъярился Нерубайлов.– Ученый! Все насмешечки строишь! Говори враз, лахудра копченая, с нами али против?– Он бросился к Седому, но Колесников разнял их.
– Вы что, с ума посходили? Нам друг за друга держаться надо, а вы грызетесь.
– Как пауки,– пробормотал Соловово.– Не привыкла Россиюшка к парламентаризму, что не по ней,– за грудки!
– Товарищи,– опять посадил поднявшегося было Нерубайлова Колесников,– не будем терять времени. Давайте выработаем план, выберем старшего и начнем действовать. Время у нас пока есть.
– Ты и будешь за старшего, паря,– сказал Чалдон.– И голос у тебя, и привычка, однако.
– Верно,– сказал Нерубайлов.– Он и по званию капитан,
– Кто несогласный? – спросил Чалдон.
– Согласные,– сказал Алеха.– Только что делать: оружия нет. Даже ножи отобрали!
– Эй, божья душа,– позвал Чалдон. Федора Шумова,– подь сюда, дезертирское благородие! Ты с фронта сбежал, второй раз не дадим. Говори, курий сын, с нами или как?
– Я – отдельно,– сказал Федор поспешно.– Насчет какой крови – это мне нельзя... А в чем другом помогу... Только чтоб без смертоубийства... Этого, паря, я не могу.
– Оставьте его, Нерубайлов,– приказал Колесников. – Потом поймет. Нам надо...– Из темноты раздался выстрел, просвистела пуля и послышался резкий голос Лепехина:
– Сталинские соколы, ложись!
Все рухнули, стараясь как можно плотнее уйти в песок, закрывая локтями головы.
– Ат-деление! – скомандовал наверху Лепехин.– По отступающему противнику – а-гонь! – четырежды грянула винтовка. Пули тупо шлепнулись в песок. Слышен был лязг вылетающих гильз.
– Эй, большевизия! – продолжал орать Лепехин.– Я, унтер-офицер отдельной антипартизанской бригады, приказываю встать!
Все лежали, влепившись в песок.
– Ро-о-та! – подал себе команду Лепехин.– По затаившимся красным гадам – о-гонь!
И снова в песок вошло пять пуль.
– Я вас, сук, вешал! Я вас, гадов, душил, я шкуру с вас драл! Лежите, жрите землю! Пока время не настало... Ауфидерзейн,– налево, кругом,– приказал он самому себе и ответил: – Слушаю, господин поручик, да здравствует великая Германия и русская освободительная армия...– Наконец голос его затих.
– Цирк,– сказал Соловово, садясь на песок.– Не пришлось мне быть на этой войне, но теперь-то знаю, кого бы я выбрал...
– Каждый русский знал, кого выбирать,– раздраженно произнес Колесников, приподымаясь.
– Так-то,– сказал Чалдон,– решать надо, паря.
– Чо ж,– неожиданно для всех произнес Шумов.– Оно, может, это дело и богу угодно. Господь, он , иногда прощает. Ему видно. Не безглазый же...
В это время наверху опять замаячила тень, и щелкнул снятый предохранитель.
– П-по мес-там! – заорал вдребезги пьяный Глист, извиваясь на обрыве.– Чтоб че-рез ми... чтоб у меня... спать, короче го-ря, по-ял?
– Давайте-ка по одному в обход и в палатку,– шепнул Колесников.
– Да он еще и пристрелит, сволочь,– пробурчал Нерубайлов.
– Эй,– крикнул снизу Колесников.– Хоря пришли!
– Я те пришлю!—завопил Глист.– Я те!..– он вдруг нелепо зашатался и рухнул.
– Эх, самое время их брать, однако,– выдохнул Чалдон,– надрались божьей водицы, не чуют ничо!..
– Пока в палатке соберемся, а там увидим,– шепнул Колесников.– Если остальные в том же состоянии...
Тотчас вниз по круче съехал Аметистов, защелкал затвором карабина.
– Спать, ну!
– Пошли! – позвал Колесников и молча полез вверх. За ним, шурша камнями, двинулись остальные. Алеха шел последним.
Хорь стоял незаметный в темноте, лишь огонек самокрутки иногда освещал его усмехающееся морщинистое лицо.
– Давай-давай,– шевельнулся он, заметив Алеху.– Спать надо, милок. Это ж, тебе не дома. У нас тоже служба.
Алеха, про себя проклиная бандита, побрел в палатку. Понял, что Хоря провести трудно. Хуже всего было то, что и водка не брала этого дьявола.
В палатке почти все уже лежали в спальниках. Он лег сверху, не скинув сапог. Был один план, его стоило обмозговать.
С конями Алеха был связан всю жизнь. Еще в двадцать первом году пришли они всей семьей на извозный двор односельчанина отца Карнаухова, владельца девяти пролеток. Мать стала помогать хозяйке по дому, отец сел за вожжи, а тринадцатилетний Алексей тоже приставлен был к делу: кормил лошадей, помогал на конюшне, чистил двор, рубил дрова.
Карнаухов Савел Парфентьич был мужик головастый. Нэп упал манной небесной на его захудалую после революций жизнь торговца и купца третьей гильдии. Теперь он развернулся в извозе, был требователен к своим работникам, но жилось им у Карнаухова в общем-то неплохо. И Алешка, заморенный недавним голодом, отупевший от ежедневной картофельной шелухи, даже растолстел, расправил плечи, забегал, с удовольствием поглядывая на сапоги, купленные отцом в получку.
Работа была интересная, и лошади у Карнаухова – одна к одной, а что насчет рысаков, то от них Алешка глаз отвести не мог, успевали впереди авто. Весело жил Алешка, весело и больно, потому что терзала его тоска. Выходила иногда во двор его одногодка – Сонька Карнаухова, такая же крутоскулая, как отец, голубоглазая, с тугим румянцем на скулах, с ярким ртом, с ломаной капризной темной бровью, и сердце мальца обрывалось.
Сонька знала, что нравится пареньку, и вскоре они начали встречаться. На третью неделю баловства застал их сам Карнаухов. Сначала Алеха был самолично хозяйской, рукой избит до крови, готовился уходить со двора. Отец и мать уже укладывали в узлы его вещи, как вдруг вышло прощение.
Хозяин свадьбу сыграл нешумную, но слух распустил широкий: дочка его вышла за трудящегося человека. Пришлось после этого Алешке вступить в профсоюз извозчиков, сесть на козлы. В двадцать девятом, когда вместо карнауховского дела образована была артель тамбовских извозчиков, он был там уже свой, хоть поначалу пришлые ребята и косились на зятя бывшего хозяина. Так и пошла у них с Сонькой жизнь. Для обзаведенья раньше еще купил им Карнаухов дом. Хоть половину потом отобрали, все же было у них не хуже, чем у людей: три маленькие комнатки с пузатой вечной мебелью. Буфет, комод, лампады у киота – хоть оба и не верили в бога, герань в горшочках на подоконниках, ситцевые веселые Занавесочки на слепых окошках.
Вокруг голодуха, строительство, пятилетка! Заем! Осоавиахим! А они ни о чем об этом не думали. Он целый день на работе: то возил клиентов, то по нарядам – грузы на заводы, а она хлопотала по хозяйству. И вот посреди такого уюта, счастья и надежд бросила его жена, ушла, сбежала, когда он был на работе, оставив записку: «Не ищи, нелюбый!» Как бык, оглушенный обухом, стоял он вечером в своей столовой и смотрел на косые, резко набросанные буквы. Вот оно как! Нелюбый, а он-то верил, вахлак!
Он не стал ее искать. Но вестей ждал, и они пришли. Узнал, что живет его Соня в Воронеже с большим начальником. Кто видел, говорит, что любит без памяти. Алеха запил.
В тридцать четвертом он узнал, что нового ее мужика посадили. Выждав две недели, съездил в Воронеж, вызнал адрес, сутки караулил, пока встретил на улице. Софья шла в платке, в плохоньком пальтишке, лица на ней не было. Увидев его, ничего не сказала, он и не стал приставать. Вернулся в Тамбов, а ей послал треугольничек, где черным по белому было прописано, что он, ее законный муж Алексей Кузьмич Терентьев, всегда готов ее принять с дитем, как они в законе и никто их не разводил, и что обещается к дитю относиться как отец, а вину ее прощает.
Через месяц, когда уже перестал ждать, она приехала. Была тихая, робкая, худая. Ребенок был маленький, плакал по ночам, просил грудь. Пошла новая жизнь. Однажды, напившись, приступил к ней: «Скажи хоть, за что бросила? Скажи, ну?»
Она ничего не ответила.
– Мало тебе тут добра? – спросил он, поведя рукой по комнате.– Чего не хватает?
– Это – добро? – усмехалась Сонька,—Тёмный ты, Алексей Кузьмич. Мир весь перед тобой лежит, а ты и не видишь.
С тех пор, напиваясь, он бил жену, а утром каялся, молил, чтоб не бросала.
Вышел ее миленок, и Софья вернулась к нему. Тогда Алеха и уехал в Сибирь. Об одном только и думал: достатка его для нее было мало. Да и понятное дело: купецкая дочь. Тот, кто был начальником, опять в начальство выбьется, хоть и сидел. Значит, должен Алеха переплюнуть его своим новым богатством, переплюнуть настолько, чтобы Софья поняла, кого бросила.
В сороковом Алексею крупно повезло. Познакомился с одним каюром, бывшим старателем. Рассказал тот ему одну историю: в тридцать пятом, когда выгоняли за границу китайцев, тайком добывавших русское золото, он с несколькими еще парнями подстерегли их в одном урочище. Китайцев перебили и золотишком разжились в достатке – китайцы разрыли в этом месте жилу. Старателей загребли за убийство, потому что об этом деле свои же по пьянке растрепались кому-то на приисках. Всех взяли, но каюра освободили – почему, он не рассказывал. И теперь ему нужен был надежный товарищ для большого деда: можно добыть много золота и в самородках, и в руде. Договорились, подрядились с Алехой к геологам в партию, что работала близко от тех мест, и двинули, В одну из ночей, отпросившись у начальства, смотались на то место. Находилось оно от стоянки партии в ста километрах.
В первый же день работы в отвалах нашли два самородка граммов по сто, и в руде нет-нет да и проблескивало золото. В партию они не вернулись, решили податься в Бодайбо, собрать там ватагу и пойти сюда самостоятельно. Собрали двенадцать старателей, ребята были надежные. Двинуться решили в мае, так как пришлось закупать оборудование для артели, а вернуться наметили в октябре. Уже вышли было, а тут война.
Всех забрали в сибирскую дивизию, потом направили под Ленинград. Там дружок Алехи сплоховал, вызвался в разведку, вернулся с раненой рукой: начисто были отстрелены большой и указательный пальцы на правой руке. Комиссовали бы вчистую, но в санбате врач нашел на руке ожог и въевшиеся в кожу пороховинки. Перед строем части расстреляли алехинского дружка как самострела.
На фронте Алеха на рожон не лез, но и трусом не был. Дошел до Восточной Пруссии. Сразу же после войны стал наводить справки. Узнал: Соня жива, муж ее погиб, живет одна, воспитывает сына. Написал ей, что готов простить. Ответила: не нужно ей его прощения. Но он помнил ее слова: «Разве это добро?» Уверен был, что, когда приедет при деньгах, чисто одетый, будет и принят по-иному. Не может же купецкая дочь устоять перед золотишком. Вот он и мечтал явиться к ней, высыпать на стол самородки и сказать: «Не верила ты, Соня, в мой фарт, а глядь-ко, как судьба развернулась». Убежден был – не устоит. К тому же мужиков после войны осталось мало. Он и теперь в цене, а ихняя цена, бабья, куда как упала!..
Третий год подбирался Алеха к золоту и на этот раз был к нему близок. Совсем невдалеке от тех шурфов должна была проходить партия Порхова, и на-ка тебе – бунт!
Тайга шуршала и гудела наверху. Тянуло свежим хвойным запахом, и от мира и покоя этой привычной таежной картины все дрогнуло в Алехе. Господи, ведь мог он сейчас просто идти в партии, выслушивать приказания Порхова и думать над тем, сообщать или не сообщать начальнику, что выходы жил, которые тот так ищет,– вот они где...
Нет, он не сказал бы о шурфах Порхову. Там, в отвалах, золото можно было брать голыми руками. Вот выберет сам, что сможет, тогда и скажет. Все равно ему вглубь одному не забуриться. Там оборудование нужно...
Алеха подошел к лошадям, нашел сваленные в кучу чересседельники, потники, седла, выбрал два. «Перепились,– со снисходительным презрением думал он об урках.– Хороши и заговорщики, спят себе... Им бы не спать, а... Нет, ему не по пути ни с теми, ни с этими. Пусть разбираются, как хотят...»
В полчаса он запряг и завьючил обеих лошадей. Упряжь была прилажена так, чтоб не брякнуть, не стукнуть. Шаги лошадей были едва слышны. Только бы влезть в голец, а дальше – воля! Он обошел стороной палатку, где спали урки, и считал уже, что выбрался, когда у самого уха едкий голос спросил:
– Убег, значит? – Это был Хорь. Рука Алехи скользнула к сапогу за ножом, но Хорь предупредил:– Не рыпайся, паскуда, если пулей нажраться не хочешь.
Алеха стоял, молча глядя на него,
– Хорь,– сказал он надрывно,– отпусти ты меня, слышь! Я вам не вредный. Не донесу. Я по своему делу.
– Что ж за дело? – спросил Хорь спокойно.
– Таежное у меня дело, Хорь. Я и выберусь-то из тайги не раньше, как через месяц...
– Сам, значит, на дело пошел, а корешей забыл? – Хорь взялся за карабин.
– Не стреляй, погоди! Родимый! Я все как на духу... За золотом иду, Жила тут недалече... Айда вдвоем, там и на двоих хватит.
– А на пятерых? – спросил Хорь, не спуская с него жгучих глаз.
– Оно и на пятерых! – махнул рукой Алеха в каком-то самозабвении.– Одна, видать, у нас планида!
Пока они, ведя с собой лошадей, спускались к табору, Алеха поведал Хорю все о тех шурфах в урочище.
– Организуем компанию,– загорелся Хорь,– только ты, паря, гляди: никому, кроме меня, ни слова... Даже Лепехину,
Алеха клятвенно пообещал.
– О,– сказал рядом знакомый голос.– Гляжу, здесь объяснение в любви?
В двух шагах, довольно хорошо различимый в рассветном тумане, без кепки, приглаживая седые волосы и ежась, смотрел на них Соловово.
– Вот так и сходятся люди,– сказал он, щурясь,– поделятся тайнами,– он коротко и вопросительно взглянул на Алеху,– сообщат подробности биографии, и глядишь – друзья...
– Пошел в палатку! – угрожающе уставился на него Хорь,
– Простите, командир,– улыбнулся Соловово.– Я понимаю: вам важна дисциплина, но мой мочевой пузырь с ней не всегда в ладах. Позвольте привести его в соответствие с вашими требованиями.– Он растворился в ползущей дымке,
– Брехло! – пробормотал Хорь и повернулся к Алехе,– Ты там с ними – ни гу-гу, будь, как свой.– Он ткнул его кулаком и исчез.
Алеха же стоял в ужасе. «Что о нем подумал Соловово, застав ночью с Хорем? Если они решат, что он продал, придушат? Что делать? Бежать к Хорю? Рассказать все о вчерашнем заговоре у озера? Или...»
СОЛОВОВО
Соловово спустился к озеру. Солнце медленно и тяжко раздвигало на востоке ночные завесы. Высоко над туманами, за гребнями гольцов, начиналось зыбкое алое свечение. Дымка расползалась, обрывая свою кисею о выступы гольцов, об острия кедровых вершин.
Седой подрагивал в своей косоворотке. Он присел над водой, вдыхал свежий запах влаги. Где-то резко закричали птицы. Чайки? Неужели их могло занести к этому озеру в тайге, за тысячи километров от морей? Конечно, могло. Птицы – они, как люди. Их можно встретить в самых странных местах. Впрочем, вот они бредут по тайге уже третий месяц и даже следа людского не встретили. Неужели всех перебьют? Но какой смысл уркам это делать? Перебить – легче легкого. Нет, тут дело в чем-то другом.
Змейки ветра заползли под рубаху, Седой поежился и встал, повернул к тропинке наверх и остановился. К нему спускался Алеха.
– Викентьич,– сказал он, исподлобья разглядывая Соловово.– Ты чего это?.. Ты чего подумал; Викентьич?
Седой знал, что в случае опасности важно ни единым жестом не показать, что боишься. Алеха был росл, крутоплеч, силы у него хватило бы на двух Соловово. Поэтому он стоял, спокойно разглядывая Алеху, и только колено его незаметно подрагивало, но он знал, что, если у него будет хотя бы еще минута, он сумеет справиться и с этой слабостью.
– Алеха,– сказал он своим домашним, так не подходящим ко всей обстановке голосом.– Как ты думаешь, что может решить нормальный человек, который вчера еще считал тебя своим, а сегодня на рассвете встречает тебя с уркой?
Алеха засопел и шагнул вперед. Глаза его расширились и напряглись.
– Стой! – резко наклоняясь, сказал Соловово и выпрямился, держа в руках круглый коричневый камень.
Алеха, тяжело дыша, остановился.
– Расскажи, о чем говорили? – властно приказал Соловово. Алеха обмяк.
– Викентьич, бес меня попутал,– сказал он, сплевывая и садясь на траву.– Хотел я вчера и вас, и их спокинуть и уйти...
– А он задержал и заставил... что? Что заставил делать?
Алеха тряхнул головой, кепка съехала на затылок.
– На золотишко я его веду. Знал я тут одну жилу. К ней и сворачиваем. Он никому говорить не велел... Никому. Я только тебе сказал... Ежели ты другим передашь, меня пришьют, где ни то... Никто не знает, что мы задумали... Веришь, нет, Викентьич?
– Верю, Алексей. Остальные знать не будут. Но смотри: дураков здесь нет. Увижу, что продать собираешься, не успеешь.
Расставшись с Алехой, Седой подошел к своим и начал помогать им укладываться.
– Шевелись! – поторопил канавщиков Глист. Длинное безволосое лицо его кривилось и дергалось,сглаза рыскали по сторонам, кепка сидела на самом затылке.
На тропе, пропуская караван, стояли всадники – Лепехин и Хорь, о чем-то тихо переговаривались.
– Упустили мы, однако, вчера ночку,– сказал Чалдон вполголоса, стягивая палатку тесьмой.– Под утро-то уснули гады, как сурки.
– Время еще есть,– сказал Колесников.– И вы, ребята, не торопитесь. Тут надо момент точно выбрать. Поспешишь – сам знаешь,– он кивнул красивой темноволосой головой в сторону конных,– их, парень, не разжалобишь.
Палатку навьючили на последнюю лошадь-и, привычно выстраиваясь на ходу в затылок друг другу, тронулись в гору.
Идти было легко. Соловово вопреки всему никогда не чувствовал себя так хорошо физически. Кругом творилось черт знает что: насильники бесчинствовали, зло торжествовало, добро принижено и угнетено. А он, как ни странно, продолжал верить в победу добра, хотя верить было трудно. Впрочем, верить всегда трудно. В юности человек полон жажды добра и уверенности в доброте окружающих. Даже когда ожесточение и ярость против близких охватывают тебя, ты еще веришь, что где-то рядом есть полный света, чистоты и справедливости мир. В среднем возрасте в добро веришь осторожно. Знаешь уже, добро есть на свете, и его даже немало, но оно всегда в сопровождении зла. Как у Горького в «Девушке и смерти»: «С той поры любовь со смертью ходят рядом» – в одном и том же человеке, как в клубке, перепутано добро и зло. Важно в какой-то момент высечь, как из кремня, огонь, доброе и справедливое чувство. Возможно, с Алехой утром ему это удалось. Но надолго ли? Он так ничего и не рассказал своим товарищам о том, что теперь Алехины интересы все ближе смыкаются с интересами Хоря. Они, если узнают об этом, или тут же придушат Алеху, или – что еще хуже – растеряются. Но он дал слово не выдавать Алеху, а слово надо держать. Хотя не совершает ли он тем самым преступления? Неужели Алеха солгал ему? Нет, он все же «живая душа», но надо следить за ним в оба. Он давно знает скифский норов мужиков. Их изменчивый нрав, их внезапную хищную беспощадность ко всему, что им мешает...
Они спустились в падь и пробирались сейчас через зыбкий мшаник. Алеха вел под уздцы передовую лошадь. Аметистов ехал сразу за вьючными лошадьми, за ним шли Чалдон, Нерубайлов, Порхов, между ними Лепехин на лошади, потом Альбина и Колесников в надвинутом на лоб накомарнике с заброшенной наверх сеткой.
Колесников зашагал быстрее и помог взбирающейся на горку Альбине. Соловово улыбнулся с нежностью и печалью, глядя, как он вытягивает ее на возвышенность за руку. Было что-то ребяческое в их сплетенных ладонях, трогательное в ее беззащитно и доверчиво отданной руке. Эти двое тянулись друг к другу, и мало кто этого не замечал.
Альбина... В ней было что-то чуждое и все же бесконечно милое для него. Чем-то она напоминала его жену в молодости, наверное, своим дворянским профилем, надменностью, которая порой проскальзывала в плавном, но гордом повороте головы в ответ на чью-нибудь не слишком почтительную реплику...
Она была из новых женщин, которые появились уже в двадцатых годах, а в тридцатых их стало особенно много. Это был тип женщины-друга, товарища по борьбе, единомышленника, тип женщины-солдата. В них была преданность, чистота, вера, они не прощали слабостей, были резки и сильны, как мужчины, у них и походка была мужская, они ходили, широко расправив плечи, размашистым армейским шагом. Их отличала мудрость и проницательность, но они были способны на сумасшедшие, необъяснимые поступки и слепую страсть. Эти новые женщины, севшие на студенческую скамью, кроме наук, должны были изучить винтовку и пулемет, а на каникулах ехать на стройку, ворочать тачки с цементом и таскать стокилограммовые носилки с мусором. В них были разум и жестокость, упорство и догматизм. Они судили, не прощая, и во всем стремились стать вровень с мужчинами. Мысль о том, что они должны быть женственными, показалась бы им дикой...
Альбина была в этом смысле сплавом старого, дорогого ему образа женщины, нежной и неожиданной, и нового – жесткого, сильного и верного... Впрочем, насчет верности тут не все сходилось. Вон там, впереди, в такт шагу раскачивалась русая голова Порхова. Он шел без накомарника, чуть согнувшись под вещмешком, длинно раскачивая руками. Он был ее мужем, а она и не думала почти о нем... А ведь теперь ему особенно нужна была жена-друг. Нет, Соловово не сочувствовал Порхову. Они все доверили ему свою судьбу. Каждый из них пошел в партию на сезон, потому что этот сезон нес им деньги, а с ними надежды. Каждому из них нужны были надежды, потому что почти у каждого была сломана судьба, и кто знает, не оттого ли, как кончится этот сезон, зависит, поднимется человек или окончательно поставит на себе крест. А Порхов, как оказалось, вел их в неизвестность. Они могли и без этих мятежных урок застрять на зиму, а может, и остаться здесь навечно, потому что, если бы закрылись перевалы... Соловово поежился, он знал, что такое сибирские зимы. Их в лагере порой посылали на лесоповал километров за триста от зоны. Когда начинались перебои с хлебом и продуктами, многие заключенные не возвращались. Одни пробовали бежать и замерзали в тайге, другие просто умирали, ничего не пробуя.
Нет, он не сочувствовал бывшему вершителю их судеб, но смириться с властью урок не мог. Смешно и печально: какая бы власть ни была, она всегда против него... Такова, видно, судьба истинного интеллигента. Хотя... Он ведь чуть было не согласился с их маршрутом в Китай. Может быть, в этом был выход? Он подумал, как бы вел себя в его положении Лунин.
С детства влюбленный в александровскую эпоху, он давно выбрал в ней для себя человека, по которому сверял свои поступки, мучительно понимая, как далек он от своего кумира,
Колесников вывел Седого из раздумий:
– Устал, Викентьич?
– Нет,– сипло дыша, влез на взгорье Седой.– И вы, сударь, не насилуйте меня излишним вниманием.. Я не дама, мне помощи не требуется.
Колесников улыбнулся, пошел рядом, придерживая лямки вещмешка. Немедленно подъехал Глист, наклонился к Владимиру из седла, глаза их вцепились неразъемно друг в друга.
– Недолго тебе куковать, капитан,– засмеялся Глист, отводя взгляд и выпрямляясь в седле.– Недолго.
– Ты уж и час назначил? – спросил подрагивающим от ненависти голосом Колесников, не сбиваясь со своего солдатского шага.
– Точно: день и час,–ответил Глист и проскакал вперед. Соловово оглянулся. Хорь ехал довольно далеко позади и наблюдал за ними.
– Зря, Володя, в бутылку лезешь,– сказал Седой.– Они, возможно, провоцируют.
– Не могу! – со скрежетом зубовным сказал Колесников, горбясь.– Еле держусь.
– Уж держись! – посоветовал Соловово, с участием поглядывая на него.– На тебя люди смотрят, они тебе поверили.
– Не могу понять, как мы допустили... Как столько терпели? Ведь в первые дни мы могли бы их голыми руками взять...
– Володя,– сказал Седой, касаясь плеча Колесникова.– Ты, дружище, должен сейчас собраться и найти какое-то решение. Ребята избрали тебя командиром. И тут ты должен понять русскую душу. Раз она переложила на кого-то ответственность, значит, будет считать, что во всем виноват один старший. Он обязан думать обо всех...
– Не пойму я, Викентьич,– сказал а неожиданной злостью Колесников,– ты русский, а вечно над всем русским иронизируешь. И всегда всем недоволен: то не так, это не так. Кто тебе мешает объединиться с этими и податься в Китай? Ты как будто туда собирался!
Это было больно. Соловово с жалостью и тревогой смотрел на друга. Нет, этот сильный, упрямый и до мозга костей военный человек никогда бы не понял его. Никогда. За ним была выигранная война и абсолютная, недоступная критическому уму Соловово вера в дело, которому он служил. Его несправедливо посадили, его три года марьяжили в лагере, а он вышел оттуда таким же, каким вошел. Что это? Слепота? Ограниченность? Или святая вера?
– И вот что я тебе скажу,– все еще ярясь, продолжил Колесников,– посадили тебя недаром. Есть в тебе какой-то душок..,
– Ладно,– сказал Соловово, стараясь не оскорбиться.– Меня, возможно, за дело, а как быть с тобой?
– Меня выпустили!
– Но три года твоей жизни пропали зря. И хорошо, что не больше. Мог торчать там десятилетиями. Так в чем же ошибка? В том, что тебя посадили, или в том, что выпустили?
– Конечно, в том, что посадили! И они это поняли. И вообще...– Колесников запнулся и поостыл.– Ведь я работал с тобою и уже долго рядом, я тебе доверяю. Во всем. Но как только ты раскроешь рот, ты мне порой просто ненавистен. Как можно жить, все подвергая хуле?
– Хуле или анализу?
– Порой это одно и то же.
– В этом наше главное отличие, Володя,– сказал Соловово,– ты рожден, чтобы верить, я – чтобы сомневаться. Оба эти типа людей нужны человечеству. Жаль только, что у нас они порой несовместимы.
Они взобрались на голец. Тайга здесь была прорежена, и тропа путалась между еще юными кедрами, рослыми лиственницами и тяжелыми соснами. Под ногами шуршала палая хвоя, скрипел старый жухлый мох.
Теперь оба разговаривали совсем спокойно. Колесников крутил головой, улыбался:
– Одно качество в тебе ценю, Викентьич: мысль в тебе всегда бьется. Это важно. Я в лагере одно время чуть наркоманом не стал. Потерялся. Отупел, заржавел. Не мог «понять, как так вышло, что я за проволокой, не мог понять, зачем жить.






