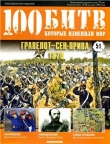Текст книги "Красная земля Испании"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Здесь есть бывшие американские гангстеры, спиртовозы из воздушного отряда Аль-Капоне, искатели приключений из Индокитая и разочарованный итальянский террорист, пишущий поэму. Рыжий канадец, по специальности аэрофотограф, с утра ничего не делает, сидит в кресле в вестибюле у окна и разговаривает с пустым взглядом, устремленным в пространство. Он ждет, пока в четыре с половиной часа пополудни на Гран-Виа выйдут первые проститутки. Тогда он выходит и долго выбирает. Он долго торгуется, а потом платит больше той суммы, которую с него запросили вначале, – если женщина спросила двадцать песет, он доторговывается до двенадцати, а уходя, платит двадцать пять. Так, объясняет он, весь акт пропускается через комплекс благотворительности. Он считает, что до Луи-Фердинанда Селина не было мировой литературы. Но и у Селина есть, по его мнению, громадный прорыв. Селин упустил, что женщину надо смотреть и оценивать обязательно, когда она идет к вам спиной. Тогда ясны фигура, шея, ноги. Вид спереди, глаза, улыбки, грудь – это все обман, это для дураков... Он ловит людей, чтобы поговорить о женщинах. Но все заняты, его слушают охотнее всего женщины же, супруги иностранных парламентариев.
Настоящие красные почти не показываются во "Флориде". Они приезжают потихоньку, заходят в партийные комитеты, спят там же, в маленьких общежитиях, и уходят на фронт, инструкторами при колоннах Пятого полка, санитарами или рядовыми бойцами".
* * *
Сидит на пороге дома;
Сигарета погасла...
Берет надвинут до бровей,
А в руке нервно дрожит хлесткий прут "абельяны"...
Виктор Мануэль начинает петь негромко, как бы издалека. Он – с гитарой, а оркестр – в темноте, его не видно, он – сам по себе, оркестр еще только прилаживается к этому двадцатилетнему астурийцу, самому популярному певцу Испании.
Что вспоминает он?
Весну? Но без листьев...
Траву? Но без цвета...
Или запах мокрого динамита?
Или уголь, который он взрывал у себя на шахте?
Дедушка мой...
Он сжег себя в шахте, как бикфордов шнур...
И не слышна уже гитара. Только сильный голос Виктора Мануэля и мощь симфонического оркестра, и лишь иногда слышен быстрый перебор басовых струн это когда Виктор шепчет: "Дедушка мой, дедушка..."
...Сын и внук шахтера, он пять лет ходил в семинарию, а потом учился в книжных магазинах, где ему позволяли часами стоять у прилавка. Он не знает нот, не учен стихосложению, но его песни поет сейчас вся Испания. Они тревожны, его песни; Виктор словно стенографирует чувства молодежи за Пиренеями. Он еще не говорит всего того, что от него ждут, но песня – это особое искусство, когда тебя понимают с полуслова, в намеке и даже в молчании.
Был вечер как вздох,
И в церквушке пел колокол,
И был мир окрест,
И в зеленой речушке плавали рыбы...
И пришли солдаты.
"Стойте, старики и дети! Смирно!
Ребята должны воевать!
Идем воевать, парень,
Идем воевать!"
Я закрываю глаза и стреляю в небо.
За кого они велели мне воевать?
Нет во мне ненависти к врагу,
Да и враг ли он мне?
"Хуан! Молчать! Хуан, воюй! Ты должен воевать!
Хуан, вперед! Хуан, ура! Ар-рестовать!"
Я трус. Сижу в тюрьме. Я трус.
И мои сограждане смеются и плюют мне вслед: "Он трус!"
И я ухожу в горы, и не слышу, как поет колокол, и не
Вижу голубых рыб в зеленой воде...
Но я мечтаю о том дне, когда я спущусь к людям.
Они должны понять меня.
Они меня поймут...
– Это было так, – рассказывает Виктор Мануэль, – я зашел в бар, а напротив сидел мужчина. Он читал газету. Там был заголовок: "Во Вьетнаме убито двести солдат". Я даже не знаю, как это было дальше. Просто я поднялся и пошел домой. А дома взял гитару и спел эту песню. И все.
Его песни сейчас поет вся Испания. Это песни-раздумья. Он не бунтарь, он не зовет к драке. Просто он заставляет людей думать. А это так много в наши дни...
– Хорошо, я попробую устроить вам встречу со Скорцени, – сказал тот букинист из бывших СС, с которым меня свел Карлос. – Но это должно идти не от меня. Я вас познакомлю с директором большого книжного магазина, его зовут Хайнц. Мы с ним вместе сражались в танковых войсках. Я ведь был танкистом, я не виноват, что фюрер отдал нашу дивизию Гиммлеру... Хайнц знает кое-кого из окружения "Длинного".
"Длинным" он назвал Скорцени. Это ново для меня, потому что раньше люди, с которыми я встречался, говорили о Скорцени "Отто", "Сильный", "Лошадь" или "Шрам".
Хайнц владеет магазином в центре Мадрида, неподалеку от главного "супермаркета". Здесь всегда торчит много народу, поэтому разговаривать мы с ним могли спокойно, не опасаясь, что нас услышит кто-то третий.
("Теперь-то я проклинаю нацизм, – говорил мне Хайнц, – и это правда, зачем мне лгать вам? Фашизм уважаем в Испании, так что я мог бы по-прежнему держать дома фотографии фюрера... С тех пор как я начал работать с книгами, я перестал быть идиотом. Если бы приняли всемирный закон, обязывающий людей почитать книгу, как религию, фашизм исчезнет, потому что он рассчитан на глупое стадо, для которого "свой" дурак ценнее "чужого" гения лишь потому, что он "не свой".)
– Попробуем, – сказал Хайнц. – Пошли ко мне, будем звонить...
Телефонный разговор с одним из сотрудников Скорцени был вежлив до приторности: "О, как интересно, сеньор из Советской России! Я ничего не могу вам обещать, но я свяжусь с шефом, он сейчас находится в Гамбурге".
(Как раз в это время в ФРГ проходили выборы в ландтаги земель, и Скорцени вылетел туда, чтобы организовать кампанию в поддержку неонацистов фон Таддена.)
На следующее утро мы увиделись в тихом, пустом баре отеля "Риц". Черноволосый, в переливном шелковом костюме, молодой, спортивного "кроя" человек цепко оглядел меня и, заученно улыбнувшись, сказал:
– Сеньор Скорцени встретится с вами. Я говорил с ним по телефону. Он вернется через три дня, когда закончатся выборы.
– Сеньор Скорцени надеется на победу НДП?
– Победа НДП ни у кого не вызывает сомнений.
(Встретиться со Скорцени мне не удалось: во-первых, на выборах провалились неонацисты Таддена; во-вторых, в бундестаге разразился скандал в связи с попыткой подкупа людьми из окружения Штрауса депутата из правительственной коалиции; Скорцени, связанный и с Тадденом и со Штраусом, срочно лег в госпиталь. Официальное сообщение гласило, что он "внезапно почувствовал острое недомогание".)
– Сколько вам лет? – спрашиваю моего собеседника, который всячески подчеркивает свое спокойствие.
– Я младше вас на пять лет.
– Данные о моем возрасте вы получили в МИДе?
– О, у нас есть много возможностей узнавать возраст визитеров.
– Вы немец?
– Моя мать португалка. По законам евреев я должен считаться португальцем. Они считают, что именно мать определяет кровь ребенка. Мы с этим не согласны.
– Ваш отец был военным?
– Мой отец был членом партии.
– Национал-социалистской?
– Да, национал-социалистской рабочей партии Германии.
Он сказал это вызывающе-напыщенно, словно бросил мне перчатку.
– Словом, ваш отец был гитлеровцем?
– Да, мой отец был солдатом Гитлера.
– Во время войны вы жили в Германии?
– Нет, во время войны мы жили в Африке. А вы?
– Я жил в Москве, а в мае сорок пятого переселился в Берлин. После того, как фюрер отбросил копыта.
– Простите?
– "Отбросить копыта" значит – "сыграть в ящик".
– История развивается по законам циклов. Быть может, мой сын проживет войну в Берлине, а после ее окончания переселится в Москву.
– Нет. Мы вас снова отлупим. И немцы вам не позволят того, что они один раз позволили Гитлеру и его солдатам.
– Немцы унижены. А нация никогда не прощает унижения.
– Чем унижены немцы?
– Поражением.
– Значит, если бы немцы победили, вы бы приветствовали уничтожение в газовых камерах славян, евреев, цыган – только потому, что они люди чужой крови?
– Это все пропаганда. Сталин сговорился с Рузвельтом. Мало ли что можно наплести на движение...
– Значит, если бы немцы победили, вы бы приветствовали уничтожение в концлагерях коммунистов, социал-демократов, левых радикалов, католиков?
– Почему именно в концлагерях? Сама жизнь заставила бы коммунистов и социал-демократов отречься от их догм.
– А если бы не отреклись?
– Это решила бы жизнь. И потом, в мои обязанности не входит борьба с инакомыслящими. Мне вменено в обязанности налаживать с ними контакты.
– Но вы бы не восстали против уничтожения инакомыслящих лишь потому, что они инако мыслят?
– Я убежден, что до тех пор, пока конституция ФРГ гарантирует солдату право не выполнять приказа командира, если он считает его несправедливым, Германия будет оставаться второразрядной державой. Армия немцев должна стать такой, какой она была прежде.
У него пронзительно-черные глаза, высокий гладкий лоб, сильный подбородок. Он ждет вопроса, чуть подавшись вперед. Отвечает он сразу – словно по вызубренным шпаргалкам. Он не мыслит, не рассуждает, он говорит формулами. Руки он держит на столе, выбросив перед собой сильные кулаки. Его пальцы сжаты в кулаки. Лишь когда он достает сигарету, я понимаю, отчего он сжимает кулаки: пальцы, чуть поросшие жесткой черной щетиной, дрожат, и эту дрожь он не может скрыть...
– Сеньор Скорцени думает так же, как вы?
– Сеньор Скорцени думает, как настоящий немец. Престиж родины для него прежде всего.
...После того как Скорцени в 1947 году сбежал из тюрьмы и эмигрировал в Испанию, он жил там тихо и незаметно, подобно лидеру бельгийских фашистов Дегрелю – палачу, военному преступнику, приговоренному к смертной казни и также нашедшему приют в Мадриде.
Скорцени жил тихо – до тех пор, пока "холодная война", начатая "бешеными", не "переориентировала" прессу, искусство, юриспруденцию Запада на "врага No1" – на Советский Союз. Те, кто умел бороться против "Ивана", внезапно из палачей превратились в героев. И Скорцени решил действовать. Но он поторопился – он хотел, чтобы "испанские коллеги по национал-социализму" оказали ему финансовую и политическую помощь в организации немедленной и активной борьбы против "красных". Коллеги ему в этом отказали – помнили эксперимент с "Голубой дивизией". И тогда испанский фашизм перестал устраивать Скорцени. Он уехал в Аргентину, написал там свои мемуары и на гонорар приобрел цементную фабрику. Ему всячески патронировали тамошние ультраправые. А когда Скорцени вернулся в Мадрид, но уже не скрывающимся военным преступником, на руках которого кровь тысяч невинных людей, а преуспевающим бизнесменом, он вошел в контакт с французской "Матра" – автомобильным концерном, владельцы которого в годы второй мировой войны сотрудничали с фашистами как коллаборационисты.
Помимо автомобилей "Матра", Скорцени начал заниматься ракетами и оружием, – это устраивало и бывших вишистов, и тех господ из "ЕОД" ("Европейское освободительное движение"), которые тесно связаны и с фон Тадденом, и с "ястребами" Пентагона.
У "Матра" были издавна отлажены контакты с международными рынками в Африке. В 1965 году "Матра" – через Скорцени – заключает договор с итальянской фабрикой вооружений "Отто Мелара". Президент этой компании Кандидо Бельярди был одним из приближенных Муссолини и с тех еще времен почтительно дружит с "освободителем Муссолини" – эсэсовцем Скорцени.
"Матра" и "Отто Мелара" начали наступление на африканском рынке оружия. Атаку возглавил лично Скорцени. Он руководил поставками оружия сепаратистам Биафры. Он заключил соглашение с правительством Либерии, которая стала своего рода перевалочной базой, ибо правительства Франции и Италии не дали – по понятным политическим соображениям – разрешение на прямые поставки оружия нигерийским сепаратистам.
Здесь, в Либерии, на маленьких аэродромах, Скорцени загружал оружие в арендованные самолеты, летал над Биафрой и сбрасывал с парашютами ящики с оружием сепаратистам.
Когда сбрасывать оружие с парашютами стало трудно, ибо законное правительство теснило сепаратистов, Скорцени приобрел самолет с крохотным размахом крыльев и начал сажать его на узких площадках в джунглях. Поставки оружия сепаратистам продолжались до последнего момента.
После разгрома мятежников Скорцени ненадолго уезжает в Мадрид. Официальная версия – "внезапное недомогание". На самом деле ему надо было подсчитать барыши: на поставках оружия он заработал немало миллионов. Идеология идеологией, а прибыль прибылью. "Выздоровев", он летит в Южный Судан и там снабжает оружием отряды наемника Штайнера. На этих поставках Скорцени заработал еще более крупное состояние. А уже после этого он отладил прямые контакты с крайне правыми в ФРГ и в Италии. Сейчас он финансирует неонацистов.
(Денег у него много. С конца 1968 года он только в Южную Африку продал ракет типа "Матра-530" на 10 миллионов западногерманских марок. Он продавал огромное количество ракет и вооружения португальцам, родезийцам, парагвайцам...
Путем сложной коммерческой аферы он достал девятимиллиметровые карабины, которыми пользуются в армии НАТО, и снабдил ими расистов Южно-Африканского Союза. С каждой выгодной коммерческой операции Скорцени, как утверждают, переводит 3 процента группам ультра в ФРГ и в Италии.)
Никто из моих испанских коллег не располагает точными данными – именами, кодами, номерами банковских счетов, – но все убеждены в том, что существует точно отлаженная цепь, соединяющая режим ЮАР, неонацистов ФРГ и Италии, "черных полковников" в Греции, военных в Бразилии, стресснеровцев в Парагвае, ультра в Родезии...
Скорцени редко живет в своей вилле в Мадриде, он теперь открыто летает по всему миру. Мои испанские друзья убеждены, однако, что он лишь помощник "главного". Шеф всей этой сети – Борман. И живет он (или жил) в Латинской Америке. Именно Борман является идеологом "нацистского возрождения".
Бывший испанский дипломат, пресс-атташе в Лондоне, Анжель Алькасар де Веласко заявил в прессе, что он принимал участие в переправке Бормана в 1946 году из Испании в Латинскую Америку. Он утверждал, что Борман прибыл в Испанию в 1945 году; в мае 1946 года отправился в Аргентину. Борман на прощание сказал де Веласко: "Европа еще увидит меня во главе новой и более сильной Германии".
О том, что "главный" и поныне очень силен (если это Борман и если он действительно жив), свидетельствует одно любопытное, до сих пор толком не раскрученное дело.
В конце пятидесятых годов был арестован военный преступник, профессор Вернер Хейде. Во времена Гитлера он был участником операции под названием "эйтаназия". Этой операцией руководил лично Борман. Она заключалась в том, чтобы наладить "промышленное" уничтожение тысяч людей – под видом безнадежно больных.
В течение пятнадцати лет после разгрома гитлеризма Хейде скрывался под именем Заваде. Когда он был арестован, начались всякого рода судебные затяжки. Более пяти лет он сидел в тюрьме, а когда, под давлением общественности, дело его должны были передать на открытое судебное разбирательство, он покончил жизнь самоубийством, причем до сих пор никто не может сказать со всей определенностью, было ли это убийство или самоубийство.
Этому предшествовал целый ряд загадочных событий. Хейде пытались похитить из тюрьмы. Доктор Боне, человек, который организовывал похищение, когда план провалился, немедленно улетел в Аргентину. Его сообщник, доктор Тильман, за четыре дня до начала процесса выбросился из окна, а министр одной из "земель" ФРГ, доктор Остерло, который был замешан в дело Хейде, 25 февраля 1964 года был обнаружен на дне кильской бухты задушенным.
Эйхмана выдали потому, что он находился в подчинении мертвого Гиммлера и мертвого Розенберга. Выдали Штангля потому, что он находился в подчинении мертвого Кальтенбруннера. А когда дело касается Бормана и его участия в злодейской операции "эйтаназия", тут все концы обрываются немедленно.
Испанские друзья пытались устроить мне встречу с представителями вполне легальных здесь нацистских организаций. Первой из них по весомости можно считать мадридский "Геополитический центр", который занимается идеологической деятельностью. Рядом с ним, неподалеку от вокзала Аточе, находится организация "Балканских эмигрантов", которую возглавлял хорватский фашист, военный преступник Павелич. Здесь же существует "Европейский центр документации и информации" во главе с Габсбургом, в который входят не только нацисты, но и недавно умерший командир "Голубой дивизии", в прошлом ближайший сотрудник Франко.
Испанские друзья считают, что Мадрид не является центром всемирной подпольной организации нацистов. Однако, утверждают они, в Мадриде существует подпольное руководство нацистским движением в Европе. А руководить есть кем: в Англии, например, легально существует национал-социалистское движение, "Лига защиты белых"; в Бельгии – "Движение гражданского действия" и "Центр контрреволюционных исследований"; в Голландии – "Национальное европейское социалистическое движение"; в Швейцарии – организация "Новый европейский порядок"; в Швеции – "Северная имперская партия"; в Норвегии – "Союз социального обновления"; в ФРГ – неонацисты НДП; в Италии – открытые последователи дуче, ультраправые из "МСИ", имеющие места в парламенте.
* * *
Чему учат теперь в классах литературы – не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно, возвысило бы душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу середины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию...
(Федор Достоевский о "Дон-Кихоте" "Дневник писателя за 1877")
...Ночью мы возвращались из рабочего района Мадрида, – там, возле нового стадиона, среди темных махин кранов, собирались товарищи, чтобы обговорить завтрашний день: была назначена демонстрация в поддержку бастующих басков.
В центр, на Кальво Сотелло, меня подвозили Франсиско, Лопес и Виктор. Я был под впечатлением этого ночного собрания; мои товарищи, для которых это каждодневная жизнь, быстро говорили о чем-то, смеялись, а я вспоминал оратора с заводов "Пегаса". Так же, как в наших фильмах тридцатых годов, он стоял на перевернутом ящике, комкал в руках берет и произносил речь – тихо, почти шепотом, но говорил он так ярко и сильно, что казалось, будто голос его грохочет, усиленный сотнями ретрансляторов.
– Хулиан, у нас возникло предложение, – сказал Лопес, когда мы выехали на авениду Хенералисимо. – Мы очень внимательно читаем все, что пишут в Москве об Испании. У вас верно и хорошо пишут о том, что здесь происходит. Но вы совсем не пишете о том, как прекрасна земля Испании, как красивы ее дороги и как поразительны синие водопады. Мы, – Лопес улыбнулся, – наша ячейка, хотим поручить тебе ответственное задание: проехать по дороге Дон-Кихота и написать об этом для советских товарищей. Честное слово, нам это будет очень приятно. Ваши люди смогут тогда понять, что мы хотим счастья не просто нашей стране, а нашей самой красивой, нежной и самой замечательной стране.
Назавтра утром за мной приехал товарищ, и мы отправились на юг.
...Дороги Ла-Манчи... То брошенные через плоскую, как доска, желто-красную равнину с фиолетовыми контурами далеких гор, одиноких и неожиданных, в дрожащем, размытом предзакатном мареве, то внезапно извилисто уходящие в холмы, – а их минуту назад и видно-то не было, – а холмы эти, словно в волшебстве, становятся лесом, и шершавые листья жестяно перекатываются по асфальту, а под вами, в метре от правого крыла старенькой машины, – зеленые лагуны Руидеры. Дороги Ла-Манчи уже сами по себе поэтичны, и не оставляло меня ощущение, что когда-то я дороги эти уже видел.
А когда нам встретился пастух с маленькой собачонкой, которая следила за волосатыми козами, и был одет пастух в кожаные лапти, и в коричневой его руке был посох, а на голове козья шапка, и сумка с вином и сыром за спиной была связана из толстых веревок, и земля была каменистой, красноватой, и закат был тугим, сине-багрово-желтым, я вспомнил козинцевского "Дон-Кихота", Черкасова с Толубеевым и подивился тому, как великолепно сняли Ла-Манчу под Коктебелем.
...Товарищ привез меня в самый центр Ла-Манчи, в маленький городок Мота-дель-Куэрво, – все окна забраны игривыми ажурными решетками, в открытых двориках цветы и белье, кажущееся голубоватым – так оно чисто; редко блеснет черный глаз юной красавицы за белой занавеской окна, – отсюда я решил начать путешествие по "Рута Сервантеса", – по дороге Дон-Кихота. В Мота-дель-Куэрво было пусто, туристский сезон кончился, и незримая печаль наступающего зимнего одиночества лежала здесь на всем: и на безмашинной бензозаправочной станции, разукрашенной как во время фиесты, и на пустом ресторанном зале "Месон де Дон-Кихоте", сделанном с отменным вкусом и незаискивающим уважением к старине, и даже на том жадном любопытстве, с которым завсегдатаи таверны обернулись в мою сторону: всякий новый человек здесь всегда событие, позволяющее пропустить лишнюю пару стаканчиков тинто, а заодно решить целый ряд животрепещущих мировых и местных проблем...
Портье в "Месон де Дон-Кихоте" Мигель Бросалес, по счастью, знал немецкий в тех пределах, которые позволили нам отменно понять друг друга.
Товарищ уехал в Мадрид, а я остался здесь, в Ла-Манче, с пятью испанскими словами в моем словарном багаже и с картой, на которой были помечены городки, которые мне надлежало посетить: Аргамасилья-де-Альба, Томельосо, Руидера, Вальдепенья, Мансанарес, Пузрто-Лапиче, Эль-Тобосо, Алькасар-де-Сан-Хуан и Кампо-де-Криптана...
Ах, добрый, веселый шофер Маноло! Мигель познакомил меня с ним, когда тот, страдая от вынужденного безделья, допивал пятый стакан терпкого тинто, стоя возле стойки "Дома Дон-Кихота".
– Проехать по дороге Сервантеса с сеньором русо?! Это ли не моя работа! воскликнул Маноло, закуривая черную сигару. – Я и по-русски немного говорю: "Моска", "спютник", "здравству"! Мы прекрасно поймем друг друга.
Через пять минут он подогнал к "Дому Дон-Кихота" машину, и мы отправились по дороге Сервантеса.
Маноло сразу же начал обстоятельно объяснять мне что-то, подолгу бросая руль, – испанец не может говорить не жестикулируя; иногда он оборачивался назад и, чуть оттягивая нижнее веко левого глаза указательным пальцем, что означает у испанцев: "Смотри внимательно!" – показывал мне ветряные мельницы возле Кампо-де-Криптана и коричневые средневековые замки, горделиво возвышавшиеся на вершинах холмов, а машина его, словно Росинант, катилась сама по себе, иногда по бровке кювета, а иногда заезжая не на свою сторону. Маноло это нимало не смущало, он в самый последний миг резко вывертывал руль и спрашивал:
– Компренде, Хулиан?
– Но компрендо, Маноло, – скорбно признавался я. – Не понимаю...
Тогда он начинал повторять то же самое, только в три раза громче и в два раза медленнее.
...Ла-Манча, Ла-Манча, живое средневековье, крохотные городки под красными черепичными крышами, оливковые рощи, виноградные склоны, пастухи на обочинах дорог, в тени дерева, с надвинутыми на глаза шапками, редкие "форды", тишина и музыка – неслышная, но ощутимая в тебе самом, – музыка фламенго, их короткопалые, крепкие руки, точно выбивающие ритм, их голоса – пронзительно чистые, доверчивые, грустно-веселые, их мокрые лица после десяти минут медлительно-яростного танца, когда ты, зараженный ритмом и песней, не можешь сидеть спокойно и тебе хочется подняться и стать таким же сильным, потным и веселым, как этот крестьянский парень, которого никто и никогда не учил песне – он рожден вместе с песней, этот фламенго...
("О, эта книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет... Взять уже то, что этот Санчо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой середины, попал в друзья и спутники к самому сумасшедшему человеку в мире... Все время он обманывает его, надувает, как ребенка, ив то же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован великостью сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого рыцаря и ни разу во все время не сомневается, что тот завоюет ему, наконец, остров!"
Федор Достоевский)
В Аргамасилья-де-Альба – пустынном бело-черном городе – Маноло бросил машину посреди маленькой Пласа Майор, только была она не похожа на мадридскую главную площадь, не была она окружена спинами древних домов и не открывалась неожиданно, гулко, словно бы ударом, а вся подчинялась громадному кафедралу со старинными, XVI века, деревянными воротами. Маноло пошел по улице Сервантеса к подъезду, где живет смотрительница дома, в котором родился Дон-Кихот.
– Анхелита! – громко, так, что высунулись из окон все жители окрестных домов, закричал Маноло и несколько раз стукнул литой бронзовой лапой тигра, укрепленной на двери домика (испанцы презирают звонки).– – Я привез сеньора русо!
Появилась Анхелита с "пепитой" Хосеба – десятилетней дочуркой. Помогая себе плечом, открыла громадным ключом ворота дома, где в темнице, в подполе, сидел Сервантес и писал своего, нет, не своего, а нашего Дон-Кихота, и я вошел следом за ней в пустой двор, и увидел колесо от кареты, седло Росинанта, брошенное возле громадных глиняных кувшинов, и вошел в холодный, пустой дом: бурдюки с вином, по-украински чисто выбеленные стены, – и встретился я с детством, с тем первым "Дон-Кихотом", которого нам читают, а потом спустился в подвал, где было холодно, а не прохладно, и увидел решетки – не витые, а тюремные, – и встретился с Сервантесом, которого мы читаем, став взрослыми...
Анхелита ворчливо объясняла, на каком столе обычно обедает Дон-Кихот и где он читает, и говорила она о рыцаре так, словно бы этот добрый непутевый старик ненадолго уехал в Эль-Тобосо, а Маноло "переводил" мне – повторяя слова Анхелиты очень громко, но в пять раз медленнее, чем тараторила смотрительница.
...Водопад, голубая прозрачная вода, красные скалы, желтые тополя, белый прибрежный песок, серебряные нити проводов, словно паутинки в наших лесах в дни редкого ныне бабьего лета, – это дорога к пещерам Монтесимос, по берегам поразительных в своей красоте лагун Руидеры. Асфальт уходит вперед, а Маноло сворачивает направо, на каменистую бурую землю, кустарники царапают дверцы машины, путь преграждают козы, волосатые, как хиппи (боже, сколько их!), пастухи смотрят на машину с серьезным и пристальным интересом; минуем деревушку, обгоняем двух мулов (не Санчо ли Панса сидит на одном из них такой же толстенький и приземистый), поднимаемся по крутому склону, потом чуть спускаемся вниз. Маноло резко берет на тормоза, распахивает дверцу, закуривает очередную черную сигару и говорит:
– Куерос Монтесимос. Компренде, Хулиан?
– Компрендо, Маноло, понимаю, милый Маноло, как же это не понять?!
Дон-Кихот "направился к обрыву, но, удостоверившись, что проложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и давай крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере, по причине какового шума и треска из пещеры вылетело видимо-невидимо большущих ворон и галок... Они... сшибли Дон-Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, то почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места".
Все точно. Воронье летело из пещеры, гомонливо переругиваясь, вход прикрывали кусты с острыми колючками, и не было вокруг ни единой души.
– Пошли, – предложил я Маноло, но он, видимо, отличался от Дон-Кихота в сторону суеверной почтительности к таинственному, поэтому от спуска в пещеру отказался, сделав неопределенный жест рукой: мол, лучше с этим делом не вязаться.
Пещера, поначалу маленькая, уходит под землю далеко и глубоко. Летом, когда сюда забредают вездесущие американские туристки, ребята из окрестных селений водят их за небольшую плату по лабиринтам и показывают истоки Гвадианы. Водят их с фонариками, некоторые, особенно щеголеватые гиды – с керосиновыми лампами. Группа бабушек предложила установить в пещерах электроосвещение ("американская деловитость", куда ни крути!), однако этот проект остался пока что, слава богу, неосуществленным. (Приезжавшая на съемки картины американская киногруппа, между прочим, предложила городским властям Авилы, уникального в своем роде средневекового города, обнесенного крепостными стенами, – живой памятник мировой культуры, – взорвать для нужд съемок один из пролетов стены. Когда им отказали, американские продюсеры не могли взять в толк: "Почему? Мы же потом все реставрируем, построим такой же пролет из настоящих кирпичей и облицуем так, что нельзя будет отличить от остальных...")
...Когда я вышел из пещеры, солнце стояло в зените, и в который раз потрясли меня цвета Испании, и понял я русских художников, приезжавших сюда работать: нигде в мире, даже в Италии, нет такого соседства цветов, которые на каждом шагу встречаешь здесь. От бурых, выгоревших под солнцем виноградников, но не просто бурых, а таящих в себе избыточно-сочную красоту, цвет их силен и мощен, ибо он пропитан солнцем, – до далеких золотых полей пшеницы; от густой синевы лесов до отсутствующей голубизны неба – такие цвета были вокруг у входа в пещеру Монтесимос и была еще тишина, подчеркивавшаяся серебряным перезвоном колокольчиков, надетых на бычьи шеи...
...В Эль-Тобосо – городок словно бы остановился в своем развитии со времен Сервантеса – смотритель дома Дульсинеи сначала завел меня в маленькую, пыльную комнату-библиотеку и открыл большую книгу – немецкое издание "Дон-Кихота".
– А у вас, русских, знают Дон-Кихота?
Мне было бы трудно сказать смотрителю, что Луис Мигель Домингин, человек, не просто любящий Испанию, но и очень тонко понимающий ее, сказал мне: "Лучшее издание "Дон-Кихота" – русское, с иллюстрациями... – он долго не мог справиться с мудреной фамилией, но потом все-таки выговорил: – Кукрыниксы..." Мне было трудно объяснить ему, что у меня на родине Сервантес издан тиражом в несколько миллионов экземпляров – больше, чем в других странах мира.
...Так же, как и в Аргамасилья-де-Альба, большой ключ отпирает деревянную, старинную, с загадочной ковкой дверь, так же, как там, ощущение – Дульсинея сейчас вернется от подруги; такая же узнаваемость всех предметов: и зала, которая казалась Сервантесу громадной, а нам кажется маленькой комнатой (с веками изменилось не только время, которое стало стремительным, но и понятие "пространство" – оно выросло; впрочем, и человечество "подросло" за эти триста лет сантиметров на двадцать), и спальня прекрасной испанки, и комната, отведенная Дон-Кихоту на втором этаже, с узкими стрельчатыми окнами, обращенными на восток.
– Здесь, – говорит Маноло и подходит к стене, – Дон-Кихот, – он ложится на старинную кровать и подкладывает руки, сложенные щепотью, под щеку, – спал. А к этой двери подходила "гуаппа", "мухер" де Дон-Кихоте – Дульсинея.