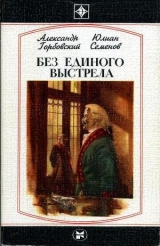
Текст книги "Без единого выстрела: Из истории российской военной разведки"
Автор книги: Юлиан Семенов
Соавторы: Александр Горбовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА III
Между войнами

Бывают периоды мира, на которых лежат как бы две тени – тень войны минувшей и приближающейся войны. Таким было целое тридцатилетие между двумя русско-турецкими войнами 1735—1739 и 1768– 1774 годов.
Пойдя в свое время на заключение мира, обе державы почитали этот мир невыгодным для себя и не почетным, Россия так и не получила выхода к морю, а Турция не обрела уверенности, что не потеряет своих владений. Достигнутый баланс сил был приблизителен и неустойчив.
ВЕРНЫЕ ЛЮДИ И КОНФИДЕНТЫ
Калейдоскоп лиц, которые занимались делами разведки, после секунд-майора, был упорядочен в 1763 году, когда при киевской губернской канцелярии была учреждена особая «секретная экспедиция». Возглавил ее Петр Петрович Веселицкий, назначенный на эту должность не более и не менее как указом Сената. В постановлении о создании экспедиции ему прямо вменялось в обязанность, чтобы прилагал «он, Веселицкий, с ведома генерал-губернатора, всевозможное старание о изыскании удобных способов к благовременному из заграниц турецких получению достоверных известий о всех тамошних заслуживающих применения и уважения происшествиях». Прибытие Веселицкого в Киев, однако, затянулось. Назначенный в 1763 году, он приехал в Киев только два года спустя, в 1765 году. Двухлетнее его опоздание, несомненно, имело свои причины, и, очевидно, весьма уважительные, принимая во внимание тот пост, с которого переходил он. Был же Веселицкий начальником тайной канцелярии главнокомандующего в Семилетней войне. Конец войны и совпал с новым его назначением. Но каждому понятно, что окончание войны вовсе не означает конец деятельности ведомства, которое он возглавлял.
Правда, двухгодичное свое опоздание Веселицкий постарался компенсировать по прибытии величайшей активностью и инициативой. Однако, как и всякий российский чиновник, Петр Веселицкий не был волен в своих действиях. Любые его решения, любые поступки регламентировались тяжелой и неповоротливой машиной государственного аппарата.
– Значит, предлагаете учредить должности конфидентов в означенных городах? – В вопросе Ивана Федоровича Глебова, киевского генерал-губернатора, было не то чтобы сомнение, а скорее общее недоумение.
– Так точно, ваше превосходительство. В означенных городах. – Веселицкий знал, что как человек военный Глебов любил, чтобы с ним придерживались привычной ему военной лексики.
Глебов отвел глаза от бумаг, которые держал перед собой, и поверх очков глянул на Веселицкого. Он увидел человека средних лет, штатского, даже слишком штатского для тех дел, которыми ему поручено было ведать.
Глебов еще раз с сомнением посмотрел на листки и пожевал губами. Все эти годы ему жилось достаточно спокойно и мирно в его генерал-губернаторском кресле, чтобы научиться ценить и свое положение, и мир, и покой, царившие в крае без особых, впрочем, на то с его стороны усилий. Любые перемены и инициативы таили угрозу нарушения этого. Даже столь незначительные, как те, что предлагались сейчас его посетителем.
– Ну что ж, – произнес он наконец, чтобы сказать что-то, и снова принялся рассматривать листки, делая вид, что читает. Ему не было нужды читать их. То, что было написано там, он и так знал со слов Веселицкого. В проекте этом, несомненно, был свой резон. Цепь постоянных конфидентов в главных городах вдоль русско-турецкой границы была бы гарантией против внезапного нападения турок, а перемещение турецких войск, стягивание их к границам может пройти незамеченным, если смотреть из Киева или Петербурга, но не из Очакова, не из Бендер или Могилева. Все это так. Ну а если неведомо каким путем туркам станет известно об этой акции? Вдруг это будет воспринято ими как подготовка к войне? И в результате баланс, столь оберегаемый Петербургом, окажется нарушен. Но, даже если всего этого и не случится, оставался вопрос, который, как дамоклов меч, нависал над чиновниками империи любого ранга. Это был вопрос: «Кто позволил?» В любой миг из Петербурга могли спросить, кто позволил генерал-губернатору Глебову учреждать конфидентов в указанных городах? При таком раскладе генерал-губернатору предстояло бы давать ответ по всей гражданской и военной строгости.
– А что же старые-то? – с надеждой переспросил он. – Чем плохи? Старые-то конфиденты есть, и довольно.
– Да почти никого уж не осталось, ваше превосходительство. Перемерли все.
Его превосходительство покачал головой. И то правда: большинство прежних конфидентов были ветеранами прошлой русско-турецкой войны. Сколько ж лет минуло с тех пор.
– Значит, в Очакове, Бендерах и Могилеве?
– И в Яссах, ваше превосходительство. И в Яссах, – подсказал Веселицкий с готовностью, но достаточно твердо. – Причем каждому конфиденту должно установить жалованье. Рублей сто в год, думаю, довольно будет. Но это всенепременно, ежели хотим, чтобы дело было. За работу платить надобно.
– Подумаю, – пообещал Глебов. – Точнее, я уже подумал. Своей властью решить этого я не могу. Должно соизволение получить из Петербурга. Буду писать в Коллегию иностранных дел. Так что вы подготовьте-ка мне бумагу. Только вот послушайте меня, совет мой вам пригодится. Коли надо какие средства получить для дела, запрашивайте чуть не вдвое более. Тогда получите, что вам надобно. Они, – генерал-губернатор доверительно кивнул на высокий лепной потолок, – знают, что запрашивают всегда больше, чем надо, и всегда дают половину. Так что давайте означим жалованье конфидентам в 200 рублей. А получим сколько надо. Странная эта арифметика, но да так уж заведено испокон.
Веселицкий давно знал эти азы бюрократических игр. С учетом их он и составлял свой проект. Но если его превосходительство намерены увеличить ставки, он с этим спорить не станет. Посему, поблагодарив губернатора за науку, обещал сделать все, как было велено.
Коллегия иностранных дел, получив рапорт Глебова с просьбой об учреждении конфидентов, как и сам Глебов, не решилась взять на себя бремя ответственности. Решение было передано в высшую инстанцию – самой императрице, от которой в конце концов и последовало высочайшее утверждение. Как и ожидал Глебов, жалованье для конфидентов было при этом урезано. Вместо просимых 200 рублей были назначены другие цифры: от 50 до 150 рублей в год.
По получении разрешения секретная экспедиция тут же направила в турецкие владения своих людей. Задание их заключалось в подыскивании конфидентов. Одним из таких агентов был пограничной комиссии комиссар и коллежский асессор Иван Чугуевец. По возвращении он подал в экспедицию рапорт-отчет. Кто же был подобран им в конфиденты? А главное, из каких критериев исходил он в своем выборе? Предоставим ему слово.
«Для такого в Крым отправления, нахожу я способнейшими, надежнейшими, искуснейшими из всех в Крыму торгующих запорожцев и малороссиян есаула Василья Рецетова и полтавского мещанина Павла Яковлева Руденка. Первой, будучи с младых лет в войске Запорожском по купеческому промыслу, многократно в Крыму бывал, о всех тамошних внутренних поведениях и обрядах совершенно сведом; знакомых и приятелей из знатных крымских обывателей довольно имеет; он, кроме Крыма, торговлю производил в Царь-Граде и на островах беломорских, по которой причине употреблен был от г. тайн. сов. Обрескова в некоторых секретных разследованиях и для вывозу пленных и отпущен с рекомендацию; словом, человек знающий и достойных качеств. Последний Руденко с младых лет по купечеству промышляет в Крыму и в Царь-Граде, и больше в Крыму, нежели в отечестве, обращается. Он своими честными поступками и постоянством приобрел у всех знатнейших крымских чиновных немалой кредит и почитаем ими знатнейшим и честнейшим из всех здешних купцов; ему все состояние крымских обывателей, образ правительства и нравы, по долголетному с тем народом обхождению, ведомы; он же на татарском и турецком языках весьма искусен; следовательно, по политическим делам в тамошних местах весьма способен».
Петр Веселицкий, надо думать, немало позабавился, получив это донесение: на секретную службу предлагали принять человека, на этой службе уже состоящего. В то самое время, когда Иван Чугуевец предлагал завербовать Василия Рецетова, сам Рецетов по заданию русской секретной службы был занят тем же делом – подыскивал конфидента.
На примете имел он определенного кандидата – не кого-нибудь, а переводчика самого очаковского паши «греческой породы» человека, Юрия Григорова. Был Григоров не беден, от паши положено было ему немалое жалованье – триста левов в год. Главное же —«в знак султанского к нему благоволения» носил он зеленую шапку. Не простое это дело, завербовать человека, известного самому султану.
Два обстоятельства, правда, несколько облегчали задачу, что стояла перед Рецетовым. Прежде всего он хорошо был знаком с Григоровым, пожалуй, даже дружил с ним ни много ни мало тридцать лет. И другое. Еще мальчиком, живя в Запорожской Сечи, Григорову случилось быть в церкви, когда казаки и все находившиеся там присягали дочери Петра, императрице Елизавете Петровне. Целовал крест и он, Григоров. Всю жизнь он чувствовал себя нравственно связанным этим обетом верности.
В Киеве понимали, сколь непростое дело поручено бывшему есаулу. Сам генерал-губернатор велел привести Рецетова к себе и, беседуя с ним с глазу на глаз, пояснял, «каким образом оного переводчика сондировать, уговаривать, присягою обязать». Но инструктаж инструктажем, а не в меньшей мере полагался Рецетов на свое знание жизни и человека, с которым предстояло ему говорить.
Не сразу приступил он к столь деликатной теме. Как писал Рецетов в отчете, пригласив Григорова на квартиру, где остановился, он «реченого переводчика старался наилучшим образом угостить; нарочно для него взятыми презентами его обдарил, благодаря за дружбу и за благодеяние, оказанное в прежнюю мою бытность по возвращении из Царя-Града, а между тем напамятовал ему о прежнем доброжелательстве к Российской империи; а как сие было наедине, то и он меня заимно о своей ко мне дружбе и неотменной преданности к империи сильнейшим образом уверил; после того звал он меня к себе в дом, куда я пришед, для лутчего его приискания, по их обычаю, сделал подарки жене его и дочери, чем он весьма довольный оказался».
Позднее, вернувшись в Киев, Рецетов представил в экспедицию перечень этих подарков: «1 футро [2]2
Футор – кожа особой, мягкой выделки.
[Закрыть]черное; 1 футро казанское беличье; 3 конца полотна трубковского; 53 арш. полотна гладкаго ярославского; 3 головы сахару весом 15 ф., 1 ф. Чаю, 65 ок. масла, 23 кварты водки».
Во время заверений во взаимной дружбе Рецетов заметил, что знает способ, каким переводчик хана может доказать свою преданность Российской империи и заслужить высочайшую протекцию самой императрицы. Что же это за способ, Рецетов обещал рассказать, как писал он потом в отчете, «буде он по дружбе согласится со мною на узморьи для прохаживания идти, где наедине свободнее и безопаснее ему открыться могу, ибо ничто нам не помешает. И так, вышедши к берегу, начал я ему внушать, в силу данной мне секретной записи, о порученной по оной комиссии; но приметя на то некоторое с его стороны сумнение, принужден был клятвою его подтвердить, что я единственно для того в Ачаков отправлен, при чем показал ему секретную записку за рукою г-на канцелярии советника Веселицкого и там его убедил».
Конфидент считался принятым на секретную службу, когда давал клятву перед образом, «по христианскому обычаю, о четырех глазах», то есть в присутствии единственного свидетеля. Григоров принес клятву и на долгие годы стал доверенным лицом и конфидентом русской разведки. Жалованье ему было положено поначалу от 120 до 150 рублей в год. Было оговорено, что сумма эта может быть увеличена в зависимости от его ревности и важности сообщаемых известий.
Первые же сведения, поставленные новым конфидентом, оказались столь важны, что вопреки всем ограничениям решено было жалованье ему удвоить. Хотя усердие и рвение его были не ради денег, такая прибавка оказалась весьма кстати. Сбор сведений требовал времени, разъездов, а главное, подарков. Ничто так не развязывало языки, как подарки, – этим словом деликатно обозначали разного рода подношения, даваемые небескорыстно. Термин этот помогал избежать другого, более грубого слова.
Предоставление секретной информации за деньги, оказание услуг за плату было вполне в нравах тогдашней Оттоманской империи. Заниматься этим не брезговали лица, пребывавшие на самом верху лестницы власти. В свое время русский посол в Константинополе просил Петра I прислать ему побольше «мягкой рухляди» (мехов) «для удержания интересов Вашего Величества понеже визирь великий емец». Европейские дипломаты, оказавшиеся в Константинополе, довольно быстро усваивали эти нравы. Так, голландский посол граф Кольерс каждый год тайно получал из Петербурга «дачи» и «награждения» за услуги, оказываемые по секретной части. На таком же жалованье (о чем посол, естественно, не догадывался) состоял и его переводчик, Вильгельм Тейльс. Из тех же фондов русская разведка оплачивала услуги французского посла и его переводчика.
Язык подарков, подношений, иными словами – подкупа, понятен был и в вассальном Турции Крыму. Когда в 1766 году встал вопрос об учреждении там русского консульства, миссия склонить к этому хана была поручена капитану, офицеру разведки Анатолию Бастевику. В инструкции, изготовленной на сей предмет, говорилось:
«Когда же Бастевик усмотрит, что и при хане никакие другие побудительные резоны ни малейшего действия иметь не могут без златого доказательства о пользе и надобности пребывания в Крыму нашего консула, в таком случае он, Бастевик, может в крайней конфиденции ханскому наперснику внушить, что если его принципал поскорее его дело в здешнее удовольствие решит, то ему в благодарность за то отсюду пришлется с посылаемым к нему новым здешним консулом тысяча червонцев и два меха: один соболий, а другой лисий, или подобное, что ему, хану, самому угодно будет».
Зная неизбежность такого рода «накладных расходов», и было решено увеличить жалованье конфидента Григорова вдвое.
Когда не случалось оказии и верного человека, письма свои отправлял он обычной почтой. В те патриархальные времена это представлялось делом достаточно безопасным. Адресовались эти послания на имя купца Пантазия, но имели отличительный знак – три прямых черты на конверте. По этому знаку коменданту крепости святой Елисаветы велено было письма те тотчас изымать из прочих и безотлагательно через нарочного доставлять в секретную экспедицию в Киев.
ВОЙНА У ПОРОГА
С некоторых пор в сообщениях конфидентов и офицеров разведки начали появляться тревожные вести: Турция готовилась к войне. Пока это были первые шаги. Но тот, кто делает первый шаг, собирается обычно совершить и последующие. В Валахии и Молдавии, сообщали конфиденты, турки стали сооружать склады для амуниции и провианта. По рекам поплыли целые караваны бревен, связанных толстым морским канатом, – турки собирали лес, идущий обычно для наведения переправ и строительства укреплений. Разведчики доносили: из приграничных районов стада постепенно отгонялись вглубь. Появлялись сообщения о передвижении войск; «из Румелийской стороны на Дунай собралось тысяч до сорока», «город Очаков вскорости ожидает из Анатолии янычар тысяч до десяти».
Сообщениям этим можно было доверять или не верить, но игнорировать их было невозможно. На всякий случай, дабы избежать внезапного нападения, генерал-майору Исакову предписали «неприметным образом форпосты войскам приумножить и удобвозможную от неприятеля иметь предосторожность». О военных приготовлениях турок сообщено было и Румянцеву, генерал-аншефу и кавалеру, с тем чтобы он постепенно придвинул, войска, дабы, когда нужда потребует, границы «там скорее защищены быть могли». Как и Исаков, Румянцев должен был провести сей маневр «без малейшей о том огласи». Предосторожность эта вызвана была не только военными соображениями. До последней минуты российская сторона оставляла шанс – избежать начала военных действий. Русская армия не должна была совершать никаких акций, которые могли бы быть поняты турками как приготовление к войне. Мир продолжай оставаться неустойчив, и немного было нужно, чтобы этот баланс оказался нарушен. Иногда войны вспыхивали только из опасений, что другая сторона начнет ее первой. В России меньше всего хотели дать Турции повод к таким опасениям.
Но если вопреки всем этим благим побуждениям Турция готовится напасть?
Для разведывания, доподлинно ли турки чинят приготовления к войне, решено было отправить к крымскому хану капитана Бастевика с письмом. Следовать же ему в Крым не прямо, а через Балту и Дубоссары, чтобы найти повод повидаться с тамошним конфидентом Якуб-агой и попытаться получить от него вести. Для сопровождения же капитана как лица немаловажного был придан ему эскорт – четыре запорожских казака.
Якуб-ага, к тому времени наместник в Дубоссарах по должности своей не имел особых поводов встречаться и разговаривать с русским капитаном. Бастевик понимал это. Значит, нужно было создать такой повод.
Поздно вечером, подъезжая уже к Дубоссарам, Бастевик велел съехать с дороги.
– Братцы, – обратился он к казачьему конвою, что сопровождал его, – посмотрите-ка коляску. Что-то, сдается мне, заднее колесо не держится, из стороны в сторону вихляет. Не потерять бы.
Казаки спешились, потрогали колесо, покачали головами. Все было в порядке.
– Хорошее колесо, барин. Не извольте беспокоиться.
Но капитан стоял на своем. Не держится колесо, как бы не случилось чего.
– Ну раз благородие так полагают, значит, так оно и есть.
Смекнули казаки: не первый раз были в подобном деле. Один, поднатужившись, поднял заднюю часть коляски, другой подвалил камень. Дело пошло. Но пошло с трудом, хороший каретник мастерил ту коляску и вовсе не для того, чтобы так легко было в ней что-то сломать или испортить. Когда наконец тронулись и выехали на дорогу, заднее колесо и правда выписывало кривую.
По случаю такой приключившейся в пути аварии Бастевик, едва добравшись до квартиры, отправился к наместнику просить прислать кузнеца и каретника, чтобы можно было ему продолжать свой путь.
«Как провожать он, Якуб, меня из дому стал, – писал Бастевик много позднее в своем отчете, – то дал ему вид, с которого он догадаться мог, что я с ним желаю наедине видеться. А по уходе моем от него, Якуба, в показанную мне квартиру, чрез час прислал он, Якуб, ко мне Магмута, который мне сказал, что по прошествии часа в ночь выйти мне из квартиры моей якобы для прогулки и назначил место, где мне ожидать; почему я тотчас в назначенное место и пришел, где и ожидал. А как он узнал, что я там уже ожидаю, то он, Якуб, выслал ко мне своего мальчика, который мне и объявил, чтоб я пришел к его пану. А за прибытием моим для лучшего и способнейшего разговору взял меня за руку и ввел в свою спальню, куда по их обыкновению никто не входит, и начал я говорить речь, до него принадлежавшую, в силе данной мне мемории, и данное мне письмо и посылку вручил ему. Разговор же наш с Якубом, – заключал капитан, – продолжался до пяти часов. И, окончив те разговоры, простясь с ним, отошел я в отведенную мне квартиру».
На другой день, когда повозка была починена, Бастевик и бывший при нем казачий эскорт отправились далее. Того, что выведал он у Якуба, что видел сам по пути, довольно было, чтобы понять – Турция готовится вступить в войну безотлагательно. С рапортом об этом уже с дороги отправил он казака к российской границе, к Орловскому форпосту, куда тот благополучно прибыл.
Сам же Бастевик с поредевшим эскортом отправился далее, не ведая, впрочем, что ждет его в конце пути.
Независимо от Якуб-аги исправно посылали свои донесения Юрий Григоров из Очакова, Попович из Крыма и Дубоссар, Молчан из Бендер. Польский священник Илья Сулима через верных людей прислал письмо Глебову, предлагая свои услуги по секретной части. Дважды в месяц писал Кафеджи из Могилева.
Иоанн Николаевич Кафеджи был «знатной и богатой купец», его услугами Веселицкий пользовался и ранее в бытность свою при главнокомандующем в Семилетнюю войну. Тогда Кафеджи исправно сообщал о маневрах и планах армии Фридриха II. Судя по всему, секретная экспедиция и сейчас весьма дорожила этим конфидентом. Инкогнито его соблюдалось самым неукоснительным образом. Даже в реляциях на высочайшее имя генерал-губернатор ни разу не раскрывает его тайны – повсюду он фигурирует как «могилевский приятель».
Кафеджи рисковал и работал на разведку не ради денег. Об этом упоминается в указе императрицы на имя киевского обер-коменданта Ельчанинова. Не следует назначать жалованье человеку, говорится в указе, который согласился поставлять сведения, как христианин и «из усердия к империи». Сведения, что доставляет он, куда дороже тех ста пятидесяти рублей, которые могут быть ему назначены. Кроме того, деньги эти получать ему «не беспостыдно, тем паче; что оное при его знатности и богатстве не сделает ему в капитале большого приращения».
Когда над южными границами империи стали собираться тучи, «могилевскому приятелю» было поручено послать от себя в турецкую армию верных людей «для разведывания как о тамошних обстоятельствах, так о состоянии и числе главной под предводительства верховного визиря армии».
Каким образом, под какой личиной проникли люди эти в турецкую армию, каковы были их имена – об этом не осталось ни памяти, ни следа. Известно только что в самый краткий срок в секретную экспедицию было доставлено обстоятельное донесение, содержащее все сведения, интересовавшие ставку русской армии.
Накануне отъезда капитана Бастевика к Якубу, за три недели до объявления Турцией войны России, другой конфидент, Яков Попович, писал ему, что объявлен секретный приказ султана янычарам готовиться всем к походу. В Бендерах, сообщал он, арнаутские войска с крайней поспешностью ремонтируют крепость, готовя ее к обороне, а в крепость Казыбей «приведено из Константинополя множество всяких военных сбруй и припасов».
Получив это сообщение, которое вкупе с другими донесениями и рапортом казак доставил от Бастевика, Веселицкий составил доклад, который тут же подан был генерал-губернатору. В кабинете Глебова доклад этот не задержался. Того же дня переписанный набело с курьером отправлен он был в столицу государыне. Другие копии тут же посланы были в Коллегию иностранных дел и обоим командующим армиями, расположенными на юге: генералу А. М. Голицыну и генералу П. А. Румянцеву.
Для Веселицкого и его людей война началась задолго до того, как она была объявлена официально. Русскую армию, предупрежденную заранее, турецкий ультиматум и начало военных действий не застали врасплох.
Что касается капитана Бастевика, то он благополучно достиг Бахчисарая. Однако хан под разными предлогами не принимал его, откладывая аудиенцию со дня на день. Так продолжалось до того утра, когда капитана разбудили звуки оружия и крики янычар под окном. Это явились за ним. Но прибывшие препроводили его не в ханский дворец, а в темницу.
Долгие месяцы провел капитан в плену. Когда же его выменяли наконец на пленного турецкого офицера, война была уже в самом разгаре.
Киев, которого он не чаял уже и увидеть, встретил Бастевика бабьим летом. В ставке капитана ждал указ о производстве в следующий чин. Кроме того, его с нетерпением ждал Веселицкий, который, не дав бывшему капитану ни дня на отдых и поправление здоровья, поручил ему очередное дело, не терпевшее отлагательств.
Подполковник Каразин, к которому приставлен был теперь Бастевик, ростом невелик, голосом тих, и, если б не славный послужной его список, трудно было б поверить, что Каразин – боевой офицер и прошел в боях не одну кампанию.
– Господин Бастевик всем потребным вас обеспечит, – пояснил Веселицкий. – И к людям своим, что у него по ту сторону имеются, путь укажет.
Бастевик не помнил, чтобы с кем-нибудь канцелярии советник держался с той мерой почтительности, как с подполковником. Бастевик на своем опыте знал, что почтительность имеет свои оттенки, свои нюансы. Почтительность же Веселицкого к подполковнику была совершенно особого рода. Каразина он знал еще по прусским делам, по Семилетней войне. Видно, советнику известно было о нем нечто, что внушало ему столь глубокое уважение. Бастевик полагал, что Веселицкий так или иначе откроет ему что-то, если только это не связано с выполнением каких-то прежних секретных дел. Но Веселицкий предпочел промолчать.
Для России смысл начавшейся войны был в одном – получить выход к Черному морю. Останется ли гигантская империя замурованной в полосе безводных степей, или прорубит еще одно «окно в Европу» на юге?
Для Турции победа означала бы сохранение статус кво, сохранение владений в Молдавии, в Крыму, вдоль Черного Моря.
Что касается народов, находившихся под властью Турции, то для них победа России должна была принести им долгожданную свободу.
Игра на неизвестности и страхе – это был ход, привычный в таких делах. Ему можно было противопоставить только одно – слово самой российской императрицы о даровании свободы народам, что будут освобождены от турецкого ига. Но мало было составить такой манифест, мало было перевести его на другие языки и распечатать. Нужно было найти средства тайно доставить манифест туда, где его ждали, – в Молдавию, Сербию, Грецию, В этом-то и должна была состоять миссия, возложенная на подполковника Каразина. Но для выполнения задачи, столь ответственной и столь трудной, необходимо было прикрытие, личина, которая не вызывала бы ни сомнения, ни подозрений.
Настоятель Киево-Печерской лавры архимандрит Зосима Велькевич не был удивлен визитом генерал-губернатора. Иван Федорович Глебов нередко жаловал его своим обществом, ценя его светлый ум. Сейчас шла война, обстоятельства привели Глебова под эти своды. И от того, о чем пришел он говорить с настоятелем и о чем собирался просить его, было ему неловко. Словно на дурное пришел подбивать старца.
Отец Зосима являл благостность не только по облику и по сану, но и по самой человеческой своей сущности. Хотя то, что предложил ему Глебов, было противоестественно и глубоко чуждо душе, он выслушал пришедшего без гнева и раздражения, только со скорбью. И здесь, в этой обители, мирская тщета и злоба пытаются достать его и втянуть в свои игры.
– Пасторский долг мой, – так ответил он Глебову, – наставлять прихожан и духовенство в деле любви, в деле нелжи и правды. Как же я выйду к ним с алтаря и буду вещать им слово божие, будучи сам во лжи с головы до ног? Коли своею рукой подпишу я эту бумагу, гласящую, что подполковник ваш суть инок и принял чин монашеский, – сие ложь будет. Ложь перед богом и ложь перед людьми. Грешен я словом. Грешен делом. Грешен помыслами. Грешен по неразумению своему и слабости. В здравом же уме и трезвой памяти на грех и на ложь не пойду. Извини, коль огорчил тебя, Иван Федорович. Обрадовать не могу.
Но не напрасно Глебов бывал у архимандрита и не без пользы проводил многие часы в беседах с ним. Знал он, что сказать на это и что возразить ему.
– Непохвальна всякая ложь, владыко. Ведаю. Две лжи есть. Одна себе на корысть. Другая же ложь на пользу братьям по вере, братьям, что сейчас в турецкой темнице томятся, как некогда апостол Павел в узах. Не учит ли нас Христос отдавать души за братьев наших? Приняв на себя сей грех, мы исполним высокую заповедь любви к ближнему.
Отец настоятель молчал. Он сидел, полузакрыв глаза.
– Смутил ты меня, Иван Федорович. Молитва подскажет мне, как поступить должно. А сейчас оставь меня.
Глебов встал и склонил голову, принимая благословение.
На другой день нарочный из лавры принес губернатору пакет. В нем лежал большой лист – свидетельство монаху Симеону на свободный пропуск его в заграничные монастыри. В тексте, подписанном архимандритом и скрепленным печатью лавры, значилось, что «предваритель сего Словено-сербской нации Далматской уроженец, Венецианской Республики подданный, Симеон Путнин, прибыв в 1765 году по обещанию своему из отечества в нашу Лавру для поклонения св. мощам, приняв в оной по собственному изволению чин монашеской, а ныне возжелал для спасения души своей путешествовать за границу в другие св. места, того ради мы всех христианских земель и областей начальников, духовных и мирских, смиренно молим оному монаху Симеону в пути его чинить свободной пропуск…».
Сборы не заняли много времени, и вскоре Каразин покинул Киев, отправясь в рискованную свою миссию. Бастевик хотел было проводить его до последнего пункта русских войск, но, когда подполковник сказал, что не стоит брать на себя труд, настаивать не стал. Те часы и дни, которые провели они с Каразиным вместе за сборами и подготовкой, почти не сблизили их. У каждого была своя жизнь и своя судьба, которая сейчас ненадолго свела их вместе, чтобы потом, возможно, они не встретились никогда. Оба они понимали это. Да и сам Бастевик знал: отправляясь на такое дело, последние часы он предпочел бы побыть наедине с собою.
По прошествии дней, необходимых для подтверждения, что Каразин отбыл и передовые турецкие линии благополучно миновал, И. Ф. Глебов отправил императрице рапорт об этом деле, в котором говорилось: «Помянутый подполковник, по исправлении надобной ему одежды и протчего, что до безопаснейшего продолжения его странствования к г. Букурешты принадлежало, 14 числа сего же месяца отсюда в обыкновенном своем одеянии по почте отправился. А у последнего форпоста намерен он командиру оного оставить свое платье и, переодевшись в иноческое, в образе монаха чрез Галицкий уезд пробираться к пустынному монастырю, называемому Великий Скит, который в реченном уезде на самой границе, в горах, против того места, где к Трансильвании Молдавия примкнула. При себе явного имеет: данное ему от архимандрита Киево-Печерской Лавры письменное свидетельство; одну старую псалтырь, в досках которой весьма неприметно скрыта грамота к бану; одну такую деревянную фляшку, в каковых странствующие тамошних краев иноки для утоления в пути жажды обыкновенно воду держат; она сделана двудонная и служит к сохранению посылок; одни четки и один из простого дерева монашеской посох, в коем уместилось по 10 экземпляров манифеста на Греческом, Словено-сербском и Волоском языках. По прибытии его в сем приборе в помянутый пустынный монастырь выпросить намерен у тамошнего начальника, яко состоявшего под ведомством знаменитого в Молдавии Сочавского монастыря, одного себе спутника для препровождения до оного, откуда он посредством и способствованием архимандрита уповает безопасно препровожден даже быть до г. Букурешта. Посланной в бытность его здесь, уважая критические обстоятельства и нежность своей комиссии, старался все то, елико до беспечного продолжения его пути и скрытия своего предприятия касаться могло, найлучше распорядить, избирая ближайшие способы, каковы только придуманы быть могли, в свою предосторожность; но со всем тем удача в его предприятии кажется подвержена немалой опасности и зависит от жребия, которой со временем откроется».








