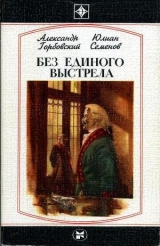
Текст книги "Без единого выстрела: Из истории российской военной разведки"
Автор книги: Юлиан Семенов
Соавторы: Александр Горбовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Посыльный, которого он отправил за Куртиной в Белую Церковь, на другой день вернулся, объявив, что еще 20 числа апреля волею божьей грек умер. Узнав о том, секунд-майор не опечалился, а только несколько огорчился на собственное бесчувствие. Правда, он не любил грека. Не любил за вечное его лукавство и жадность. «Уж не от яда ли?» – усомнился майор и велел узнать поподробнее, какой смертью он помер. Но главное, через верных людей распорядился неприметным образом проведать, не видел ли кто оного беглого турка со злодеем, схваченным в Дубоссарах. А если видели, то когда и за каким делом?
Через пару дней пронырливые людишки доложили ему, что один трактирщик клятвенно уверяет, будто видел, мол, их обоих у себя дважды. Сидели-де в углу и шептались. А о чем, то ему неведомо. И по внешности, как он говорит, весьма на тех двоих походят. Секунд-майор велел привести трактирщика. Едва перевалившись через порог, трактирщик бросился в ноги.
– Ваше благородие, не погубите!
– А чего ж тебя губить, братец? – заметил майор тем леденящим своей ласковостью голосом, который специально был припасен у него на случай таких вот разговоров. – Разве что воровство какое за тобой числится? Тогда уж не обессудь.
Кивком выслав конвойных, секунд-майор медленно обошел вокруг трактирщика. Тот как был на коленях, так и остался, только поворачивался вслед. В рыбьих глазах его было соответствующее ситуации выражение подобострастия и испуга.
Но при всех жалобных возгласах и валянии в ногах в облике его присутствовало некое тайное лукавство. Краешком глаза он словно приглядывал за секунд-майором, как бы пытаясь угадать, а так ли делает он все, потрафил ли он его благородию? «Шельма, видать», – заключил про себя майор.
– Говорят мне, – продолжал он, усаживаясь за широкий штабной свой стол, – что неких персон в своем заведении ты приметил?
– Истинно так! – возликовал трактирщик.
Секунд-майор неспешно, весьма неспешно достал из ящика серебряный новенький рубль с профилем государыни Анны Иоанновны и, повертев в пальцах, положил его на край стола. Трактирщик впился глазами в серебряный кружок.
– А скажи-ка мне, любезный, означенные персоны каковы по внешности будут?
Трактирщик зачастил словами. Из описания его как бы и правда явствовало, будто видел он их, будто тот и другой у него встречались. Но откуда взял он, как они выглядели, не со слов ли того, кто его допрашивал? Такие худые людишки повсюду есть, секунд-майор встречал их. Ради награды, а то и просто ни про что на кого хочешь любое показать могут.
А что, любезный, не заметил ли ты у того, что поменьше, у вертлявого, серьги в ухе? А другой вроде бы на одну ногу хромал шибко. Так ли?
С этими словами он взял рубль и, словно нехотя, повертев в пальцах, несколько раз переложил из руки в руку.
Трактирщик горячо подтвердил все им сказанное. И что хромал один, и про серьгу в ухе. Секунд-майор хрустнул пальцами, зря он теряет с этой шельмою время. Но, войдя во вкус игры, ему стало жаль ломать ее сразу.
– Ну а о чем толковали они, ты небось, братец, слышал?
– Слышал! Слышал, ваше благородие. Злодейство умышляли они. Измену!
Секунд-майор швырнул монету в ящик стола и с шумом задвинул его.
– Ну а коли и вправду видел ты их и речи их воровские слышал, да не донес, значит, и сам заодно с ними. Значит, суд вам один и одна расправа!
Произнес это он все тем же ласковым голосом, так что смысл сказанного дошел не сразу. Когда же дошел, трактирщик взвыл и чуть не замертво повалился на паркет, напуганный теперь уже по-настоящему. Но майору все это уже надоело.
– Вон – рявкнул он и затопал ногами так, что зазвенели стекла в высоких окнах.
Шельма взвился как на пружинах. Он плашмя ударился в дверь, едва не расщепив собой обе лакированные ее половинки, а дальше его как ветром сдуло.
– Каналья, – пробормотал майор, ничуть, впрочем, не выведенный из себя всей этой сценой. И напускной гнев, неотличимый от настоящего, и топанье ногами, и крик – все это было частью обхождения, ожидаемого от него как от начальника и от барина. Если же и испытывал он в ту минуту некоторую досаду, то лишь потому, что понимал: ниточка ускользнула снова. И теперь уж, наверное, окончательно.
Это было как в штоссе – карта шла или не шла. Сейчас она явно не шла. Секунд-майор собрал бумаги, захваченные в Дубоссарах, и, достав из дальнего ящика медный резной ключ, с усилием отомкнул дубовую дверцу шкафа. Здесь, в массивной железной шкатулке, хранились бумаги, не подлежавшие оглашению ни при каких ситуациях. Сюда сложил он и эти листки, полагая, впрочем, что в свое время он вернется к этому. Так, вероятно, думал он, опуская тяжелую крышку.
Сейчас, по прошествии двух с половиной веков, мы знаем, что к этому делу он так и не вернулся. Может, обстоятельства сложились так, а может, другие дела потребовали пристального его внимания и усердия.
Так и остались затерянные в прошлом – злодей, схваченный в Дубоссарах, бежавший «турчин», грек Куртина, который «не раз в шпионство употреблялся». Затерян и забыт за давностью лет оказался и запорожский есаул, и славные его товарищи. До нас не дошло даже их имен.
КТО БУДЕТ ПОМНИТЬ СЕКУНД-МАЙОРА?
Вскорости губернатор сам пригласил секунд-майора заглянуть к себе, пообещав дать кое-какие бумаги, которые он, не доверяя никому, держал в личном своем кабинете.
Из папки, лежавшей перед ним, один за другим он вынул несколько листков и, пробежав глазами, протянул некоторые майору, другие же убрал обратно.
– Полюбопытствуйте. Если найдете что интересным для его сиятельства, я велю изготовить копии.
Даже те читая, по внешнему виду секунд-майор догадался, что это были за листки. Это были донесения верных людей, конфидентов, или «приятелей», как их еще называли. Разными путями шли эти сложенные в несколько раз, потершиеся по сгибам листки, прежде чем попасть сюда, в кабинет его превосходительства. Люди, которые несли их на себе, пробираясь мимо турецких линий, знали, что, если их схватят, им не придется уже выбирать себе смерть. У янычар не было большей радости и лучшего развлечения, чем, собравшись возбужденной толпой, созерцать, как палач в липком от крови кожаном фартуке сдирает с зашедшегося в крике человека кожу. Обычно для этого ему нужны были два-три помощника, и недостатка в добровольцах не случалось.
Все это успел подумать секунд-майор, пока Сукин перебирал лежавшие перед ним листки. То ли отсвет от окна так упал на его лицо, то ли Семен Иванович повернулся в эту минуту на такой ракурс, только секунд-майор, взглянув на него, подумал: «Не жилец». Он увидел на лице его печать недалекой смерти.
Ему и самому было непонятно, из чего складывалось это ощущение, он несколько раз испытывал это чувство, и всякий раз предчувствие не обманывало его. Однажды он прочел печать смерти на лице подхорунжего, которого отправлял в Крым, чтобы разведать там о турецком флоте. Он хотел было даже отменить командировку, но возомнил тот знак суеверием. Секунд-майор провел по глазам рукой, отгоняя навязчивую память.
Не прошло и года, как ему пришлось вспомнить пророческую свою догадку. Пока же, вернувшись к себе, он разложил перед собой листки и велел зажечь свечи.
«По прибытии моем в Рашков, – читал он, – застал я авангард турецкий в нескольких тысячах и 10 пушках на той стороне Днестра реки под командою Соркадзи-паши и полковника Музуры. На сей стороне Днестра под Молокишем на горе стоит с татарами сераскер-султан Алим-Гирей в великой осторожности…»
Нет, не постарался, видимо, «приятель». «Несколько тысяч» – разве это сведения? Ради этого не стоило брать на себя риск, идти в поиск.
Сообщение от «приятеля Д.»: «27 числа Гендж Али-паша прибыл в Хотин в числе выбранного войска от 5 до б тысяч. Помянутый бендерский сераскер прибыл в Хотин 28 числа, где от Калчак-паши принят с пушечною пальбою, и якобы войска при нем – турецкой пехоты 20 тысяч, да конницы до 40 тысяч и до 60 пушек имеется». Это уже нечто более точное и конкретное. Секунд-майор окунул перо в бронзовое жерло чернильницы и выписал на листке эти цифры. Чернила были изготовлены из орешков по всем правилам и, когда подсыхали в свете свечей, сверкали мелкими блестками.
Следующий листок «от приятеля Ш.»: «Сераскер-паша бендерский со всею тяготою и со всем войском из Бендер выступил и следует своею стороною, и, по прибытии в недальнее расстояние выше польского Ягурлыка, встретил его Рашковский губернатор Савицкий и просил, дабы турки на польскую сторону не переезжали…» В качестве отступного губернатор передал турецкому войску целый обоз продовольствия. Это был тревожный знак. Но относился он к сфере скорее государственной, чем военной. Было неясно, что это – вынужденный поступок или умышленная помощь туркам в войне с Россией?
А вот «перевод с письма италианского, в цифре писанного, от корреспондента под литерою «Д»: «Из Бабадаги. Был здесь держан совет, в котором решено, дабы визирь Дунай переехал. Военным выдали жалованье. Поход имеет быть в последних числах апреля, пока мост окончится. Здесь военных людей мало находится». Донесения из местечка Сороки он отложил отдельно. В них предстояло еще разобраться. Рядом с ними легли донесения из Кишинева, от тамошнего «приятеля» Луппола.
«Превосходительный господин губернатор киевский. Вашему превосходительству, милостивому моему патрону и благодетелю, при целовании Вашего превосходительства руки, покорно кланяюсь. С покорнейшим моим почтением Вашему превосходительству доношу…»
Секунд-майор нетерпеливо перелистал мелко исписанные страницы, добираясь до последней. «…Между тем, при покорнейшем моем почтении, рекомендовав себя высокой Вашего превосходительства впредь милости, остаюсь Вашего превосходительства покорный и послушный слуга Луппол».
Молдаванин, служивший в армии визиря, интендант бошницких полков, Луппол писал, как всегда, многословно. Правда, в многословии этом нередко содержались ценные сведения. Вопрос, который пытался решить майор, заключался в том, насколько сведения эти были истинны.
Секунд-майор придвинул к себе другую стопку бумаг. Это были донесения из Сорок, написанные тамошним полицейским приставом. Он заглянул в конец послания. «Между тем с покорностию моею остаюсь Вашего превосходительства покорным слугою Андронаки».
Слова. И там и там сплошная вязь слов. Но сквозь эту вязь и у Андронаки и у Луппола с некоторых пор стала проступать одна мысль, одно стремление – склонить русских к походу в Молдавию. Луппол пространно писал о слабости турок, о том, что они готовы разбежаться при одном слухе о приближении русских. Андронаки обращался к другим доводам. «В Буджаке, – писал он, – и около Буджака весьма много имеется волов, коров, овец, лошадиных табунов и разного скота: ежели бы воспоследовала армия всероссийская в оные стороны, весьма изобильно была бы удовлетворена».
Почему кишиневский интендант и пристав из Сорок так едины в стремлении склонить русских к походу в Молдавию? Не стоит ли за ними кто-то один, кто движет их рукой, пишущей донесения? Может, сам визирь или кто-то из его генералов, расставивших ловушку и думающих теперь, как бы заманить в нее русских? И куда как неспроста Луппол допытывается в своих письмах о военных планах и замыслах русских.
Сомнения эти пришли секунд-майору давно, еще в начале зимы. Дабы проверить их, он тогда же отправил в те края лазутчика, киевского мещанина Степанова, человека дотошного и во всяком деле соблюдавшего свой интерес. Пробравшись под видом польского торгового человека, он заявился в Кишинев к Лупполу. Принят был ласково, гостил у него, осматривал город, а потом вдвоем они объездили деревни, где стояли бошняцкие полки на постое. Вроде бы и правду писал Луппол. А вроде бы и нет. Если турки столь слабы и не помышляют противиться русским, почему во многих местах видны следы воинских приготовлений? Бендеры, где побывал Степанов, изготовлены к обороне, в крепости установлена новая батарея и даже сады перед ней срыты, чтобы шире открыть поле обстрела. Непохоже, чтобы турки были слабы или чтобы их было можно застать врасплох.
Хитрит с ними Луппол, лукавит.
Обо всем этом в который раз думал он сейчас, перекладывая листки донесений. Не было у него веры тому, что написано в них. Но и поручиться, что все там ложь, он тоже не мог бы. Андронаки вроде бы не лжет. Но проверить бы! Близился день, когда господин фельдмаршал, возвратившись из Петербурга, где он проводил зиму, повелит генерал-квартирмейстеру доложить о турецких обращениях – где турки, сколько их, каковы их планы. И особенно будет интересовать Миниха все, что касается земель за Бугом и за Днестром. А еще будет его интересовать, почему господин майор, состоящий при генерал-квартирмейстере, не удосужился получить эти данные и не думает ли господин майор, что ему пришло время уйти в отставку и удалиться навсегда в свою деревню без пансиона и без мундира?
Генерал-квартирмейстер был из кавалеристов, на пост же этот назначен только ввиду случившейся вакансии и, главное, повышения, с этим связанного. Никаких других резонов назначению этому не было, как не было, впрочем, и резонов ему не состояться. В дела он не вникал, оставляя это секунд-майору и другим офицерам, состоявшим у него в подчинении. Тому была у него своя логика. Люди, бывшие под его началом, освобождали его от скучной обязанности знать и думать. Во всяком случае, от обязанности делать это в пределах, обременительных для него. Они составляли бумаги, вели переписку, вечно принимали каких-то посетителей. В отличие от них он посвящал себя занятию куда более высокого разряда. Он служил.
Впрочем, все эти обстоятельства ни в коей мере не мешали ему быть человеком и честным и добрым. Он никому не мешал, а во все времена это высшая похвала из тех, кои могут быть сказаны в адрес начальства.
Когда сотнику Константину Бантыжу велено было немедля отправляться в Киев, в ставку армии, первой его мыслью было сказаться больным. Он сразу понял, кто и зачем прислал за ним. Года не прошло, как вот так же приехали к нему посыльные в синих мундирах. И не понять было, то ли для почета сопровождают его они, то ли конвой. Но тогда, едва завершив дело и вернувшись в полк, он сказал себе: «Все. Хватит».
И вот опять.
– Мамо, Ганна! Собирайте-ка в путь-дорогу. – Он притворялся, будто ему весело. Пусть, и правда, думают, что едет он до Киева, а оттуда в Нежин принимать коней для полка. Пусть думают так.
Но чего же собирают они его, как на войну? «И то, словно чуют!» – подивился сотник. Сколько раз ездил до этого он и в Нежин, и в Белую Церковь. Почему же сегодня заплакала мать, прижимая его к себе, прощаясь? А на жену пришлось даже прикрикнуть, чтобы перестала реветь, глупая баба. И она заулыбалась ему сквозь слезы, как солнышко после дождя.
Знал сотник, что на обратном пути непременно привезет он обновку ласковой своей жене, привезет гостинцы матери и ребятишкам. Не знал только, не мог поручиться об одном: будет ли этот обратный путь, написан ли он ему на роду.
Когда подъезжали к Киеву, было утро, солнце едва встало, и над домами пригорода в воздухе плыл колокольный звон. У каждой церкви был свой набор колоколов, от малого и до самого главного, и свой звонарь, звонивший отлично от остальных. Сотник знал: киевляне по колокольному звону могли угадать церковь и даже кто звонит. Самому же ему слишком редко приводилось бывать в славном граде, чтобы постичь эту премудрость. Только колокола лавры в торжественной их весомости различал он среди общего благовеста. И какое-то непривычное чувство радости бытия, благодарного удивления, что он живет, коснулось на миг его сердца. «Уж не в последний ли раз для меня все это?» – мелькнуло у него.
Но не след было думать сейчас так. Как-то случилось, произошло само собой, то ли конь, то ли сама дорога вывели его к лавре. Оно и к лучшему, что побывает он здесь перед таким делом, не ведая, жизнь или смерть ждут его. Сотник спешился, и с ним спешились сопровождавшие его, видно, сами не понимавшие до конца, кто же они – почетный эскорт или конвой.
Когда секунд-майор, под звон курантов на площади поднимался в отведенный, ему кабинет, сотник, стоя во фрунт, уже ждал его у дверей.
– Здорово, Бантыж!
– Здравия желаю, ваше благородие! – ответил как припечатал. Не горласто, как на плацу, но и не чрезмерно тихо, а именно с той долей куражу, который полагался в таких апартаментах и при данных обстоятельствах.
– Ну что, Константин? Как ратные твои дела?
Расположившись в креслах, секунд-майор не торопился предложить сотнику стул. Тот, как и полагалось делать это, не ответил, а отрапортовал: полк его-де на отдыхе, когда же опять идти на дело, о том, надо знать, начальство ведает. Когда секунд-майор кивнул ему наконец на стул, сотник опять же не сел, а только исполнил приказ садиться. Но так и быть должно, как необходима была и последующая часть беседы, когда секунд-майор участливо расспрашивал его о домашних делах, о матушке, о детях. Они исправно обсудили эти вопросы, хотя оба понимали, что секунд-майор не для того находится в ставке господина фельдмаршала, а сотник вовсе не ради этого проехал сюда целых двести верст. Когда тема эта оказалась исчерпана и оба почувствовали, что беседа вот-вот должна перейти к самой сути деликатного дела, сотник вскочил вдруг и вытянулся, как на смотре:
– Ваше благородие! Дозвольте сказать слово!
Секунд-майор даже смешался на мгновение от такой дерзости. Но тут же кивнул и даже полуулыбнулся милостиво. Люблю, мол, храбрых. Хотя храбрости супротив начальства он вовсе был не ценитель.
– Я, ваше благородие, что осмелюсь заметить. С прошлого года как посылаем был я вашей милостью по турецкую сторону, после того в стычках мне не раз случалось участвовать. Осенью этой янычар плашмя палашом меня по голове достал. Думал уже, не буду жить. Но вот жив остался, только память отшибло. Из турецкой и молдавской речи, что знал, почитай, половины не осталось. Как отрезало. Не гожусь я боле в ваши дела. Увольте, помилосердствуйте, ваше благородие. Дозвольте обратно в полк воротиться.
Не умел врать начальству сотник. От лжи своей сам же покраснел до корней волос. Но поймать его на наивном этом вранье или сказать ему, что не верит ему, было никак нельзя. Секунд-майор понимал это, поэтому покачал головой, посочувствовал:
– Плохи твои дела, Константин. Весьма плохи. Трудно тебе придется. Ну да авось бог не выдаст. Кроме тебя, послать сейчас никого нельзя. Из толмачей кого взять? Сам понимаешь, здесь военный человек нужен. Кого из моих офицеров – он турка только в стычке встречал. Говорить с ним только на саблях знает. Так что уж послужи, братец. Государыня и отечество не забудут.
Вроде бы и не приказ. Словно бы даже просят его. Но ведь «нет»-то не скажешь. Сотник понял уже, что идти придется. И стало ему очень себя жаль.
– Ведь как же получается, ваше благородие? Ну был в плену я, научился турецкой да молдавской речи так, что никто меня ни от молдавана, ни от турка отличить не мог. Через то и бежать сподобился. А теперь что же? Неужто мало того, что я в турецкой неволе муку за христианскую веру принял? За что же сейчас страдаю? Когда товарищи мои в честном бою будут, мне по ихним басурманским базарам шнырять да каждый миг себе позорной и страшной смерти ждать? Где же справедливость, ваше благородие? За что мне по гроб жизни такие мытарства и мука?
А ведь прав был Бантыж. И в плену претерпел он. И сейчас ратную свою долю наравне с другими несет. Так мало того, еще и он, секунд-майор, не оставляет его своею милостью. А вся-то вина сотника, все несчастье, что на чужих языках может он изъясняться, как никто другой не умеет. Казалось бы, он лучше других. Но оттого жить ему было только хуже. Подивившись этому противоречию жизни и утешительно отметив про себя, что лучшим всегда в этой жизни хуже, секунд-майор нимало не поколебался, однако, в своем решении. Сотнику безотлагательно нынче же идти в турецкую сторону. Но мало было, что так решил он своею волей. Нужны были решимость и воля человека, которому предстояло сделать это.
– Ладно, – махнул он рукой и добавил притворно: – Возвращайся домой. Да поспеши. Выступать приказ по весне будет. Через Буг да через Днестр полки пойдут. Сколько там турок и где они, мне то неведомо. А уж командирам и тем паче. Как в темном лесу солдатушки наши будут там. И сколь их поляжет, я тебе не скажу. Это уж тебе лучше знать. Кровь-то их на тебе, сотник, на твоей душе будет. Что же стоишь, воин? Иди. Возвращайся до дому, к жене да на печку…
Сотник опустил голову, и видно было только, как побледнел он, как побелела его шея. Секунд-майор встал и молча остановился у окна, стоя к нему спиной.
Под вечер того же дня из Киева выехал человек, не российского вида. В повозке, тяжело груженной, был при нем медный да кожаный товар, каким торгуют обычно в Молдавии. Коляска же и сами кони были турецкие, захваченные в военном обозе. Когда солнце стало садиться, он неспешно повернул с дороги и, отъехав в сторону, остановил коней за высокими кустами верб. На редкой весенней траве расстелил молитвенный коврик и повернулся лицом к востоку. Наступило время намаза. Сотника Константина Бантыжа больше не было. Был Махмуд Керим – купец средней руки – из Бургаса. Он уже проезжал по торговым делам в Молдавии. На ярмарках, по торговым рядам и в гостиницах были люди, встречавшие его раньше, люди, что вели с ним дела, оставаясь от этих дел в немалой выгоде. По этой причине Махмуд Керим был для них желанный партнер, ожидаемый гость и приятный собеседник. Но, прежде чем появиться там, ему предстоял еще немалый путь через российские и польские земли.
– Салям алейкум!
– Ваалейкум ассалям!
Махмуд Керим привычным жестом поднес руку к тюрбану, затем к сердцу. Склонившись в полупоклоне, он успел отметить, что вошедший был немолод, не из торговых людей и явно не из военных. Впрочем, мало ли кого можно встретить на постоялом дворе? Чиновник? И правда, на поясе чернильница и рядом, в сафьяновом футляре, калям – тростниковая палочка для письма. Это мог бы быть писец, если бы не этот футляр из сафьяна, ставивший его на несколько рангов выше.
– Аюб-ага, – представился вошедший, – Доверенный по сбору податей светлейшего паши Бендерского, Да продлит аллах его дни!
– Да продлит аллах его дни! – подхватил Керим. – Я, недостойный купец, обрадован и польщен вашим высоким обществом. – Широким жестом он указал на подушки, разложенные на полу, и дважды хлопнул в ладоши, вызывая слугу разжечь кальян для гостя. Пока мальчик-молдаванин занимался этим, Керим успел рассмотреть пришедшего, отметив про себя и свинячьи хитрые его глазки, и сжатые в ниточку губы, губы скупца и святоши, и уши, как у филина, изобличавшие завистливый и злой нрав.
По тому, с какой жадностью приник вошедший к кальяну, видно было, что ему давно хотелось курить. Возможно, и на знакомство-то набился он только ради этого. Керим был наслышан о жадности сборщиков податей. Может, это удача? Желания жадного известны заранее. Поэтому с ним легко иметь дело. Правда, в то же время с жадным невозможно иметь дело. Ибо желания его не знают меры. Впрочем, не он выбирал себе гостя. Хочет, он или не хочет, Аюб-агу послал ему случай. Сборщики податей много ездят и еще больше знают. А хорошее угощение развяжет его язык.
– Надолго ли пожаловал, почтеннейший, в Сороки? – не выпуская из рук кальяна, осведомился чиновник. Как и подобает торговым людям, Керим ответил уклончиво. Все зависит от случая, от того, ниспошлет ли ему аллах в делах удачу.
Мальчик-молдаванин принес зеленый чай и лепешки Керим почтительно просил гостя разделить скромную его трапезу. Тот стал отказываться тем голосом, каким отказываются обычно, чтобы принять приглашение. Потом мальчик принес шеш-кебаб, а следом пилав. Это был щедрый ужин. Он располагал к беседе. К дружбе и к откровению.
Но почему-то не было дружбы. И не было откровения. Тень недоверия и настороженности застыла в узких глазках Аюб-аги. И никакие слова, никакие льстивые речи не могли отогнать ее. Керим не сразу понял, какую ошибку допустил он. Сборщик податей, в жизни не истративший на другого человека ни пара, не мог поверить, чтобы другой мог сделать это просто так. Какую выгоду, какую корысть искал от него Керим? Весь вечер пытался Аюб-ага понять это. Пока пальцами, с которых стекал горячий бараний жир, он запихивал в рот пригоршни плова, недоумение и тревога беспрестанно точили его сердце. И теперь они так глубоко запали в его душу, что Кериму нелегко оказалось рассеять их.
– Осененный высоким доверием светлейшего паши вы, полагаю я, немало путешествуете? Побывали в местах, где мне, недостойному, быть не случалось?
Взгляд, который метнул на него исподлобья Аюб-ага, исполнен был тревоги. Но наклон головы, последовавший за этим, был скорее снисходителен, слова же прозвучали даже благосклонно:
– Пожалуй, почтеннейший. Пожалуй.
Керим заставил себя подобострастно встрепенуться.
– А не сподобились ли вы заметить, каково состояние торговых дел в Румелии или у пределов цезарских? Нашего брата купца спрашивать о том сомнительно. Каждый норовит утаить правду ради собственной выгоды…
Так вот ради чего этот ужин и ласковость купца. Вот по какому делу оказался он нужен и выгоден. В глазах Аюб-ага мелькнуло понимание и утвердилось там, вытесняя тревогу и настороженность. Все обретало свой смысл, все становилось на свои места.
Сам того не ведая, Керим задел струну, которая касалась самого сердца его собеседника. Во всей Молдавии не было, наверное, человека, который мог бы точнее сказать, за сколько можно купить хорошего коня в Измаиле, воз кожи в Бендерах или в Бабадаге меру зерна. Не потому, что Аюб-ага занимался коммерцией, потому, что всю жизнь любимым его занятием было считать деньги, лежавшие в чужих кошельках. Сколько выручил Ахмед-эфенди за свой табун, продав его на осенней ярмарке? А сколько потерял, купив на вырученные деньги зерно у проезжего грека в Бургасе? Эти расчеты, которые сборщик податей проводил обычно в уме, заполняя его дорожный досуг, нередко оказывались небесполезны и в прямом его деле.
– Воз сена стоит в Кишиневе два пара. Когда же в прошлом месяце туда прибыл сераскер Гулям, а с ним 20 тысяч его конницы, цены поднялись до четырех пара. А стоило сераскеру и его войску начать движение на Бендеры и Хаджибей, как цены стали поднимать на всем пути их следования!
И он взглянул на Керима победно и радостно, как бы приглашая его соучаствовать в своем удивлении и восторге. И Керим изобразил на лице такое участие. Но дабы поддержать известную остроту беседы, позволил себе осторожно заметить:
– Но не до четырех же пара.
– Да, – согласился Аюб-ага несколько огорченно. – Не до четырех. Но уж до трех-то пара это точно.
Керим с важностью наклонил голову, давая понять, что именно это он и имел в виду:
– Но ведь так бывает всегда, когда движется войско. Особенно во время войны.
– Не обязательно! – оживился Аюб-ага. – Не обязательно! Сиятельный сераскер паша бендерский проследовал в прошлом месяце через Кишинев, а с ним 10 тысяч конного и столько же пешего войска. Базар даже не заметил их появления!
Керим изобразил на лице изумление, которое было тем более искренним, что о движении этого отряда турецких войск он не знал.
– Светлый паша – хитрый, как степной волк. – Аюб-ага в искреннем восхищении воздел руки. – Никто, как аллах, подал паше благую мысль идти на русских через польские земли, мимо города Ягурлык. Вернее, не идти, а только сделать вид, что он собирается это сделать. При виде столь славного и храброго войска поляки убоялись разорения. Их губернатор Савицкий вышел навстречу войску и просил обойти его пределы. В подкрепление своей просьбы он велел доставить светлейшему паше целый обоз провианта. И сверх того два стада овец и коров! А сколько мешков муки и проса! Базару не было и дела, что через, город проходит войско! Вот какой умный и хитрый человек сераскер паша бендерский, да продлит аллах его дни!
Так, не задавая вопросов, Керим услышал в тот вечер много полезного для себя, причем не только в отношении цен и товаров. Когда же настала ночь и пришло время сна, во всем мире не было, казалось, лучших друзей, чем Керим и Аюб-ага. Хотя Керим и вел свой отсчет ситуации, он полагал, что гость исполнен к нему самых добрых чувств. Но, оказалось, свой отсчет вел не только он.
Керим проснулся, разбуженный солнцем, которое било ему в глаза.
– Осел и сын осла! – выбранил он слугу, не за творившего на ночь ставни. Но выбранил нерадивого больше для порядка. Керим даже рад был, что проснулся так рано. Он многого ждал от сегодняшнего дня. Вчера, посетив несколько домов, где предлагал свой товар, среди прочих побывал он и у Андронаки. И если ему и пришлось пробыть там чуть дольше, чем у других то не настолько, чтобы это могло быть заметно. Впрочем, кому замечать?
Сегодня, как бы продолжая коммерческие свои дела, он должен повторить свой визит и взять приготовленные для него письма.
Вчерашний мальчик внес в комнату кувшин с водой и таз для умывания. Через пару минут он вернулся, неся на голове поднос с завтраком – кукурузные лепешки, сыр, кишмиш и кислое молоко. Но Керим отослал слугу. Позавтракает он в харчевне, что при базаре. Заодно узнает там, что нового в городе. Спускаясь из комнаты по деревянной скрипучей лестнице. Керим полагал возвратиться к обеду.
Он не вернулся сюда никогда.
Тенистый дворик гостиницы был пуст в этот ранний час. Единственным человеком, который оказался там, был вчерашний его знакомый Аюб-ага. Выйди Керим минутой раньше или позже, он, может, и не встретил бы его. Но разве человек сам выбирает карту, которая выпадает ему?
– Салям алейкум, – приветствовал его Керим.
Аюб-ага не ответил. Вместо привета он стал на пути Керима и пальцем уперся ему в грудь.
– Ты! – выдохнул он, и Керим почувствовал кислый запах вина. – Так, говоришь, ты из Бургаса? А я был сейчас в караван-сарае, там с торговыми людьми разговаривал. Нет, говорят, такого купца в Бургасе Махмуд Керима. Может, ты не из Бургаса, Керим? Или зовут тебя по-другому? А? Ты вспомни!
В узеньких прорезях его глаз не было ничего уже от вчерашнего недоумения и тревоги. Только хмельное торжество и злорадство прочитал в них Керим.
– Молчишь! – Он вцепился в рукав Керима. – А ну-ка пойдем к сераскер-баши! Ему скажешь, что ты за птица, за кого выдаешь себя!
Он говорил все громче, распаляясь от собственных слов.
Побелевшими губами Керим растянул рот в улыбке.
– Аюб-ага, дорогой, – руку он положил себе на грудь, как бы для большей убедительности, между тем как пальцы незаметно ушли за пазуху, нащупав там холодную рукоять ножа. В последний миг он скосил глаза на провалы гостиничных окон и успел удержать руку.








