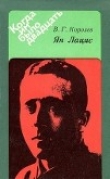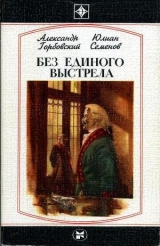
Текст книги "Без единого выстрела: Из истории российской военной разведки"
Автор книги: Юлиан Семенов
Соавторы: Александр Горбовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА VI
Между Каспием и Амударьей

Страшен полет саранчи, закрывающей полнеба. Страшен грохот горного обвала, когда скалы рушатся на дома и на людей, когда нет в мире сил, которые могли бы остановить их. Но еще страшнее вид персидского войска, идущего от горизонта до горизонта. Еще страшней стук копыт персидской конницы. Для людей, живших во времени, о котором идет здесь речь, эти картины были не поэтической метафорой. Это были сцены, от которых переставало биться сердце и застывала кровь.
Солдаты шаха не знали ни жалости, ни пощады. Они убивали все, что можно было убить; грабили все, что можно было грабить; то же, что оставалось, они жгли. Запустение и смерть шли по их следам.
Железную поступь персидских солдат помнили Бухара и Хива, Грузия и Армения, Азербайджан и каспийское побережье. Память этих нашествий и страх перед ними были важной составной частью политического мышления соседних с Персией стран.
Присутствие России могло быть защитою и гарантом против этих нашествий. Хивинский хан трижды, в 1700, 1703 и 1714 годах, обращался к российскому императору с просьбой о принятии в подданство.
Персия понимала, что политическое присутствие России означает конец ее влиянию и ее власти. Тегеран не мог примириться с этим. Шахиншах – наследник некогда обширных владений – грезил былым величием персидской империи. Хива, Коканд, Бухара стали ареной беспощадной борьбы секретных служб Персии и России.
Когда же впоследствии чаша весов этой борьбы стала клониться явно не в пользу шаха, на границах кокандского, хивинского и бухарского ханств стали собираться черные тучи персидских войск. Полчища Надир-шаха вторглись в пределы ханств, прошлись по ним огнем и мечом, превратив некогда независимые государства в провинции персидской империи.
Но этот последующий ход событий, известный нам, лежал еще в будущем и завесой времени был скрыт от тех, кому привелось жить и действовать в те дни.
РУКА ШАХА ДОСТАЕТ ДО ХИВЫ
«Астрахань-городишко» обрел при царе Петре значение, которого не имел, никогда прежде. Белокаменный кремль с восемью башнями, порт и корабли на рейде под огромными белыми парусами – это был форпост империи у самых южных ее границ. Местные жители, обитатели окрестных и дальних мест, оказавшись в городе, с удивлением и страхом смотрели на все это. Солдаты на плацу, одетые в одинаковые синие мундиры, ходили строем, вскидывали ружья в лад и выделывали ими разные штуки. А у ворот кремля, куда входа не было никому, стояли две большие чугунные пушки. Говорили, что пушки эти могут уничтожить целое войско, не подпуская его к стенам города. В торговой же части, что ни день, приходили и уходили караваны – из Персии, из Герата, из Бухары. А иногда даже из Индии.
После многодневного пути среди безводных степей и солончаков, после безжизненных каспийских берегов город этот представлялся вечным оазисом и собранием всевозможных чудес. Среди тех, кто совершил этот многодневный путь, прежде чем оказаться в Астрахани, был некий Хаджа Нефес, садырь (предводитель) одного из туркменских племен.
Он не первый раз был в городе, но сейчас впервые почувствовал себя смотрящим на все это не со стороны. Он впервые ощутил то, чего ему, оказывается, так не хватало – причастность всему этому. Сегодня был великий для него день – он принял крещение и целовал крест на верность царю. Теперь не гость он здесь, не пришелец, не наблюдатель со стороны.
– Достойные люди в этих краях нам весьма надобны, – говорил ему стольник, князь Саманов, с которым он давно дружил, – погоди, найдем тебе дело, а там, глядишь, и воеводою станешь…
Был стольник приземист, плечьми широк.
В тот вечер в честь этого дня Нефес угощал русских своих друзей. Он знал их давно, и они знали его не один год. Тогда-то, в тот памятный вечер, сказал он стольнику князю Саманову «в тайной беседе» о золотом песке, который есть по реке Амударье.
Стольник был «государев человек», весть же, что поведал ему Хаджа Нефес, была не той, чтобы можно было забыть о ней или пропустить мимо ушей. Стольник сделал донесение о том деле и срочно направил его царю. Отправлено же оно было не в Петербург, не в Ригу и не в Москву, а по неопределенному адресу – «где обретается». Царь Петр не пребывал подолгу во дворце и не сидел на одном месте.
В то же примерно время Петру пришло такое же донесение от сибирского губернатора князя Гагарина: в Малой Бухарии, на реке Дарье, при городе Эркети имеется-де золотой песок.
Сообщение это было исключительной важности.
Россия находилась в ту пору в периоде величайших свершений и еще больших начинаний. Но для всего этого нужны были специалисты – корабельные и пушечные мастера, горные инженеры, архитекторы и строители. Их можно было получить из Европы, они с готовностью ехали в Россию. Но всем им нужно было платить – преимущественно золотом.
По получении этих вестей Петр лично пишет указ Сенату: «Послать в Хиву с поздравлением на Ханство, а оттоль ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее – проведать про город Иркет».
Это был как бы маневр в три хода: посольство в Хиву служит поводом, чтобы оттуда попасть в Бухару под видом торговых дел. Приезд же в Бухару тоже был только поводом. Дело же настоящее: «проведать про город Иркет».
Был и еще один, четвертый, ход этого секретного замысла. Как писал современник, Петр полагал, что «если и не найдется искомое в реках тех золото, то по крайней мере найден будет новый способ к получению оного посредством торговли через те страны с самою Индией».
Речь шла о разведывательной операции величайшего риска и сложности. Для столь тонкого дела нужен был человек, искушенный в обычаях и нравах Востока. У царя был такой человек на примете – кабардинский князь Девлет-Кизден-Мурза, ставший после крещения Александром Бекович-Черкасским, казалось бы, создан для такого рода предприятий. Ранее, будучи в звании поручика, был он отправлен Петром в Европу для учения и для других прочих дел, кои и исполнены были им в наилучшем виде. Однако активом его были не столько прошлые заслуги, сколько обещания будущего.
Есть такие люди – при первом же взгляде на них приходит мысль: вот человек, которому дано совершить нечто незаурядное. Непонятно, из каких признаков складывается это ощущение. Был князь порывист в движениях и словах, но в меру; был сухощав, как многие из его мест; страха не ведал. Но разве мало было других людей, о которых вполне можно сказать то же самое? Но ни о ком из них нельзя было подумать того, что думалось о князе и о незаурядности его участи.
За прошлые заслуги, а более того в ожидании заслуг будущих был он пожалован в гвардии капитаны. К тому же как будущему императорскому послу пристойнее ему было быть в этом звании.
Наставление, составленное князю, включало 13 пунктов. Особо же оговаривалось, что, если хан хивинский проявит склонность к выгодам России, уговорить его послать нескольких своих людей с двумя русскими вверх по Сырдарье до Эркети для разведки о золоте и золотом песке.
Что же касается поиска торгового пути в Индию, то это предприятие было вменено поручику Кожину, специально прикомандированному к посольству. Поручику надлежало следовать вместе со всеми «под видом купчины, а настоящее дело дабы до Индии путь водяной открыть». Если же водяного пути не окажется, идти посуху, составляя карту, разведывая по пути о товарах и «прочее, что здесь не написано, а в чем может быть интерес государства, смотреть и описывать». Так гласила составленная для него инструкция.
Подготовка заняла многие месяцы. Сочинены, согласованы и переписаны были грамоты хану хивинскому, хану бухарскому, а также Великому Моголу в Индии. Затем были те грамоты поданы царю на подпись, подписаны им и скреплены большой государевой печатью.
Сенат постановил выделить князю войска четыре тысячи человек да казаков две тысячи, снабдив их пищей, жалованьем и одеждой. Столь много войска нужно было для устроения крепостей на восточном берегу Каспия, пополнения гарнизонов и охраны самого посольства. Ибо земли, по которым предстояло им следовать, были далеко не безопасны. Сверх того, для особых поручений князю приданы были двадцать астраханских дворян, пятнадцать подьячих и толмачи. Все же снаряжение посольства обошлось в огромную сумму, 218081 рубль 30 алтын с полушкою. Сюда входила стоимость снаряжения, и амуниции, и подарков для хана и его людей, и товаров, с которыми «купчина Кожин» должен был отправиться в далекую Индию.
Столь высока была цена, которую Российское государство готово было платить за то, чтобы получить ответы на два вопроса – есть ли в бухарском ханстве золотой песок и каким путем русским товарам найти путь в Индию? Впрочем, слово «цена» не совсем точно. Это был только первый, начальный взнос. Но Петр и государственные люди, бывшие с ним, готовы были и на эти, и на последующие жертвы. Сведения, которые могли быть получены взамен, оправдывали все вложения многократно.
Наконец люди и снаряжение начали прибывать в Астрахань. Пока шла погрузка на корабли, которые должны были доставить всех в Гурьев, причалили шхуны из Красноводска. Разнесся слух, что прибыл посол бухарский с многочисленной свитой. Пока в России помышляли о бухарском золоте да как заслать разведчика в те края, Бухара сама делала шаг навстречу. Князь тут же сообщил Петру о посольстве. Царский указ Сенату велел принять посла ласковее. Приписка же к указу гласила – под разными предлогами задержать посольство до возвращения князя Черкасского из опасной его экспедиции.
Неведомо, что могло ожидать князя или его людей, когда они доберутся до Бухары. И не было лучшего залога их безопасности, как если бухарское посольство пребудет до тех пор в гостеприимной стране российской.
На ста двадцати подводах бухарский посол проследовал в Саратов, чтобы оттуда направиться в Москву, а затем уже в Петербург.
Снега в ту зиму в Гурьеве почти не было. Ледяной ветер кружил пыль и песок меж редких домов и по пустынному берегу. Бесприютным и диким представал непривычному глазу этот край, летом испепеляемый зноем, зимой истребляемый лютой стужей. Ни деревца не росло окрест безотрадной этой земли, ни кустика. Каждую поленницу дров нужно было везти из безлесной Астрахани морем. Но зимой море было сковано льдами, осенью штормило, выбрасывая шхуны на бесчисленные предательские мели, летом же царил такой зной, что невозможно было и подумать, что когда-то придет зима, настанет холод и понадобятся дрова.
Немногочисленные домишки и крепостица с острогом не были рассчитаны на такое число людей. Жить пришлось в тесноте, а спать вповалку. От этого ли, или от климата и плохой воды люди слабели, заболевали, начинали умирать. На пустынном косогоре, открытом всем ветрам, похоронная команда что ни день долбила мерзлую землю. Состояла она из инвалидов, отслуживших свой срок солдат, оставшихся доживать свой век на казенных харчах. Всякий раз шла у них борьба с унтером, наблюдавшим над работами, по той причине, что норовили они откопать могилу неглубоко, как легче, а он понуждал их. Но уж очень холодно было на ветру в протертых, исчерпавших, как и они, срок своей службы плащишках. Старческие посиневшие пальцы с трудом держали лопаты да тяжелые кирки. И кто знал, что в нынешнюю зиму такая незадача им выпадет, что прибудет посольство, прибавя им трудов и тягот.
Стоило выйти на улицу и осмотреться вокруг, как взгляд невольно возвращался к косогору со свежими крестами на нем. Потому что больше не на чем было остановиться взгляду. И над всем этим висело огромное серое небо с низкими, бегущими по нему облаками.
Все считали дни, ожидая, когда придет недолгая степная весна и посольство сможет отправиться в путь. Только бы начать движение, только бы сняться с гибельного этого места.
Но прежде чем мог прийти тот день, многое еще надлежало сделать.
– Самое время гонца отправить, ваше сиятельство, – повторял Хаджа Нефес князю. – По нынешнему беспутью мало сегодня кто в степь выезжает. Гораздо безопаснее гонцу ехать.
Уж кто-кто, а он знал туркменскую степь.
Каменный комендантский дом, в котором помещался посол, был светлей и просторней прочих, с цветными стеклами в небольших, низких оконцах. От них исходил желтый и красноватый отсвет, и в самый хмурый и безрадостный день казалось, что солнце заглядывает в горницу.
Не хотелось Бекович-Черкасскому отправлять гонца, очень не хотелось. Но знал, надо: должно получить согласие хана на приезд посла.
– Пошли гонца, князь, – поддержал Нефеса стольник князь Саманов. Не собирался и не думал он идти с посольством, но как-то само собой получилось, что задержался он здесь. Приехал по вольной воде проведать и погостить у приятелей. Теперь же в Астрахань возвращаться поздно, да и резона нет.
Бекович-Черкасский молчал.
Понимают ли они, его советчики, что значит послать гонца? Это значило известить о посольстве не столько хана, сколько персидского шаха. После прибытия гонца через месяц о русском посольстве будут знать в Тегеране. Еще через месяц, а то и раньше люда шаха, что тайно состоят при хане, получат приказ как сподручнее погубить все их дела, а то и вообще извести посольство. К тому времени, когда посольство приблизится к городским воротам Хивы, там успеют расставить все ловушки, разостлать всю сеть гибельных интриг и подвохов. Неужели Нефес и князь Саманов не понимают этого?
Возможен только один ход – нужно, чтобы пауза между гонцом и прибытием посольства была как можно меньше.
– А что думаешь, князь, персидских людей обмануть, что при хане, то не тщись, – заговорил Саманов, словно прочтя его мысли. – О всех наших делах они доподлинно знают, и дружбы от них никакой ждать нельзя.
Бывает, очень не хочется человеку делать что-то, хотя знает, что нужно и неизбежно. И объяснить нельзя, почему такое нежелание. «То ангел-хранитель говорит тебе» – так полагали старые люди в те времена, о которых идет здесь речь. Не послушаешь ангела-хранителя раз, не послушаешь другой, голос его все тише, глядишь – и совсем замолчал.
Прервал все-таки паузу князь Бекович-Черкасский:
– Пошлем гонца, – сказал, как через себя переступил. Настолько было это против воли его и желания, что самому показалось: не он произнес, а другой кто-то из него его голосом.
– Воронина бы послать Ивана, – вставил Саманов. Видно, обдумал он все заранее.
Стали толковать, кого отправить, – Воронина или еще кого.
Дворянин астраханский Иван Воронин до Хивы добрался благополучно. Не убили его в пути, не ограбили, что почиталось великой удачей. Правда, большие снега задержали его в дороге. Дней за шесть до Хивы один из верблюдов пал. Вьюки с дарами пришлось перекладывать на другого. Тот поднялся с трудом и пошел так, что, казалось, тоже вот-вот ляжет в снег и больше ему не встать. Все шесть дней до самых городских ворот шел Воронин пешком, держась за колышущийся, шерстистый верблюжий бок.
Однако хан не спешил принять гонца. С первого же дня держали его под караулом, как, впрочем, и другого, Андрея Святого, что был отправлен для верности и прибыл за ним следом. Только через полтора месяца изволил хан просить к себе гонца, отправленного послом императора всероссийского. Только через полтора месяца соизволил он взять грамоту и бегло глянуть на дары, доставленные в его дворец из далекой северной столицы.
Напрасно ждали гонцы ответа. Прошла неделя, другая, месяц. Хан не давал ответа на посольские грамоты и обратно идти им воли не давал.
Обо всем этом князь Бекович-Черкасский пребывал бы в полном неведении, если бы Воронину не удалось передать ему письмо через проезжих купцов. В те же дни поручик Кожин от своих людей, одному ему ведомых, получил весть из Хивы, что гонцов-де «не в чести держат» и что быть в беде всему посольству. Не пустит хан их к себе, а тем паче далее, в Бухару и Индию.
С этой мыслью по собственной воле покинул поручик Гурьев-городок, добрался как мог до казанского губернатора и, взяв у него подорожную, возвратился в Петербург. Там он доложил обо всем государю, а потом и генерал-адмиралу, князю Меншикову. Сказал, что люди персидского шаха подбили хана погубить царево посольство.
Может, и правильно сделал поручик, что поспешил с такой вестью, но только очень уж походило это на дезертирство. Поэтому в тот день, когда князь Бекович-Черкасский повелел наконец трубить сбор, чтобы отправиться навстречу неведомому, поручик Кожин за самоуправство был отдан под суд и следствие. Не как князь и прочие с ним люди, но по-своему, он тоже отправился в этот день навстречу неведомому—навстречу решению суда и приговору. И неизвестно, чье будущее чревато было большими опасностями и злосчастием.
Казалось, в один день и одну ночь зазеленела под Гурьевом степь, предвещая коням обильный корм. Но жители этих мест знали, что это ненадолго. Пройдет положенный, заведенный порядком срок, и посохнут, пожухнут травы. Станет желтою степь и серой, до будущей весны и другого года. Самое время было выступать сейчас.
Предводитель местных туркменских племен в огромной папахе из драгоценной золотистой каракульчи говорил Бекович-Черкасскому и воздевал руки, призывая небо в свидетели истинности своих слов:
– Господин великий начальник, князь! Мои воины будут сопровождать твое посольство до самой Хивы. Мои воины не дадут тени от коршуна упасть на тень твоего коня. Только пусть отрастет трава, чтобы было ее много для наших коней. Когда кони не знают усталости, всадник не ведает страха.
Он говорил, сам же невольно косил глаза на столик, стоявший в стороне, где заранее были приготовлены для него подарки. Он знал об этом, потому что бывал у русского посла ранее. Князь не без удовольствия наблюдал эти скрытые его взгляды, понимая тайное нетерпение, худо скрытое под маской притворного безразличия. Для того и велел он поставить столик так, чтобы, разговаривая с ним, гость мог видеть его, только скосив глаза или повернув голову.
Очень хотелось предводителю разглядеть разложенное для него, но для этого он должен был бы отвернуться от собеседника, чего, понятно, не мог себе позволить. Князь же радовался в душе, наблюдая тайные его страдания, ибо он князю не нравился.
– А что, – спрашивал князь Хаджи Нефеса, – не очень ли уж часто стал жаловать ко мне сей посетитель? Дела-то у него особого нет, все вроде договорено, а он все ходит да ходит.
– Да как не ходить, посудите, ваша светлость. Всякий раз, чай, не пустой назад идет. Нукеры его только и знают, что приезжать налегке и уводить груженых верблюдов. Так бы и я к вашей светлости рад был бы жаловать.
– Ну уж, коли не рад, так и не ходи. Весьма одолжишь. – Князь рассмеялся, и Нефес, не удержавшись, засмеялся ему следом. – Не одобряешь, значит, что жалую твоего земляка? – продолжал князь.
– Не то мне обидно, ваша светлость, что добро государево на это идет, а в Хиве-городе оно нам куда как нужнее будет. Другое обидно мне – смеется в душе ой, гость-то ваш. Приехал, чай попил, разговоры поговорил, подарки забрал и уехал. А через неделю опять. Не уважают у нас людей, которые просто так другому дары приносят. Смеются над ними.
– Что же, по-твоему, можно иной раз его и пустым отправить?
– Никак нельзя, ваша светлость! Такая обида будет!
– Тогда, может, дарить ему что-нибудь для виду? Пустяк какой?
– Еще хуже, ваша светлость! Еще хуже. Ничтожный подарок – оскорбление человека. Вовсе не забудет, мстить станет.
– Что же получается? Посуди сам, Нефес. Дарить его – значит в дураках ходить перед ним и всем его родом. Не дарить или, того хуже, подарить пустяк – врага нажить. Так худо, а этак того горше. Что делать-то?
– А ничего сделать нельзя, ваше сиятельство. В путь отправиться нам, да и все.
– Нет, погоди. – Князь перестал играть цепочкой на поясе от кинжала, так важно показалось ему выяснить этот вопрос. – Значит, я должен быть в их глазах либо глупец, либо враг и обидчик? Другого нет?
– Правильно сказали, ваше сиятельство. – Нефес даже удивился. Умный, достойный человек князь, а такой простой вещи не понимает.
– Ну а если хочу я, чтобы уважали меня?
– Тогда надо завоевать их. Силу показать. Кибитки пожечь, скот угнать.
Князь секунду смотрел на него, недоумевая, потом рассмеялся. Не поверил. Но на сей раз Нефес с ним не смеялся.
Все откладывал и оттягивал выступление Бекович-Черкасский. Со дня на день, с недели на неделю. Предводитель туркмен все говорил, что трава недостаточно длинная и что нужно бы ей подрасти еще. Туркменская конница была бы весьма нелишней в пути. А то и в самой Хиве. Кто может знать, какой прием ожидает их там?
Но перед самим собой князь понимал, что для него это только повод к отсрочке. Не лежало у него сердце к тому, что предстояло свершить. Кабы мог, то и вовсе отменил бы он всю экспедицию. Но не мог. Не поручик он Кожин. Не за себя одного в ответе. Не его воля, а воля царя двигала всем, и не было сил, кроме самой судьбы, которые могли бы противостоять этой воле. Судьба же тайно противилась ей.
Но настал день, когда солнце стало припекать не по-весеннему, и даже князю стало ясно, что откладывать более нельзя. Он так и сказал это предводителю, когда тот пожаловал в очередной раз.
– Да не совершит такого господин великий начальник и князь! – Гость укоризненно покачал маленькой головой в большой папахе. – Кто же выезжает в степь в такую жару? Я волен над моим войском, но и я не могу приказать моим людям сейчас отправиться в путь. Раньше нужно было, господин великий начальник! Ай-ай-ай! Какая беда!
Тщетно князь напоминал ему, что сам же он без конца откладывал выступление. Тот только сокрушался и мотал головой, вернее, папахой, в которую была вправлена маленькая, как у птицы, бритая голова.
– Он обманул меня, Нефес! Не понимаю предательства. Все понимаю! Храбрость понимаю, хитрость на войне тоже понимаю. Предательства не пойму. Я ничего плохого не сотворил ему, ведь правда же, Нефес?
Но Нефес только качал головой тем же движением, что и его соплеменник. Невозможно объяснить этому кавказскому человеку, что только так и могло все развиваться и не могло быть иначе.
Чтобы не обидеть предводителя и не стать врагом, князь должен был делать ему подношения. А такие подарки «ни за что» не вызывают к дарящему ничего, кроме презрения. Как же не обмануть, кого презираешь? Чего же обижается, чему удивляется князь? Ни один из них не мог в этой ситуации поступить иначе – ни князь, ни предводитель. Значит, все было предопределено, все было предначертано заранее, как это и есть в жизни. Как написано в старых книгах. Кроме того, действительно наступала жара, предводитель говорил правду.
Но это была другая, не его логика, и князь не мог понять, не мог принять ее.
Шла седьмая неделя после пасхи, когда посольство, сопровождаемое казаками и солдатами охранения, выступило наконец в путь. Две тысячи человек отправились навстречу степям, пескам и всем неизвестностям, которые их поджидали. Остальные были оставлены кто в Красноводске, кто в других крепостях, где гарнизоны сильно повымерли за зиму.
Привстав на стременах, Нефес окинул колонну взглядом. Не его ли слово, сказанное в день крещения стольнику, князю Саманову, вызвало к жизни все это предприятие? Не скажи он тогда про золото на Амударье, не двигались бы сейчас на восток все эти люди, не ехала бы конница, не шагали бы верблюды с поклажей. И только князю Саманову да Бекович-Черкасскому известно, что он, Хаджа Нефес, виновник всему этому делу. Остальные же и не догадывались. А может, к лучшему. Неизвестно еще, благословят ли они его за то слово, некогда им сказанное.
Впереди на поджарых туркменских конях ехали проводники – единственное, что князю удалось получить от предводителя.
Конечно, если их миссия завершится успешно и отряд с ответными грамотами и дарами будет возвращаться обратно, предводитель предоставит им и конницу, и почетный эскорт, и сам окружит их всевозможными знаками внимания. Но горе им, если они будут возвращаться через те же места, претерпев неудачу, обессиленные, обремененные ранеными и больными. Им не будет пощады. Опыт жизни, не просто жестокой, а беспощадной, научил поступать так. Опыт выживания. Только победитель – их друг, только сильный – союзник. Горе слабому, смерть побежденному.
Первый день пути дался трудно. Второй еще труднее. Третий, казалось, не кончится никогда, и никогда не опустится к горизонту раскаленное, висящее над головой солнце. Князь велел было сократить переходы и днем, в самую жару, делать привалы. Но сидеть под солнцем на раскаленной земле было немногим лучше, чем двигаться. Путь, как всегда в пустынных и выжженных этих местах, шел от колодца к колодцу. В некоторых из них вода после зимы оказалась темной и с трупным запахом. Тогда неподалеку копали другой. Песчаные стенки осыпались и оседали, у них не было с собой ни досок, ни бревен, чтобы укрепить их.
Проводники и главный среди них, Мангла Кашка, знали свое дело. Знали они не только путь от колодца к колодцу, но и всякие скрытые ложбинки, где сохранилась зеленая трава и где верблюды и кони могли пополнить свой дневной рацион. Это были профессионалы, не раз водившие караваны и торговых людей.
Бекович-Черкасский приблизил их. Каждый вечер звал он проводников к своему столу, вернее, к скатерти, расстеленной на дорожном ковре. Ни Кашка, ни товарищи его по-русски не знали, и Хаджа Нефес служил переводчиком. Князь расспрашивал их о стране, куда они направлялись, но те отвечали скупо и неохотно, отговариваясь незнанием.
– Большой ли город Хива?
– Не знаем.
– На реке ли стоит?
– Не знаем.
Куда охотнее говорили они про повадки разных степных зверей и птиц. Но это было не то, что интересовало князя.
– Через семь дней на восьмой посольство достигло зыбких берегов реки. Указывая на нее прутом, которым стегал коня, Кашка пояснил:
– Эмба.
Два дня ушло на сооружение плотов и переправу.
Дорога шла все время в гору. Еще через неделю подъем прекратился. Они были на плоскогорье Устюрт. Теперь путь шел вдоль Аральского моря на юг. Утром, пока каменистая дорога была влажной от утренней росы, они покидали колодец, рядом с которым провели ночь, и отправлялись в путь. Вечером, к закату, достигали следующего. И так день изо дня, неделя за неделей.
Усилия князя расположить проводников оказались не напрасны.
– Вот увидишь, – говорил князь Нефесу. – Они будут еще нашими друзьями. Они уже друзья.
Нефес молчал.
И действительно, некая незримая стена, стоявшая поначалу между проводниками и другими участниками экспедиции, с каждым днем становилась все меньше. Возможно, она рухнула бы совсем, если бы тому не помешало одно обстоятельстве. Однажды ночью проводники исчезли. Все до одного. Уходя, они умудрились прихватить несколько ружей у спящих. «Хорошо еще, не зарезали никого», – думал Нефес.
И снова князь ничего не понял, отчаивался и говорил, что иметь дела с этими людьми невозможно.
И он прав был в своем отчаянии. И прав был в том, что, исходя из привычной ему логики, нельзя было иметь дела с теми, с кем он встретился здесь. Нужно было научиться мыслить в их категориях, как учат другой язык и чужие нравы.
Для тогдашних туркменских племен, живших набегами и окруженных врагами, всякий другой человек не его племени и даже не его рода был либо потенциальная добыча, либо потенциальный враг. Он отнимет у туркмена лошадь и убьет его, если туркмен сам не сделает это первым. Эту философию выживания, вскормленную на ниве беспрестанных феодальных междоусобиц и распрей, каждый впитывал и воспринимал с рождения. Верность своему роду и племени предусматривала неверность по отношению к внешнему миру, ко всему, что не было его родом и его племенем. Нефесу, который вырос в этом мире, это было предельно понятно. Как сможет князь думал он, иметь дело с хивинцами, не понимая, не зная всего этого? А князь искренне старался уразуметь эти непривычные для него нормы.
После бегства проводников место во главе колонны занял Нефес. По следам, оставленным проводниками, он понял, что бежали они в Хиву. Но князю говорить об этом не стал. Зачем?
Семь долгих недель двигалась колонна вдоль Аральского моря. Когда дорога пошла вниз и начался спуск с плато, показались три всадника, двигавшиеся навстречу. Это были люди, посланные Ширгазы, хивинским ханом. Они привезли послу дары – кафтан и коня.
– Князь, ваша светлость, – Нефес отозвал его в сторону, дабы их не слышали ни свои, ни чужие. – Люди эти приехали неспроста. Покажи им отряд. Пусть хан знает, что с нами только конвой, сопровождение, что мы не собираемся воевать с ними.
Стольник Саманов был согласен с ним. Жара, казалось, не действовала на него, только с каждым днем он становился почему-то все квадратнее.
– Воевать с ними? – Бекович-Черкасский пожал плечами. С чего бы такой мысли вообще прийти на ум хану? Разве только персы внушили ему такое.
И не только персы, подумал Нефес, вспоминая, куда вели следы бежавших проводников. Прийти к хану и принести ему тревожную весть – значило получить награду. Сказать же ему просто: «Хан, к тебе идет русское посольство» – значило не получить ничего. За наградой, именно за наградой поскакали они в Хиву. Ширгазы поверит их облыжным словам тем охотнее, чем угоднее это персам, вернее, людям шаха, состоявшим при нем.
Посланные хана объехали отряд с князем и ничего не сказали. Впрочем, говорить им было и не положено. Они были только глаза и уши хана.
– Все это вздор! – возражал князь Нефесу. Кто с двумя тысячами пойдет завоевывать ханство? Когда я встречусь с ханом, он сам поймет это.
Встреча состоялась за несколько переходов от столицы.
Но это была не та встреча, которой хотел князь.
Хивинская конница, предводительствуемая ханом, внезапно вылетела из-за холма и, как бешеная саранча, облепила русский лагерь. Бой продолжался с рассвета до конца дня, пока не село солнце и не стало темно. Бой, война, сражение – это было понятно, это было привычно, Бекович-Черкасский знал, как подступать в этом случае. Утром следующего дня, когда хивинцы вздумали возобновить свой приступ, лагерь был уже обведен рвом и валом по всем законам военного искусства. Когда же они с визгом бросились было на укрепление, их встретил залп пушек. Всадники попадали с коней, войско смешалось, остановилось, бросилось бежать.
Это был успех, но он не обрадовал князя. Не для этого пришел он сюда.
– Нефес, – князь сидел на лафете пушки и поигрывал цепочкой от кинжала, – нужно убедить хана принять посольство. Писать к нему – это все слова. И слова на бумаге. Человек верит только человеку, а не бумаге. Скажи, ты мог бы проникнуть в их стан, добраться до самого хана и сказать ему все, что я тебя попрошу?