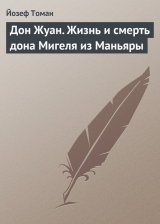
Текст книги "Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры"
Автор книги: Йозеф Томан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Трифон пригубил из чаши, поданной Мигелем.
– Голос, говоривший с вами моими устами, был голосом бога. И сегодня, ваша милость, я пришел для того, чтобы на пороге вашей новой жизни напомнить вам об его священном имени.
Опять обвивается вокруг меня, змеиная душа, думает Мигель. Опять втирается в мой слух этот вкрадчивый голос… Нет, падре! На сей раз – нет. Голос Грегорио звучит во мне стократ громче вашего. Все во мне восстает против вас и – прости мне, боже, – против матери, против ее обещания, определяющего мою судьбу. Я ведь тоже имею право сказать здесь свое слово?!
Мигель поднялся:
– Я не забываю бога – и не забуду, падре. Однако путь свой отныне я буду определять сам. Благодарю за посещение, падре Трифон.
Трифон вышел в полуобморочном состоянии; шатаясь, сполз с лестницы. Он от меня ускользает! Из-под рук ускользает! – в отчаянии думает иезуит. – Но я не так-то легко сдамся!
Соледад, сидя в бабушкином кресле, читает вслух. Дед и бабка, полные нетерпения, стоят перед нею.
– «…не знаете, как это грустно – бродить одному днем и ночью, и со всех сторон – обыденность, посредственность… Как тяжко носить пустое сердце… Сколько отчаяния в душе, знавшей лишь тьму и печаль…»
– Да, печаль и тьма – таково состояние человека, пока в нем не проснется любовь, – кивает дон Хайме.
Соледад сложила на коленях руки с письмом и, глядя в потолок, продолжает по памяти:
– «…и вот чудо: в темноте мне явился свет… утренняя звезда дня моего, луна моих ночей… То явились вы, донья Соледад…»
Старушка растроганна, дон Хайме поражен:
– Он знает ее имя!
– Не перебивай, дорогой, – просит донья Амелия.
– «Я жду ваших слов. Пусть единое слово, – наизусть говорит Соледад, – слово о том, что вы согласны позволить мне взглянуть на ваше лицо вблизи, склониться перед вашей красотой. Ваш Мигель, граф Маньяра».
– Покажи мне письмо, Соледад, – взволнованно просит маркиз, протягивая дрожащую руку.
И правда! Подписано полным именем: Мигель де Маньяра Вичентелло-и-Лека.
– Что же, Соледад? Что ты ему ответишь? – спрашивает бабушка.
– Ах, он мне нравится, нравится! – И Соледад прячет лицо в ладони.
Старички с улыбкой переглянулись.
– В сущности, богатство не важно, – рассуждает вслух дон Хайме. – Мы небогаты – и разве от этого меньше стоим? Но я не говорю, что золото Маньяра – помеха нам. Наш скудный котел зазвучал бы полнотою, и запах от него пошел бы аппетитнее. Наш род заблистал бы новым блеском – и я, тесть Маньяры, шел бы в процессиях вслед за архиепископом и герцогом Мендоса, рядом с графом Сандрисом, ах, впрочем, нет. Это лишь внешняя сторона дела. Мне стыдно за мое неразумие… Честь и добродетель – вот драгоценность, с какой не сравнится никакое богатство. Твоя добродетель и красота, Соледад, уравняют любое неравенство меж нашими семьями.
– Я сейчас же напишу ему, – встает Соледад.
– Нет, нет, не делай этого, – советует старушка. – Не надо неспешностью выдавать интерес к нему…
– Пусть подождет несколько дней, – подхватывает дон Хайме. – Ты даже у окна не показывайся, как бы нетерпелив он ни был…
Соледад склоняет голову:
– Я буду послушна вам…
И вот идут дни, растет нетерпение Мигеля, гордость его возмущена – по десять раз на дню спрашивает он, нет ли ответа, ответ не приходит.
Мигель заряжен желанием, как туча огненными зарядами. Часами скачет на коне за городом, сменяя галоп рысью, и не может вытряхнуть из себя гнетущую тоску. Письма все нет. Окно пустое.
Он бродит по улицам, встречая редких запоздалых прохожих с фонарями. Кровь в нем кипит, стучит в висках, гудит, как водопад.
Коснуться – только коснуться белой, гладкой кожи Соледад… При мысли об этом его забила лихорадка. Не кожа – лебединые перья…
Бросился в собор. В боковом приделе – ночная служба. За решеткой хор послушников: «О, сладчайшая, о, прекраснейшая дева!..»
Огоньки свечей плавают в храме, подобно душам утопленников под водой, и каждое пламя похоже на очертания светящейся женской фигуры. Огромные колонны, несущие свод, облачены в складчатые женские одежды, их кудрявые головы исчезают высоко во тьме.
Изваяние Мадонны на алтаре – сам свет.
Мигель падает на колени, молится жарко, но изо всех углов, сквозь все столетиями почерневшие своды слышит он голос, который смеется легко и тихо, вздрагивая от возбуждения, – голос женщины. И рвется нить молитвы в мыслях его и на устах.
«О, сладчайшая дева Мария!..» – поет хор, а эхо возвращает Мигелю единое, стократно повторенное слово: женщина.
В гуле, что сотрясает корабль храма, – женщина; в пении послушников, чьи голоса трепещут в экстазе, – женщина; во всех углах гудит, шипит во всех свечах, кричит в его крови – женщина!
Запахом ладана пропитались ноздри, и голова закружилась.
Выбежал из храма. И вот уже стоит под окном Соледад.
– Соледад! Соледад!
Девушка спит давно, и молчит душная ночь.
– Соледад, ради бога, покажитесь, вымолвите слово, которое спасет меня от когтей, сдавивших мне горло… Я умру без этого слова. Соледад!..
Вместо нее ему ответил город. Издали донесся рокот гитар, дрожание струн, песни любви…
И снова бросается Мигель в темные улицы. Бежит без цели, перепрыгивая через цепи, которыми на ночь перегораживают улицы, ночная духота душит, вся Севилья дышит терпкими ароматами, содрогается любовными песнями, а шепот влюбленных – да это хорал, вздымающийся к небу, подобно океанскому прибою! Весь город под покровом темноты пылает любовью, как факел.
Изнемогая, прислонился Мигель к порталу какого-то дома. Из открытых окон льется голос, тонкий, как паутина.
Ему знаком этот голос. Фелисиана! Ну да, это же ее дом. Голос наполнен медовой сладостью, и страсть обуяла Мигеля. Он заколотил в дверь; пронесся мимо привратника, мимо лакеев по лестнице, ворвался в покой. И стал лицом к лицу с веселящейся компанией, расточающей бесценное время за чашами вина.
– А, новый гость! Кто бы вы ни были – садитесь, пейте! За красу доньи Фелисианы!
Женские голоса:
– Красивый юноша – всегда желанный гость! Да здравствует запыхавшийся гонец Афродиты!
А Мигель на пороге – белее, чем атлас одежды хозяйки, кудри его разметались, губы полуоткрыты. Тяжко переводя дыхание, он не сводит с Фелисианы застывшего взора.
– Добро пожаловать, кузен, – говорит она. – Отчего ты так бледен? Так взволнован? По лицу твоему вижу – недоброе что-то случилось у вас… Вы нас извините, дорогие?
Гости притихли, стали прощаться.
Фелисиана взяла Мигеля за руку и увела в свой будуар. И здесь пал перед ней на колени Мигель и, рыдая, забросал ее бессвязными словами восторга и томления.
Фелисиана подняла его, и в ее объятиях впервые познал Мигель сладость плотской любви.
Краски ночи уже побледнели, когда Мигель, шатаясь, выбрался из дома Фелисианы.
Чувство гордости распирало грудь.
Он взял женщину. Первая любовница. Сладостное сознание собственной силы и мужественности. Чувство завоевателя. Гордое ликование победителя.
А потом его охватил страх.
Обещанный богу – изменил ему…
Мигель идет в церковь и опускается на колени.
Что я наделал? Горе мне, стократ горе! Дьявол вселился в меня, дьявол навел… Дьявол меня одолел! Как провинился я перед тобой, господи!
Блеснула мысль о Соледад.
Мигель содрогнулся от отвращения к самому себе.
Овладел женщиной – и предал любовь.
Вот теперь, вот сейчас, в эту минуту, хотел бы я чувствовать любовь сердцем, всеми порами тела моего! Ведь именно теперь хотел бы я взять в ладони лицо возлюбленной, осыпать его поцелуями, нежными, как дыхание. Целовать ладони, что сжимали мои виски, тихо отдыхать на руке, которая обнимала меня, слушать удары сердца, что бьется для меня одного…
А что чувствую я вместо этого? После минутной вспышки – только отвращение. К себе и к этой женщине…
Нет, нет – это была не любовь. Любовь не могла быть такою.
Какая пустота пахнула на меня из ее глаз… В ее объятиях я жаждал увидеть новые миры, увидеть вечность во всей ее необъятности, но не увидел ничего.
Горе мне, стократ горе!
Проклинаю минуту, когда я вошел в тот дом, проклинаю себя за свою жалкую измену…
Как я унизился пред собою самим! До чего же я убог, сир и скверен!
Изменил тебе, господи, и ей, прекраснейшей из дев…
Прощения! Прощения!
Клянусь тебе, и ей, и себе – больше никогда!..
Падре Грегорио вошел в Севилью через Кордовские ворота – измученный, оборванный, голодный. Босые ступни, привыкшие к обуви, содраны до крови, старые ноги ноют после долгого пути. Но епитимья есть епитимья, и надо претерпеть.
Он решил пожить в этом городе – здесь у него сестра. Вот только нет у него ничего для ее детишек… Ну что ж, может, удастся что-нибудь выпросить – ведь он нищенствующий монах. И потом – в Севилье Мигель! А старику очень хочется повидать его после восьми лет разлуки. Пойти к нему? Нет. Его даже не впустят. Быть может, подвернется случай…
Полдень, в работах перерыв. Рыбаки, грузчики, поденщики, носильщики, портовые девки, бродяги принялись за лепешки, лук, фляжки с вином. Пахнет рыбой, оливковым маслом, грязью. Расселись у реки среди бочек, тележек, мешков, ящиков – кто ест, кто песни поет, кто вздремнуть завалился…
Грегорио подошел к ним; один матрос, на груди которого киноварью выведена молния, приподнялся на локте и со смехом сказал:
– Эй, гляньте! Сам сеньор аббат к нам! Да босиком! По что пришел, монах? По души или по анчоусы? Так души мы не продадим, а анчоусы сами съедим…
За всеми бочками и ящиками засмеялись, отовсюду выглянули загорелые лица, лохматые головы.
«А мне бы сейчас один анчоус в масле был куда милее двух бесплотных душ!» – своекорыстно подумал Грегорио; увидев же, что тут много народу, он поднял руку и осенил всех размашистым крестом:
– Господь с вами, братья и сестры!
Здоровенный носильщик захохотал:
– Не накликай на нас господ, капуцин! Нам бы подальше от них…
– И крест оставь при себе, – вскинулась девушка с черными, как смоль, волосами и глазами. – У нас своих крестов хоть отбавляй!
Ядреные шуточки полетели, как стрелы, поражая все, что священно и свято, но это не оскорбляет слуха Грегорио. Все это он слышал еще от крестьян дона Томаса.
Выждав, когда притупятся насмешки над его сутаной и брюшком, разглядел монах лица и увидел, что все это добрый народ могучей испанской земли – в сущности, такие же люди, как те, которых он покинул в Маньяре.
И присел Грегорио на бочонок, не обращая внимания на шмыгавших вокруг крыс, и, решив начать принародно свое покаяние именно здесь, среди этих людей, заговорил так:
– Выслушай меня, люд севильский! Я – капуцин Грегорио из Тосинского монастыря, что под Кантильяной, в маньярских землях. Бог судил мне стать слугою и блюстителем его законов. Я повиновался и сложил ему клятву. О, нестойкость и слабость духа человеческого! Вот стою пред вами, недостойный миссии своей, недостойный монашеской рясы, ибо я нарушил клятву. И хочу я покаяться перед вами, рассказать о грехах моих, терпеливо снося, если вы наплюете в глаза мне…
Портовые рабочие и девки сгрудились, полные любопытства.
– Что ж, выкладывай, что ты там натворил!
– С чего это нам плевать на тебя, не зная за что?
– Говори же, монах, не томи!
Грегорио опустил голову и просто сказал:
– Воровал я, друзья.
– Фьююю! – свистнул матрос с молнией на груди. – Так ты вор! Тогда не лезь к нам, падре. Мы воров не любим.
– Погоди ты! – крикнула ему черная девушка. – Главное – что он украл? Драгоценности? Золото? Перстни?
– Нет, милая. Домашнюю птицу. Кур, индюшек, цесарок с господского двора и колбасы, сладости, паштеты из кладовой…
Громовый хохот загремел на берегу.
– Так вот отчего у тебя такое брюхо! – ржет носильщик. – Благословил же господь эти самые паштеты да жаркое! В монастыре бы тебя так не откормили…
– У кого таскал? – вскричала девушка, тощая, как кнутовище.
– У его милости графа Томаса Маньяра…
Новый взрыв веселья.
– Какой же это грех?
– У этого всего хватает!
– Правильно делал, монах! Валяй и дальше так!
– Прочитай «Отче наш» – и опять ты чист перед богом!
Однако тут Грегорио гневно повысил голос:
– Не чист я перед богом! Думаешь, мамелюк ты этакий, такой тяжкий грех, как воровство, да еще многократно повторенное, замолишь одной молитвой? Только последний негодяй старается обмануть бога словами! А дело можно исправить только делом.
– Не кричи, мы не глухие, зачем привлекать шпионов? По глазам твоим видим, добрый ты старик, и жалко отдавать тебя на костер. Просто лаком ты до вкусных блюд, вот и все.
– Да нет, – тихо говорит Грегорио, – я ведь не для себя воровал.
– Для кого же? – спрашивают удивленно.
К тому времени, как Грегорио закончил рассказывать, кому он посылал кур и индюшек дона Томаса, все уже сгрудились вокруг него и внимательно слушали.
– Ты или блаженный, или золотой человек, – сказал тогда серьезно носильщик.
– С чего это ты вздумал каяться? Разве это – кража?
– Ты правильно делал, монах. Хороший ты человек.
– Плюнь на покаяние, выпей со мной! – предложил матрос.
– Эх вы, голодранцы! Вы еще оправдываете меня? Грех есть грех, а воровство – воровство! Вы же, вместо того чтобы заплакать надо мной и помолиться за меня, покрываете скверность мою! Ах вы, трусы, ах вы, черные безбожники!
Безбожники развеселились. Развеселился и монах.
– Что ты к обеду несешь? – глянули они на его суму.
Грегорио вывернул ее наизнанку.
– Были-то в ней лепешки… Вкусные, из просяной муки. И вот – нету. Много людей встречал я по дороге – и не осталось мне ничего, кроме блох да ломоты в костях. Хорошо божье благословение, правда?
Смех бедняков, не дрожащих за припрятанное золото, счастливым образом соединил старика с новыми друзьями. А он уже и то рассказал, что укрывал бежавшего из тюрьмы инквизиции, чем окончательно завоевал сердца, И скоро он стал совсем своим среди них, называя их по именам; тот предлагал старику кусок рыбы, та – белый хлеб, этот – глоток вина, и Грегорио пообедал по-царски.
Поев, заговорил о предстоящем путешествии в Рим.
– Ополоумел ты, падре? Чего тебе там делать? Пешком через Каталонию, Францию и бог весть еще по каким местам? И не думай! Останешься с нами.
– Жить будешь у меня в сарае, – решил матрос. – Там у меня куча мешков, спать будешь, как король. По крайней мере, постережешь мешки, пока я шатаюсь вдоль побережья, от Кадикса до Барселоны.
– Да у меня здесь сестра, Никодема, – признался монах.
– Графиня, что ли? – сверкнула зубами черная Иоланта.
– Прачка. Как и матушка была. Да ведь мне надо в Рим…
Ему не дали договорить. Оказалось, они знают Никодему – живет она неподалеку, муж ее погиб на войне, и тяжело ей приходится с тремя-то детьми. Ну, ладно. Пусть монах поселится у нее, а за мешками матроса все-таки присматривает.
Взвыла корабельная сирена, все вскочили. За работу!
– Вечером увидимся, падре! – дружески хлопают его по плечу. – Отпразднуем твое появление и позаботимся о тебе. Беднякам никто не поможет. Надо самим…
Они ушли. Грегорио остался один среди бочек и ящиков. Он тронут. Вот стоит мне пройти пару шагов – и опять есть у меня сынки да дочки, как в Маньяре… Опять есть, о ком заботиться. Гм, говорите, вы позаботитесь обо мне? Хе-хе-хе, ладно, увидим, кто кому еще поможет! А Рим и впрямь далеконько. Что ж, буду нести покаяние в Севилье, решает старик, с улыбкой глядя на быстрые воды Гвадалквивира, как глядел в тот день, когда его выгнали из Маньяры.
Мыльная пена вспухает на щеках Мигеля, растет, белая, густая, уже все лицо скрылось под нею, только глаза темнеют из-под белоснежной маски.
Брадобрей точит бритву на оселке, а сам болтает:
– У нашего короля, сохрани его бог, уже давно пусто в кармане, вот он и выкручивается как знает. Извольте рассудить, ваша милость, хотят поправить дело налогами. И я, жалкий цирюльник, которому и так-то высоко до кормушки, должен платить пятьдесят реалов налогу. Не кажется ли вам, что это невыносимо, ваша милость?
– Начисто невыносимо, – подхватывает прислуживающий Каталинон.
Мигель открывает рот, и оба напряженно ждут, как изволит рассудить его милость. Но его милость просто забавляется тем, как от движения губ меняется выражение мыльной маски, и ничего не говорит.
– Это бесчеловечно, – продолжает брадобрей, занимаясь своим делом. – Так сосать соки из народа…
– На кого же ты жалуешься – на короля или на графа де Аро? – соблаговолил наконец заговорить Мигель.
– Король тому виной! – восклицает брадобрей.
– Де Аро! – возражает Каталинон, и оба неприязненно смотрят друг на друга.
– Конечно, король, – стоит на своем цирюльник. – Его охоты и праздники – дорогое удовольствие, а все за наш счет.
– Де Аро – грабитель, – твердит Каталинон. – Такой же, каким был Лерма. Его мошна пухнет, а мы затягивай пояса.
– Поторопитесь, – сухо обрывает их Мигель, вспомнив о письме Соледад – сегодня оно наконец-то пришло, и Мигеля не интересует ни король, ни министр.
– К вашим услугам, сеньор, – кланяется брадобрей. – Но я утверждаю: всякий, кто сваливает вину с мастера на подмастерье, помогает безобразию. Мой зять – придворный лакей, и у меня самые надежные сведения. Де Аро просто кукла, его выставляют вперед, чтоб король мог за его спиной творить что угодно.
– Как ты говоришь о короле, негодяй?! – вскипает Мигель.
– Молчу, ваша милость, молчу, – испуганно бормочет брадобрей и, ловко скользя бритвой, постепенно снимает пену с лица. Но он не может долго молчать и вскоре начинает снова: – А кто, спрошу я вашу милость, придумал посылать наших солдат на помощь чешскому Фердинанду? Тоже де Аро? Видишь, Каталинон, все твои рассуждения построены на песке. А уж войска – особенно дорогое удовольствие. Разве я не прав, ваша милость?
– Прав, – отзывается Мигель. – Но ты забываешь, что я тороплюсь.
– Я готов! А видишь, – ухмыляется брадобрей, обращаясь к Каталинону, – сами их милость того же мнения, что и я. Эх, кому это надо – делать хоть что-нибудь на пользу малым сим? Пусть себе прозябают! Пусть радуются, что вообще существуют… Ваш слуга, сеньор.
Каталинон, ворча, подает Мигелю медный таз с водой. Цирюльник складывает свой бритвы, принимает мзду и уходит.
– Тоже мне мудрец, чтоб ты своим мылом подавился, – бранится вслед ему Каталинон. – Что это, ваша милость, каждый олух убежден, что он во всем прав…
– А ты разве не такой же? – возражает Мигель, и Каталинон забывает закрыть рот. – Ну, хватит болтать, пустомеля. Шпагу! Перчатки! Шляпу!
Мигель еще раз пробегает глазами письмо Соледад.
Да, да, собственной своей рукой, ему одному, она написала: «Завтра пройду с дуэньей по набережной…»
Когда Мигель в сопровождении Каталинона вышел из дому, по пятам за ним скользнула тень человека, тень, похожая на летучую мышь или на кокон бабочки: до самого носа закутана в черный плащ, только два колючих, как острия ножей, глаза – глаза василиска, настороженные, острые, пристальные, – смотрят из-под широких полей шляпы. Кокон скользит за Мигелем шагом неутомимых.
Мигель, в черном бархатном костюме с белыми кружевами, в руках – букет цветов померанца, ожидает явления. Ожидает чуда любви. Дыханье спирает в груди, сердце колотится в горле.
О, идет! Ясная, как утренняя звезда, длинные золотистые ресницы затенили целомудренно потупленные очи. Подходит – в шелковых одеждах, увешанная фамильными драгоценностями, в отблесках которых, кажется, бледнеет ее детское личико.
Мигель, обнажив голову, низко поклонился. Дуэнья отошла в сторону. Соледад улыбнулась ему и снова потупилась – ждет галантных речей.
Но Мигель молчит.
Девушка поднимает недоуменный взгляд.
– Возьмите, – выдохнул Мигель, протягивая букет.
Девушка берет цветы померанца – символ любви – и краснеет.
Они молча пошли рядом.
Где же поток красивых слов, предсказанный дедом?
Они идут и молчат, позади них – слуга и дуэнья, а еще дальше – закутанная тень.
– Почему вы молчите, дон Мигель? – робко спрашивает девушка.
– Я хотел сказать вам много прекрасного… – Голос Мигеля хрипл. – И не могу. Вы слишком красивы.
Соледад посмотрела ему в лицо. Расширенные глаза, выражение строгое – ошеломленный, неотрывный взгляд.
– Я радовалась свиданию с вами, – улыбается она, позабыв советы своих стариков, – нарядилась, как для обедни…
– Вы похожи…
– На кого?
– На мою мечту, Соледад.
– Вы уже называете меня просто Соледад? – озадаченно спрашивает она.
Но Мигель не дает себя отвлечь.
– В ваших глазах – бог и все его царствие. Я искал путь – и нашел его. Через вас я приближусь к богу. Вы – мой путь к небесам.
– Я вас не понимаю, сеньор, – испуганно говорит девушка.
Не так представляла она себе первую беседу с Мигелем.
А он в эту минуту вспомнил измену свою с Фелисианой, и чувство отвращения к себе охватило его.
– Очистить душу вашим светом, Соледад… Тихим быть возле вас, как тих сумрак вокруг кипариса… Вдыхать вашу детскость. Не удаляться от вас ни на шаг…
– Но, дон Мигель, мы так недавно знакомы…
– Я знаю вас годы, Соледад, – вырывается у него. – Долгие годы люблю вас…
– О, что вы говорите? – Соледад в ужасе. – Это слишком внезапно, чтоб я могла вам поверить…
– Вы мне не верите? – Мигель, задетый, остановился.
Какой он странный, порывистый! Соледад не понимает его. Ею овладевает стыд. Она теряет уверенность. Ей страшно.
– Я верю вам, дон Мигель, – в тревоге отвечает она. – Но то, что вы говорите, приводит меня в смятение…
Мигель смотрит на ее губы, на кудри, обрамляющие ее лицо, и его обуревает дикое желание – сжать ее в объятиях! Нет, не хочет он быть тихим, как сумрак, не хочет вдыхать девичью нежность – владеть! Обладать!
Соледад, заглянув в лицо ему, испугалась. Как оно бледно, это лицо с неподвижными, вперенными в нее глазами, мечущими пламя, которое не греет, а жжет! В растерянности и страхе девушка окликает дуэнью:
– Люсия! Пора домой…
– Вы уходите? – почти враждебно спрашивает Мигель.
– Пора, дон Мигель. Нехорошо долго разговаривать на улице.
– Когда я вас увижу, Соледад?
– Не знаю, – с трепетом отвечает она.
– Завтра, – властно решает Мигель.
– Да, завтра… Опять здесь же… Прощайте, дон Мигель.
Мигель не ответил ни слова. Смотрит ей вслед, стиснув зубы. Чтобы он, будущий властитель половины Андалузии, просил свидания у внучки обедневшего маркиза? Никогда! Он будет приказывать.
А Соледад дома разразилась слезами.
– Ничего со мной не случилось, – говорит она испуганным старикам. – Просто я еще глупая девчонка и плачу от радости…
Мигель медленно возвращается домой, за ним – Каталинон, а позади них крадется тень, похожая на кокон.
– «Не признаю иного наслаждения, кроме одного – учиться!»
– О Петрарка, был ли ты глух, слеп, лишен обоняния, был ли ты стариком или калекой! Учиться? Наслаждение! Наслаждение!
– Мужчина любит действие.
– Творчество – выше действия. Действие проходит, забывается, растворяется во времени. Творчество же остается навек. Но оно вырастает на почве одиночества и сосредоточения, господа.
– Внутренний мир человека, его божественная сущность, его дух.
– Вспомните Митродора: «Корни нашего счастья гораздо глубже в нас, чем вне нас».
– Отвечают ли эти слова учению господа нашего Иисуса?
– Абсолютно.
– Мы завидуем другим из-за богатства, положения, славы. А между тем достойны зависти только сильный характер, дар постижения, жажда знаний и способность испытывать духовные радости – самые богатые, самые долговременные. Дух выше материи! А для этого опять-таки нужно уединение. Что говорит об этом Аристотель, господа?
– «Счастье – удел тех, кто довольствуется самим собой».
– Скука – вот могущественнейший враг человека, помимо горя.
– Что предпринимать против скуки?
– Невежды борются против нее, прибегая к преходящим радостям, которые, согласно принципам схоластов, следует назвать ядовитым искусственным раем.
– О! Искусственный рай! Что же это такое?
– Балы, маскарады, бой быков…
– Ого!
– Игра в кости и в карты, приверженность к вину, к лошадям, к фехтованию, и прежде всего женщины.
– Женщины – прежде всего?
– Легкий успех в этих областях порождает омерзительнейшую черту в человеке – тщеславие.
– А гордость?
– Это – другое. Тщеславие много говорит, гордость молчит. Но и то и другое – грех.
– Так что же, дон Энте, – молчать или разговаривать?
– Мыслить, господа. Мысль – редчайший талант рода человеческого.
– Любая мысль?
– Господа! Господа! Конечно же, благочестивая!
Магистр философии дон Энте Гайярдо – молодой, темпераментный иезуит, телом и духом упругий и гибкий, как прут. Ему кажется, что сегодня он наговорил своим слушателям уже достаточно мудрых вещей. Пристально посмотрев теперь на Альфонсо, он внезапно спрашивает:
– О чем ваши последние стихи, дон Альфонсо?
Альфонсо покраснел:
– Я написал их только вчера… Кто это так быстро сообщил вам, дон Гайярдо?
– Я всегда все знаю, – улыбнулся иезуит. – Так что же это за стихи?
– Не скажу.
– Ну, не важно. Но о чем бы вы ни писали – если стихи хороши, то вы совершили больше, чем если бы поразили десять быков или покорили десять женщин. И если ваши стихи написаны во славу господа нашего, чему я верю, то я счастлив, что я – ваш учитель.
Дон Гайярдо ушел, а Мигель бросился к Альфонсо:
– Прочти мне твои стихи!
Красоты твоей небесной
Повторить не сможет даже
Радуга – не хватит красок.
И жестка пыльца у лилий
Рядом с этой белой ручкой.
Какова же нежность уст?
Через снежные лавины
Я к реке спустился. Солнце
Отражает в ней твой образ.
Кто в твоем Аркадском царстве
Не отрекся бы от рая?
Ты прекраснее небес!
– Нравится? – спрашивает Альфонсо.
– Слишком ручные… слишком приглажены… – цедит Мигель сквозь стиснутые зубы.
Альфонсо смеется:
– Мигель, нынче вечером у Руфины, ладно?
Мигель смотрит на него отсутствующим взором.
– Нынче вечером?.. Вечером… Нет! Только не у Руфины!
А вот и вечер.
Вот женщина, о которой мечтаю с детства, – думает Мигель, и взор его не может оторваться от лица Соледад, словно хочет впитать в себя всю его прелесть.
Вот женщина, заливающая меня светом, как солнце – просторы полей. Да, глубочайшее познание – это то, которое приходит через любовь. Сжав эту девушку в объятиях, овладею всеми дарами мира. И жизнь моя тогда продлится до бесконечности.
Вот мужчина, каким я представляла себе возлюбленного моего, – думает Соледад. – Его поцелуй на моей руке – словно печать, которой он скрепил свое обязательство чтить меня, как королеву. Как прекрасен он сейчас и достоин восхищения! Ах, если б взгляд его всегда оставался нежным, как сейчас! Если бы не вспыхивал мой любимый тем темным огнем, который так жжет меня и пугает!
Душная ночь дышит тяжело, созвездия изнеможенно покачиваются в темном небе. Тяжесть ложится на все – все, что казалось крылатым, влачится по земле, ароматы сгущаются до того, что это уже звериные запахи.
Сегодня десятый такой вечер с нею, я пропитан насквозь ее очарованием, ее поцелуи усугубляют мой голод. Мне нужно больше. Всё – или ничего!
Безмолвно заключил он ее в объятия и увлек за собою во тьму, исполненную блаженства.
Созвездия передвинулись в небе, все, что казалось крылатым, влачится по земле, человек-зверь взволнованно дышит, как земля, напившаяся ливнями, и лежит под ветвями можжевельника, одинокий, как оброненная монета.
– Мигель, – боязливо шепчет девушка, едва не плача.
– Что, Соледад?
Впервые она сама поцеловала любимого в губы.
– Мне страшно, Мигель.
Мерцание звезд великою силой рвет ночь на куски. Ночь притаила дыхание, колонны кипарисов устремлены в небеса, как церковные шпили, москиты засыпают, замерев в своей пляске.
– Земля моя обетованная! – жарко целует Мигель лицо девушки. – Все дороги горя пусть приводят к тебе, пусть встречу я на пути моем реки скорби, дай пройти мне страною страданий – все равно к тебе, только к тебе! Душа моя возвращается в тело, и я люблю тебя, как собственную плоть. Любимая моя, светлый день мой, ведь ты – это я, а я – ты…
– Я счастлива, – запрокинув голову, улыбается ему Соледад, – и уже ничего не боюсь…
– Любовь моя! – выдыхает Мигель, сам растроганный силой своего чувства. – Через тебя найду я бога и жизнь, о какой я мечтаю!
Несет Мигель по улицам самодовольство и гордость свою, лелеет их. Дивитесь, смертные, дивитесь, силы неба и ада, – дивитесь мне, мужчине, возлюбленному прекраснейшей из севильских дев!
Мигель идет к Паскуалю – обещал навестить его, – и толпа, заполняющая улицы, увлекает его за собой. Со всех сторон – голоса, голоса, голоса, полные возбуждения:
– Это правда?
– Где это написано?!
– На паперти собора!..
Бушует, гудит, несется толпа. В гуще ее – Мигель, он отделен от нее своими переживаниями. Счастье мое безгранично. Ах, нет! Помеха: ее старички. Она все время думает о них, они стоят между нею и мной. Я не желаю этого! Хочу Соледад целиком, для себя одного! И – немедленно. О небо, как это устроить?
На площади толпы слились в бушующее море. На паперти собора стоит иезуит, движением руки просит тишины. Толпа стихает.
– Возлюбленные братья во Христе! Спешный гонец из Мадрида привез его преосвященству, архиепископу нашему, весть, что в Вестфалии, в земле немецкой, заключен мир!
– Мир! Мир!
– Война, которая тридцать лет опустошала Европу, закончена! – продолжает иезуит. – Ваши мужья, сыновья и отцы двинулись в путь к дому…
– Ура!..
– Из солдат – опять в работники…
– А кто им даст работу? Кто позаботится о них?
– Кто возместит им то, что они потеряли?
Иезуит поднимается на носки:
– Что потеряли они? Ведь они проливали кровь за бога и короля!
– Даром?!
– Честь, оказанная им…
Толпа затопала:
– Ха-ха-ха! На что им честь?
– Они вернутся к семьям, к очагам семейного счастья…
– Мой муж потерял на войне руку! – кричит какая-то женщина. – Не хочу однорукого счастья! Хочу своего мужа целого, а король возвратил мне калеку!
– Даже если б он потерял обе руки, – гремит мощный голос иезуита, побагровевшего от негодования, – то и тогда долг твой, женщина, на коленях благодарить господа…
– Благодарить?! – Голос женщины пронзителен. – Это за то, что мужа мне искалечили?! Проклинать я должна! Знает ли кто, за что мы воевали?
– Молчи! Слава королю!
– Эта женщина права!
– Она позорит короля и народ… Бейте ее!
– Она права! Права! Кто заступится за бедняка? Кто накормит ее, когда ни она не сможет работать, ни ее искалеченный муж?
А самый богатый в Андалузии человек равнодушно проходит через толпу бедняков, думая о своем наслаждении.
Он проходит по улицам бедноты, где нужда зияет голодными зевами дверей, таращится на прохожих пустыми глазницами окон, где нищета капает с крыш, дырявых, как сито, где изо всех щелей выползает беда, как клопы и как тьма.
Рахитичные дети, кукурузная похлебка, просяные лепешки, тощие тела – сквозь кожу просвечивают очертания черепа, а руки трясутся от вожделения к спиртному. Мигель невольно плотнее запахивает плащ, чтоб не замараться, и, брезгливо зажимая нос, ускоряет шаг.







