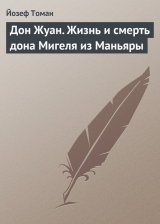
Текст книги "Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры"
Автор книги: Йозеф Томан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
– Дон Альфонсо! Добро пожаловать. Сейчас выйдем.
«У херувима» одно просторное помещение и ряд маленьких келий, отгороженных красными портьерами – отличие публичного дома.
В зале – сводчатый потолок, с которого свисают красивые кованые фонари с масляными светильниками. В масле плавают конопляные фитили. Сейчас эти фонари еще черны и мертвы, как клетки без птиц. Образ святой девы, под ним негасимая лампада и кропило.
Красные портьеры шевельнулись. Выходят гетеры. Хитроумные прически – кудри черные, светлые, рыжие. Легкие ниспадающие одежды всех цветов, на плечах – короткие мантильки из овечьей шерсти. На босых ногах – сандалии. Браслеты, ожерелья, золотые кольца в ушах, в волосах – цветы. Раскачивающаяся походка.
Девушки кланяются гостям, называют свои имена.
Сабина, маленькая каталонка, волосы – светлые, как грива буланых жеребят;
Лусилья, смуглая, высокая, как кипарис в сумерках, дитя Севильи, ее смеющаяся прелесть;
Базилия, девчонка с гор, дочь дикой Гвадаррамы, рыжая, как лиса, угловатая и стройная;
Пандора, цыганка из Трианы, родная сестра Билитино, творение ада и пламени;
Марселина из Прованса, желтая, как поле спелой кукурузы, девушка с янтарными глазами;
Фаустина, итальянка из Умбрии, – ветровая свежесть, непоседливый язычок, – и много других, хорошеньких и безобразных, полных и худых, все с пышной прической и звучным именем.
Базилия встала на стул, зажгла огонь в светильниках.
– Кабальеро, – обратилась к Мигелю желтая провансалка, – что будете пить? Мансанилью?
– Нет. Впрочем, да, – ответил Мигель, беспокойно меряя взглядом это создание, в котором спокойствие и уверенность здорового животного.
– А вы, благородные сеньоры? – спросила Сабина Альфонсо и Паскуаля.
– То же, что и я, – сказал Мигель. – Сеньоры – мои гости.
Марселина, поклонившись, вышла.
– Выберите из нас подругу на сегодняшний вечер, – предложила Лусилья.
Мигель, не глядя на девушек, тихо разговаривает с Паскуалем.
– Э, да это благородный сеньор граф Мигель Маньяра! – раздается чей-то новый голос.
– Граф Маньяра! – изумленно ахают девушки – они знают цену этому имени.
Мигель поднял голову, смотрит на женщину, которая подходит к нему.
– Помните меня, ваша милость? Несколько лет назад «У святых братьев» в Бренесе я имела честь… Мое имя Аврора… Не помните…
Мигель поражен. Да, он помнит, помнит, но каким образом эта женщина очутилась здесь?
– Я вспомнил вас, – растерянно отвечает он. – Садитесь, пожалуйста.
Другие девицы недовольны: золотая рыбка ускользает… Ну, ничего, мы не сдадимся! Еще посмотрим…
Тем временем зал заполняется гостями.
Мигель присматривается к Авроре. Те же буйные рыжие волосы, только блеск их потух. Морщинки у глаз, накрашенные губы. Годы беззвучно текут, вписывая на лица свои жестокие знаки…
Аврора опускает глаза.
– Вы удивлены, встретив меня здесь? Я осталась одна… Голод, нищета…
– Знаю, – прерывает ее Мигель. – Вашего дядю, дона Эмилио, сожгли… в Страстную пятницу…
– Он не был мне дядей, – сорвалось у Авроры.
– Вот как?
Сколько лет назад солгала ему эта женщина! Но и сейчас эта ложь действует на Мигеля, как пощечина. Нахмурившись, он замолчал, устремил взгляд в потолок.
Диего уже шарит руками по телу Базилии, Фаустина сидит на коленях Альфонсо. Сабина ластится к Паскуалю, а тот сидит, стиснув губы, неподвижный, словно деревянный.
– Я спою вам славную сегидилью. – Аврора старается привлечь внимание Мигеля. – Когда-то вам нравилось мое пение…
Мигель не ответил, но Аврора уже взяла гитару.
В харчевне «Виверос» —
Пристанище райском —
Поил христианин нас
Вином мавританским.
В харчевне «Виверос» —
Известно давно —
Поят христиан
Мавританским вином.
Гости рукоплещут, Мигель молчит равнодушно.
Поняв, что проиграла, Аврора вскоре отходит.
Зал наполняется. Мещане из Трианы, из старого города, из Макарены, кабальеро в бархате, при шпагах, студенты в поношенных плащах – все, у кого в кошельке бренчат золотые монеты, тянутся к источнику забвения.
За соседним столом, недалеко от Мигеля, сидит и пьет человек, и с ним три женщины.
– Я пил всю жизнь, – гнусит этот человек, – и завтра буду пить снова. Зачем же пропускать сегодня? Меня зовут Николас Санчес Феррано, сеньор, – кричит он Мигелю, поймав на себе его взгляд. – Я токарь и севильский горожанин. Этого достаточно, не так ли? Или требуется больше? Я пропил уже один дом с садом, но не жалею. Теперь в том доме сидит этот шелудивый Вуэльго. Подавиться ему волчьей шкурой, скряге этакому! Копил грош ко грошику, пока не купил мой дом. А у меня еще два осталось, я и их пропью. Я, миленькие мои, искушенный и неисправимый пьяница, и бог о том ведает и считается с этим…
Вино течет рекой, мысли туманятся. Языки развязались, мелют вовсю, слова летают, как ножи, брошенные в соперника.
Диего и Альфонсо удалились со своими девицами за красные портьеры; через некоторое время они возвращаются, утомленно улыбаясь. Паскуаль все еще держится против Сабины, а Мигель молча наблюдает за всем.
– Хотите, станцую для вас? – спросила его Пандора.
Он не ответил.
Но уже застучали каблучки, защелкали кастаньеты, подхватили гитары – цыганка пляшет неистово, юбки взлетают, открывая худые икры. Смуглая кожа ее ног окрашивается красноватым оттенком от пламени свечей, тонкие руки извиваются змеями.
– Подать сюда эту девку! – кричит Николас Санчес Феррано. – У нее черт в теле, а я люблю чертей наперекор святой инквизиции!
– Тссс…
Незаметный человек, сидевший в дальнем углу, встал, подходит.
– Поди сюда, цыганочка! – орет Николас. – Пляши на столе!
И он одним рывком смел со стола всю посуду.
Пандора кончила. Восхищенные клики, топот…
Николас пытается схватить ее, спотыкается, в конце зала два дворянина дерутся на шпагах, бренчат гитары, колышутся красные портьеры.
Вот она, ночная жизнь, которая так пьянит Альфонсо, говорит себе Мигель. Продажные затасканные прелести, продажные поцелуи, судорожные улыбки, прикрывающие желание выманить у мужчины все, что при нем есть…
В эту минуту к нему приблизилась женщина, непохожая на других. Разглядывая незнакомого гостя, поклонилась:
– Я – Руфина.
– Мигель, граф Маньяра, – представляет друга Альфонсо.
Мигель с удивлением смотрит на эту даму. Рослая, великолепно сложенная, лет под сорок – странная женщина, одетая с изощренным вкусом.
– Великая честь для моего дома, ваша милость, – говорит дама приятным голосом. – Простите, если мои девушки надоедали вам. Позвольте мне на минутку присесть с вами? Глупые девчонки, им хочется заслужить хоть несколько крох вашего богатства.
Мигель изумлен. Эта женщина, владелица лупанария, – несомненно, продажная, как и остальные, – разговаривает с ним как дама! У нее белое, чистое лицо, словно его не оскверняли тысячи раз липкие поцелуи развратных богачей! От нее веет материнской ласковостью, спокойствием и надежностью.
– Нехорошо, когда человек так безгранично богат, как ваша милость, – продолжает Руфина.
– Почему? – недоумевает Мигель.
– Слишком легко все достается. Тот, к ногам которого склоняется все, стоит лишь ему появиться, не знает радости достижения. Не успеет он протянуть руку – и плод сам падает ему на ладонь. А такие плоды не очень вкусны.
– Что же делать богатому и знатному?
– Не знаю, – улыбается Руфина. – Быть может, возжаждать цели, которой не купишь на золото, не достанешь руками. Не знаю, дон Мигель.
Он задумался.
А Николас уже заметил около себя неприметного человека:
– Поди сюда, братец! Не сиди там так одиноко!
– Осторожнее, – шепчет Николасу одна из девушек. – Может быть, это шпион. Его здесь никто не знает.
– Никто не знает? – орет Николас. – Ну и что? Вот мы и узнаем! Давай-ка лапу, подсаживайся ко мне да выкладывай, кто ты таков?!
Человек подсел к нему, скрипучим голосом объявил:
– Коста.
Николас захохотал во все горло:
– Слыхали, дамы мои? Коста – и все! Все этим сказано! Вот и познакомились, ха-ха-ха! Нет у него ни имени, ни второго имени – ничего! Просто – Коста!
– Я фельдшер, сеньор, – говорит Коста, не спуская глаз с Мигеля. – Могу вправить сустав и вылечить пищеварение. Исцеляю от всех болезней.
– А сколько это приносит, если считать на кувшины вина? – грохочет Николас.
– Вином ли единым жив человек? – спорит Коста.
– Неужели же нет? – ужасается Николас. – Разве лягушатник какой на нем не продержится, а мы, севильцы, уже давно поняли, что первым великим деянием господа было, когда он посадил виноградную лозу. Ну-ка, возрази на это, Коста!
Коста ответил тихо, дуэлянты в углу закончили поединок и пьют теперь за вечную дружбу.
Гитары гремят, девушки щебечут, красные портьеры пропускают парочки в кельи любви, роскошный вертеп горит смоляным факелом, взрывы страстей заливает виноградная кровь земли, поддавая горючего в пламя.
Руфина наблюдает за Мигелем, в темных глазах которого все чаще вспыхивают огоньки.
– Есть люди со строгими правилами жизни, – медленно произносит она. – Но подумайте сами, граф, ведь смех и радость – тоже часть жизни. Если в мужчине напряглось желание, лучше предвосхитить страшный взрыв, разрядив его маленьким удовольствием, – вы не находите?
– А если нельзя? – возражает Мигель.
– Не понимаю почему?
– Если этот мужчина должен стать священником?
Женщина улыбнулась, огляделась осторожно и, убедившись, что их никто не подслушивает, тихо сказала:
– Разве нынче священник или монах отказываются от радостей жизни из верности уставу? Это всего лишь вопрос денег. Разве я не поставляю ежедневно моих лучших девушек вельможам церкви? Взгляните на ту красавицу, что беседует с маркизом Игнасио. Ее зовут Эмеренсиа. Каждую неделю за ней приезжает закрытая коляска его преосвященства дона Викторио де Лареда.
– Что вы сказали?! – Мигель вскочил, как ужаленный. – Архиепископ?..
– Тише, ваша милость, – напоминает женщина. – Это так. Конечно, по внешности все выглядит несколько иначе. Эмеренсиа еженедельно отвозит его преосвященству корзину прекрасных цветов из моего сада, понимаете? А если она там задержится на часок-другой, то какая в том беда?
Мигель смотрит на Руфину, вытаращив глаза, – он не в силах поверить ей.
– Как?.. Дон Викторио – и девка из публичного дома…
– Это минутная прихоть, я знаю. Ведь у его преосвященства есть любовница, которой он купил дворец за стенами города. Ну, что ж – иногда ведь и ему хочется перемен. Это так человечно, не правда ли? Впрочем, мне кажется, Эмеренсиа уже не доставляет ему такого удовольствия, как месяц назад. Придется поискать другую красавицу. Дело есть дело, и это для меня не хуже всякого другого. Требования мои не чрезмерны, я живу скромно и неприхотливо…
Ложь ее была разоблачена тут же: откуда-то подбежала к ней девица и шепнула столь неосторожно, что Мигель расслышал:
– Граф Манфредо снова пришел с просьбой о займе… Ему нужно триста золотых. Процент, говорит, вы сами назначите…
– Пусть подождет, – сказала Руфина и повернулась к Мигелю. – Меня призывают дела, я покину вас ненадолго. Но прежде советую вашей милости забыть угрызения совести и выбрать лучшее из красоты, что вам предлагает жизнь. Вон Марселина, самая прелестная из моих девушек. Простая, как полевой цветок, очаровательная, как курочка, нежная и игривая, как котенок. Она у меня всего лишь три дня. Марселина!
Девушка подбежала:
– Что угодно, сеньора?
Руфина подняла ей юбку высоко над коленями.
– Видали ли вы ноги красивее, сударь? Погладьте ее. Крепкая, налитая, как персик. Гладкая, как атлас. И хотя еще так молода, знает много любовных чар. Рекомендую вам ее, дон Мигель. По-моему, вам нужно лекарство от неутоленности.
Девушка засмеялась, притворно стыдясь.
Злополучный смех! Он добавил в желчь Мигеля отвращения к этому вертепу порока. Мигель не видит прелестей Марселины – в глазах его темно от гнева, он чувствует себя оскорбленным и возмущенным. Вино, пробуждающее в мужчинах веселье и страсть, в нем пробуждает неистовство. Его натура, все его воспитание восстают против этого. Семена, брошенные Трифоном и матерью, пали на почву гнева.
Мрачный, встает он, и с бледным, осунувшимся, злым лицом подходит к девушке.
– Взгляните на нее, – говорит он ледяным, трезвым тоном. – Она крепкая, налитая, как персик. Знает тысячи любовных чар. Маняще улыбаются ее глаза, созданные, чтобы отражать великолепие неба, но улыбка маскирует бесстыдство, и в зрачках ее отразились лица распутников. Женщина! Сочетание плоти и похоти, которая кричит: купите меня! Ломоть хлеба, от которого за деньги волен откусывать всякий, оставляя на нем свою слюну. Одну мысль лелеет эта красота: блудить, выманивая деньги. Для того ли сотворил ее бог? Для того ли дал ей красоту?
– Верно, верно! – кричит Паскуаль. – Женщина – источник греха и падения!
– Стойте! – перекрикивает его Николас. – Не хулите девушку! Если нет у нее невинности, зато есть чувства! Не оскорбляйте ее!
Но Мигель, в фанатической предубежденности своей, забывает о рыцарственности и человечности.
– Глядите! – страстно продолжает он. – Вон та, и та, и та – и это женщины? Девушки? Творения любви? Они думают – достаточно повесить четки над ложем, и скроешь от божьего ока свою нечистоту? Ступай! – с отвращением говорит он Марселине. – Прочь с глаз моих, потаскушка!
Марселина скрылась. Зал притих, внимательно слушает.
– Бог милосерд бесконечно, – продолжает Мигель. – Но как вы хотите, чтобы он был милосерд к вам, участникам этих грязных безобразий…
– Я в них не участвую! Я только пью, сеньор!..
– …чтоб он был снисходителен к вам, топящим в пьянстве последнюю каплю рассудка?
– О боже! – содрогается Николас. – Вот уж верно – утопил я свой рассудок…
– Вы – плевелы земли, дармоеды, бегущие своего предназначения, целей своих, бегущие к пьянству и разврату! – гремит Мигель словами Трифона.
– Мигель, – взмолился Альфонсо, – умоляю тебя, хватит…
Но голос Николаса Санчеса Феррано заглушает его:
– Нет! Пусть говорит! Этот человек прав! Он – святой, господа! Святой сошел к нам, и я узнал его! Я ноги тебе целовать буду, святой человек!
Николас бухается на колени перед Мигелем, бьется лбом об пол, кричит со слезами:
– Я жалкий человек! Пропил все, что имел… Прокутил тысячи ночей, а о боге забыл! Но я исправлюсь, я обращусь… Господи на небеси! – рыдает пьяный, рвет на себе волосы, рвет одежду. – Взгляни на мое раскаяние, спаси мою недостойную душу!
Мигель не обращает внимания на вопли пьяницы. Он подавлен лицемерием и порочностью архиепископа. Вспоминает, как часто его преосвященство целовал руки его матери. И чувство омерзения снова перерастает в гнев. Он поднялся, швырнул золото на стол.
– Вы уходите? – приблизилась к нему Руфина. – Жаль. Ваша милость необычайно заинтересовали меня. Надеюсь, вы придете еще.
– Никогда, – резко бросает Мигель, выходя.
– До свидания, – улыбается ему вслед Руфина.
Друзья Мигеля следуют за ним.
– О спаситель мой! – кричит с полу Николас. – Не уходи! Останься! Не оставляй мою слабую душу одну в этом львином рву! Слышишь? Не уходи, спаситель мой, сила моя, надежда моя!
Но вновь разгоревшееся веселье заглушает его крики, и светловолосая девушка, хлопнув в ладоши, восклицает:
– Вина дону Николасу Санчесу Феррано!
Вечер. Мигель открыл окно – и разом песня гитары ворвалась во всей своей силе, хрупкими аккордами заплясала вокруг. На улице, затопленной лунным сиянием, под стеною дома напротив, маячит тень певца:
О прелестное созданье,
От кого мне ждать наград
За любовь, за все страданья?
Не от вас ли, Соледад?
За узорной решеткой окна напротив мигнула свеча. Над нею выступило из тьмы девичье лицо. Девушка, бросив быстрый взгляд на певца, снова отодвинулась в глубь комнаты. Но за то время, что взор ее облетал улицу, она успела увидеть Мигеля.
– Какое прелестное создание! – прошептал тот.
Девушка исчезла, улица снова утонула во мраке, даже звон гитары уже не в силах наполнить ее собой. Какую власть имеет красота! Как она волнует!
Единственная сила, превышающая прочие, – молитва.
Мигель, на коленях пред распятием, молится. Но в молитву его неотступно вплетаются образы архиепископа и потаскушки. Долго молился Мигель, но молитвы оказалось недостаточно. Она не заполнила его. Безразличие бесконечно повторяемых слов и фраз расхолаживает молящегося.
Отказ от всего мирского, падре Трифон? Как это мало дает и сколь многого требует! Вон даже дон Викторио не отказывает себе…
Снова подходит к окну Мигель.
Певец закончил свою серенаду и ушел. На балкон, залитый лунным светом, вышла девушка, смотрит на окно Мигеля, но оно в тени.
Знает Мигель – ему бы бежать от окна, разом стряхнуть искушение, а он стоит, как приклеенный.
Он в смятении. Чувствует – кровь его обращается быстрее, мысли тонут в ощущении, какого он доселе не испытывал. Страстность натуры умножает силу этого чувства до судорог в горле. Ему хочется смотреть, все смотреть на эту деву, коснуться ее…
Ужас! О чем я думаю? О чем мечтаю? Господи, спаси душу мою!
Отойдя от окна, Мигель бросается на колени.
Молится – упорно, жарко… Но архиепископ, балкон и девушка все нейдут из ума, молитва не помогает, судорожно выталкиваемые слова бессильны отогнать видение, которое стоит перед ним неотступно и все приближается, вот оно уже на расстоянии руки…
Господи, я, которому суждено быть слугою твоим во все дни моей жизни, я жажду снова увидеть ту девушку, не могу без нее, не могу дышать без нее, жить! Мигель стонет в смятении. Что мне делать?
Помоги мне, веди меня, боже, не дай погибнуть душе моей!
Душная ночь придавила к ложу тело Мигеля, налегла на него, как туча на гору, не дает уснуть. С рассветом встает он, невыспавшийся, с разладом в душе, неспокойный.
Он не слушает лекции в университете, забывает о молитве, вечером ускользает от приятелей, бежит из дому.
Соледад! Соледад! Сколь многозначительно имя ее! Нежное, светлое лицо, воссозданное воображением, стоит перед ним, идет с ним, идет за ним, окружает его со всех сторон. Пасть на колени перед тобой, Соледад, целовать край одежды твоей – только б смотреть в твое лицо, молиться твоей чистоте, лежать у ног твоих – только б дышать тем же воздухом, что и ты!
Вот я поднимаю руки к вам, звезды, сердце к вам возношу, о небеса. Только б приветливо глянули на меня ее очи – лишь об этом молю! Быть может, она не из плоти и крови, быть может, она только аромат и луч света… Даже нет у меня желания коснуться этой белизны, этой чистоты незапятнанной – не заключу тебя в объятия, чтоб не растаяла ты, не дотронусь до тебя, чтоб не осквернить, не заговорю с тобой, чтоб не испугать тебя грубостью голоса…
Стану перед тобой на колени, как пред алтарем, и лишь с благоговением буду смотреть на твой лик…
Нет! Господи, я забыл о тебе! Что мне делать? Служить тебе? Жить ею?
К какой жизни приговорили меня мать и Трифон? Быть священником, тайно наслаждаясь запретными радостями? Нет! Никогда! Я не умею лицемерить. Но – взбунтоваться? Смогу ли? Посмею ли?
Смилуйся надо мною, боже!
Утекает с водами время, улетает с ветрами, стремится в неведомое, не озираясь по сторонам, тащит нас за собою, и мы, грешные андалузцы, спотыкаясь, бредем по его следам.
Спотыкаясь, движемся без дорог, куда указует перст его, увядаем, дряхлеем, ибо, хотя коротка наша жизнь, путь по ней долог и труден.
И человек, влекомый к смерти, меняется.
Что ни говори, а сегодня ты не тот, что вчера, и завтра прибавится у тебя по меньшей мере одна царапина или морщина. Кожа тела твоего и кора души твердеют, чтоб легче сносить удары и порезы, которыми отмечает тебя судьба в столь нелегкое время, как наше. Господин и король наш, его величество Филипп, четвертый этого имени – слава ему и глубочайшая наша почтительность! – любит искусство, обожает музыку, покровительствует живописцам, недаром же маэстро Веласкес увековечил недавно образ этого монарха на полотне, – но жизнь его протекает вдали от нас, вдали от его народа. Так говорят даже мадридцы, не то что мы, южане. К тому же наше величество все воюет, воюет, и скоро будет уже тридцать лет с тех пор, как сыночки наши в солдатах бьются чуть ли не по всей Европе.
Эх, дал бы нам бог когда-нибудь хоть узнать, почему да за что они бьются, почему да за что сложили кости свои вдали от родимой испанской земли!
А его милость, всесильный министр короля, дон Луис Мендес де Аро, правит нами после дяди своего Оливареса рукою ласковой – она всегда открыта, чтоб взимать налоги со всего, чем мы владеем, и за то, что вообще еще дышим. У святой же инквизиции – перекрестимся трижды из почтения к ней – открыты во все стороны не только ладони, но и глаза – уж они-то не упустят ни единой овечки.
Говорят, наши грешные крестьяне молятся, чтоб превратил их господь в подземных кротов, но бог да не слышит. Нас он вообще не слышит. Слышит, верно, только тех, кто в парче и бархате, кто преклоняет колени на мягкие скамеечки в тех приделах соборов, куда допускаются только знатные люди.
Я же, жалкий капуцин Грегорио, сын прачки и неизвестного отца, – не мог же я поверить своей матери, когда она на смертном ложе поведала мне, будто отцом моим был сам высокорожденный сеньор судья, которому она, молодая, пригожая девушка, обязана была приносить выстиранное белье прямо в спальню, – я, безотцовщина, пречасто взываю к отцу небесному, да снизойдет он кинуть взор на своих голодающих детей и ниспошлет им немножечко манны небесной насыщения ради. Но тщетно взываю я – глухи небеса. Бог богатых не думает о нас, а бог бедных нас не слышит…
Что же мне остается, как не клянчить милостыню у богатых, чтобы хоть детишкам-то принести кусок пирога, который снится им с голодухи каждую ночь? Злые языки утверждают, что порой я даже ворую для них. Ну, что поделаешь. Это так. Случается – сверну голову отбившейся курице его милости графа да отнесу ее старой Рухеле, которая устроит пир для своих девятнадцати внуков…
– Ну, падре Грегорио, странные у вас взгляды на право собственности!
– Но, сын мой, разве не слышал ты об общинах ранних христиан, где, согласно с учением Христа, все люди были божьи дети и были равны меж собою? Почему бы не вернуться нам к учению Иисуса?
– Безумный старик – разве сейчас сорок седьмой год по рождестве Христовом? Вы забыли прибавить шестнадцать веков и святую инквизицию!
– Святая инквизиция, поди, тоже знает Священное писание, а, сынок?
– Вы сошли с ума, падре Грегорио, и говорите ересь. Осторожнее! Что вы все суетесь со Священным писанием, старое дитя? Вам бы радоваться, что после изгнания из Маньяры восемь лет назад вас, по заступничеству дона Томаса, не выгнали из Тосинского монастыря, а вы все не прекращаете мятежных речей о царстве божием на земле!
– Этого ты трогать не смей, молокосос! Царство божие должно наступить – и наступит на земле! Исконная апостольская бедность церкви в сравнении с нынешними дворцами церковников…
Разгорячился падре Грегорио. Проповедует, словно перед ним толпа народа, но тут его позвали к аббату, и философические его рассуждения были прерваны – увы, навсегда.
Настоятель Тосинского монастыря Эстебан – тучный пятидесятилетний мужчина. У него колючие, быстрые мышиные глазки, но это и единственное, что есть оживленного в облике аббата. Ленив он на движение и на мысль, однако ловко сдирает со своих овечек все, что ему заблагорассудится. К разговору с Грегорио он готовился давно. Знал, какой любовью пользуется капуцин – не только далеко за пределами аббатства, но и у самой монастырской братии. Но когда-то же надо с этим покончить. Итак, с помощью божией… Настоятель развалился в широком кресле, Грегорио стоит перед ним.
– Много грехов совершил ты, увы, – с трудом шевелятся мысли и язык настоятеля. – Много раз смотрели мы на это сквозь пальцы. И эти еретические да мятежные книги постоянно попадаются братьям…
– Доказано ли, благородный падре, что их в монастырь приносил я? – учтиво осведомляется Грегорио.
Настоятель вздохнул. Ох, трудная ждет его работа!
– Не доказано, – сухо отвечает он. – Но ты и сам знаешь, что больше некому…
Настоятель вытер потный лоб; он соображает, как бы поскладнее подвести речь к тому, что Грегорио ворует и уносит добычу крестьянам. Он хотел бы подвести к этому незаметно, чтоб Грегорио не сумел отбить атаку. А негодник, конечно, будет защищаться! И почтенный Эстебан брякает:
– Ты воруешь!
Н-да, не очень-то складно и незаметно – но что это?..
– Да, ворую, – сразу сознается Грегорио и объясняет многочисленные свои поступки этого рода с точки зрения ранних христиан, исповедовавших всеобщее равенство.
До чего же утомительно слушать его, ворошатся мысли падре Эстебана, который не дает себе труда поймать Грегорио на слове и насадить на булавку ереси, как бабочку. Эстебан отлично знает, что у него на руках – карта, которую Грегорио не перебить. И, отдохнув после лекции монаха о божьих детях, Эстебан ходит со своего козыря:
– Сегодня утром во вверенной тебе части сада, под грудой кукурузной соломы, был найден человек.
Грегорио побледнел.
– Это осужденный святой инквизицией; бежавший из тюрьмы в Севилье. Он мятежник и еретик, и его ждет костер. Кто укрыл его там?
От такой длинной речи настоятель совсем задохнулся. Взгляд его полон яда.
– Не знаю, – храбро лжет Грегорио. – Может, он перелез через стену и спрятался сам. Я об этом ничего не знаю.
– Кто же носил ему еду, остатки которой были обнаружены, тоже не знаешь? – Эстебан взъярился в той мере, в какой позволяет его тучность.
– Не знаю. Ничего не знаю, – стоит на своем Грегорио.
– Я ждал, что ты отопрешься. И даже рад этому, потому что в противном случае я был бы обязан предать тебя суду святой инквизиции. А я любил тебя, брат!
Аббату удалось выдавить две крокодиловые слезинки из-под жирных век.
– Ты должен, однако, признать, что подозрения против тебя накапливаются. Это слишком опасно для моей обители. И вот, взвесив добро и зло, решили мы, из уважения к твоим сединам, назначить тебе самое мягкое наказание. Мы посылаем тебя в Рим, и в путь ты отправишься тотчас, как кающийся, бос, и будешь исполнять все святые предписания для кающихся паломников. Такова твоя епитимия и кара.
Уфф, вот и с плеч долой, тяжко перевел дух Эстебан и отвел глаза к окну, за которым сияло лазурное небо.
Грегорио тоже смотрел на эту лазурь, печальный и огорченный.
Ах, милые мои Рухела, Антония, Энсио, Агриппина, Барбара, Педро, Петронила и ваши бедные детишки! Пришел час покинуть вас – и навсегда, потому что я, старый человек, конечно, не вернусь уже из Рима…
Положил Грегорио в суму несколько просяных Лепешек, простился с братией, снял с ног башмаки, передал через Энсио благословение всем друзьям, чтоб избегнуть прощальных слез, и пустился в далекий путь к Риму.
Шел он и, встречая по дороге знакомые и незнакомые лица – пастухов, купцов, рыбаков, солдат, работников и нищих, – каждого просил помолиться за него.
Со смирением в сердце, босой, шагает падре Грегорио к Севилье, раздавая путникам остатки лепешек и доброе слово, а слово это все возвращается к тому, о чем святая церковь запрещает и думать и говорить.
Маркиз Хайме Эспиноса-и-Паласио приближается к восьмому десятку, а маркиза Амелия перешагнула за семьдесят. Соледад – единственное дитя их сына, умершего от чумы к вечеру того самого дня, на заре которого угасла жизнь его юной жены. И росла Соледад у своих старичков, и они в ней души не чаяли.
Некогда вложил маркиз все свое состояние в корабль, отплывающий в Новый Свет с грузом пушнины. Корабль потерпел крушение где-то возле Азорских островов, и все богатства взяло море. Маленькой ренты едва хватало на жизнь семьи, и родовой дворец венчал раззолоченную нищету. Маркиз был слишком горд, чтоб открыто признать свою бедность. Только в самые трудные годы, когда девочка стала подрастать, склонился он на уговоры и сдал половину дворца – или, как он говорил, уступил его дальней родне.
Однажды вечером, когда Соледад ушла в свою комнату, унося благословение своих стариков, маркиз спросил у служанки Люсии:
– Ты знаешь, кто живет во дворце напротив?
– Как не знать, ваша милость: граф Мигель де Маньяра.
– И это все?
– Все, ваша милость.
– А то, что он учится в Осуне, – не знаешь? Что род его – столп андалузской знати, не знаешь?
Донья Амелия, довольная, кивает:
– Наш господин заботится о будущем внучки…
– О! – восклицает дуэнья. – Жених для нашей барышни! О!
И Люсия рассыпается в похвалах Мигелю. Вдруг до их слуха доносится звон гитары и любовная песня.
Старушка улыбнулась:
– Опять кто-то поет серенаду Соледад. Мне тоже пели, когда я была молода…
Дон Хайме мелкими шажками выбегает из комнаты и, вернувшись вскоре, с усмешкой рассказывает:
– Так я и думал. Это Родригес. Этакое ничтожество, этакий голодный идальго с крошечным гербом. Не для него цветет наша Соледад! Я-то уж знаю, кому ее отдам – то-есть, кому бы я отдал…
Мигель дописал свое первое любовное послание, заклеил его и отправил Соледад.
Начало – труднее всего, и начало положено.
– Ваша милость, падре Трифон просит принять его.
Мигель вздрогнул, кровь бросилась ему в лицо, как человеку, захваченному врасплох за дурным делом.
Трифон вошел. Поклонился низко, ждет.
– А, падре Трифон. Добро пожаловать. Садитесь, падре. Что вы хотите сказать мне?
Трифон обводит взглядом роскошь убранства и сжимает костлявые руки.
– Я пришел пожелать вам здоровья, ваша милость. Не более того. Приветствовать вас в Севилье и предложить свои услуги.
– Благодарю за пожелание, – сухо отвечает Мигель, – и за предложение услуг. Пока что я ни в чем не нуждаюсь. Что подать вам, падре? Вино? Пирожное?
Лицо Трифона делается серым. Его жгучие глаза вперились в Мигеля.
– Я просил бы вашу милость, – тихо, но очень настойчиво говорит он, – не усматривать в моем появлении светский визит. Прошлое, связывающее нас, и то обстоятельство, что я ради вас приехал в Севилью, дает мне право надеяться, что вы увидите во мне…
– Посланника божия, – заканчивает Мигель, охваченный внезапным желанием уязвить Трифона.
– Отнюдь – я всего лишь смиренный слуга господен, но явился я сюда как ваш наставник и, если позволите, друг.
Мигель смотрит на Трифона, который стоит, опустив глаза, и тучи воспоминаний вторгаются в его мысли. Вот он, этот сыроядец, пожравший всю радость детства моего и юности. Это он, послушный клятве моей матери, заковал меня в оковы, которые ныне так гнетут меня…
– Ее милость ваша высокорожденная мать и я, – говорит Трифон, словно читая в мыслях Мигеля, – желали вам только добра. Соблаговолите понять, что мы боролись за вашу душу, хотя порой вам, быть может, и трудно было подчиниться нашим просьбам.
Приказам, мысленно поправляет его Мигель, возмущение которого растет с каждой минутой. Приказам, строгость которых усугублялась слежкой и содержанием взаперти…







