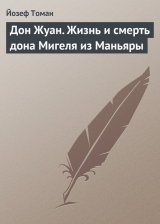
Текст книги "Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры"
Автор книги: Йозеф Томан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Петронила, пристыженная, вскочила, бросилась целовать ему руку.
– Ладно, ладно, брось, доченька, – пробормотал старик. – А теперь подойдите-ка вы все ко мне…
Женщины быстро окружили его, и Грегорио стал опоражнивать объемистую суму, раздавая им остатки вчерашних лакомых блюд.
Радуются, благодарят его женщины – они счастливы…
– Я домой отнесу, – говорит Агриппина.
– Ничего подобного! – вскричал старик. – Садитесь здесь и ешьте!
Они повиновались, а монах, зорко вглядываясь в дорогу к замку, начал пространно описывать, какие диковинки прислал из Нового Света дон Антонио племянникам. Изумленные женщины даже есть перестали – слушают, разинув рот.
– Куда это вы все время смотрите, падре? – спросила любопытная Петронила.
– А ты ешь да помалкивай, – буркнул монах, начиная что-то рассказывать – под говор его приятно убегает время.
Женщины распрямляют спины, дают отдохнуть коленям, одна кормит младенца, лежащего в корзине на берегу, другая смазывает стертые колени салом – всем им хорошо.
Вдруг Грегорио завидел на дороге облачко пыли.
– Скорей за дело! – торопливо предупреждает он женщин. – Едет майордомо!
– Дева Мария, не отступись! Ох, что будет!
Едва успели взяться за вальки – Нарини тут как тут. При виде монаха он нахмурился. Не любит майордомо капуцина. Грегорио в его глазах – один из той черни, удел которой служить господам, не жалея сил, однако Нарини побаивается его: как-никак наставник юного графа. Поэтому Нарини всегда старается уклониться от встречи с монахом, не замечать его. Вот и сегодня майордомо повел себя так, словно Грегорио тут и нету.
– Усердно ли стираете? – проскрипел он своим сухим, неприятным голосом.
– Стараемся, ваша милость, – отвечают женщины, не поднимая глаз от белья и не переставая стучать вальками.
– Мало сделано с рассвета! – свирепеет Нарини. – И это все? Баклуши били, ленивое отродье!
Видя, что Нарини уже взялся за хлыст и собирается спешиться, Грегорио подошел к нему.
– Дай вам бог доброго утра, ваша милость. Я проходил мимо и уже довольно долгое время смотрю, как работают эти женщины. От такой работы, вероятно, болят спины и колени – вам не кажется?
Майордомо насупился:
– Не подобает вам, падре, занимать свой ум такими размышлениями.
– Почему? – с удивлением возразил монах. – Когда-то ведь вы сами учили по закону божию, что труд работников следует облегчать.
– Стало быть, вы здесь облегчаете их труд?
– Как можно, сеньор? Наоборот, я жду, что так поступите вы.
– Что? Я?! – Нарини до того взбешен дерзостью старика, что голос его срывается.
– А разве нет? – удивляется капуцин. – До сих пор я полагал, что ваша милость исполняет святые заповеди.
Испугавшись такого оборота, Нарини выкатил глаза, и челюсть его отвисла от неожиданности.
– Я полагал в простоте своей, – продолжает Грегорио, – что святая наша католическая церковь имеет в вашем лице надежного и преданного слугу, который чтит Священное писание…
Страх овладевает майордомо. Одно неосторожное слово – и его могут обвинить в еретичестве…
– Я чту заповеди, – заикаясь, лепечет он, – хотя не знаю, какую из них вы имеете в виду…
Грегорио, почувствовав, что сейчас его верх, воздел правую руку и молвил строго и с силой:
– «Не поднимай руки на работника своего и дай ему отдых в труде его!»
Нарини сунул хлыст в петлю при седле и, беспокойно моргая, произнес:
– Я не хотел бы, падре, чтобы у вас сложилось обо мне превратное мнение…
– Не хотел бы этою и я, – твердо ответил монах.
Поворачивая лошадь, Нарини процедил:
– Желаю вам приятно провести день, падре.
– И вам того же, дон Марсиано, – вежливо отозвался монах.
Через несколько минут от майордомо осталось только облачко пыли, клубившееся по дороге к замку.
Пораженные женщины замедлили движения вальков; они не сводят глаз с монаха, который спокойно отряхивает хлебные крошки с сутаны, собираясь уйти.
– Вы спрашивали меня, как отдыхать, как разогнуть ненадолго спину. Вот я вам и показал. Разогнуть спину, передохнуть, перекинуться добрым словом – оно и богу мило, и для спины полезно. Так-то!
Женщины поняли, рассмеялись радостно и кинулись целовать руки старику. Но тот, отдернув руки, строго проговорил:
– Кшшш, прочь, индюшки! Клюйте что-нибудь получше, чем моя морщинистая кожа! – И, подняв руку для благословения, добавил: – Господь с вами! Да будет светел ваш день!
Затем, повернувшись спиной к ним, зашагал вразвалку к недальнему своему жилищу в Тосинском аббатстве.
Петронила крикнула ему вслед:
– Падре! Разве есть в Священном писании заповедь, о которой вы говорили Нарини?
Грегорио оглянулся на красавицу, усмехнулся и задумчиво проговорил:
– Нету, девушка, а надо бы, чтоб была.
Прачки долго, с любовью, провожали глазами его коренастую фигуру, следя за тем, как поднимает пыль подол его сутаны, потом снова склонились над бельем. Но на сердце у них стало веселее, и искорка надежды затлела в душе.
Ладья отдала свое богатство. Шкуры обезьян – рыжие, светлые, полосатые и в пятнах; выделанные кожи, расписанные яркими красками; индейские боевые щиты, ткани, покрытые узором, повторяющим очертания листьев и цветов; веера из соломы и перьев попугая; ожерелья из когтей коршуна и зубов хищных зверей; раковины, диадемы из пестрых перьев, боевые топоры, тростниковые дудочки, мокасины, луки, стрелы, маски индейских воинов…
Каталинон сдал отчет за дорогу, принял похвалу и золотые монеты и бродит теперь в сумерках по двору, ищет тень тени своей, зеницу ока своего, душу души – Петронилу.
Час настал. Пора нам в путь.
Отзовись на голос мой.
Попроворней, милая, будь,
Поскорее дверь открой.
Откуда-то сверху отвечает ему девичий голос, подхвативший знакомую песенку, которую Каталинон, бывало, так любил слушать из прекрасных уст Петронилы:
Если ты уйдешь босой,
Не придется нам тужить —
Брод за бродом, реку за рекой
Будем мы переходить.
Каталинон догадывается, что голос доносится с сеновала, и торопливо поднимается по скрипучей лестнице. Фонарь освещает горы зерна, где стоит девушка.
Влюбленные упали друг другу в объятия.
– Зачем нам свет? – шепчет Каталинон.
– Хочу разглядеть тебя после долгой разлуки. Хочу увидеть, все те же ли у тебя голубые глаза, – дразнит возлюбленного Петронила. – Что-то они будто выгорели… И странно так смотрят. Это, правда, ты?
– Это я, я, – шепотом отвечает Каталинон и гладит ей плечи.
– Ты вырос, ты возмужал, – без всякого стеснения продолжает та. – Молоко на губах обсохло… И на подбородке щетина – колется! Пусти! Не очень-то ты похорошел там, за морем, а главное, я еще не знаю – поумнел ли…
– Ах ты, лиса! – смеется Каталинон. – Все такая же озорница! – И, снизив голос: – Скажи, Петронила, ты меня еще любишь?
– Видали! – надула губы девушка. – Год целый шатался по свету, как пить дать бегал там за каждой юбкой, а хочет, чтобы я его любила!
– Лопни мои глаза, если у меня что-нибудь было! – божится Каталинон. – А ты была мне верна?
– Я-то была, а вот ты, вертопрах, конечно, нет!
Петронила гладит его по лицу, нежность охватывает ее. Она садится на груду кукурузы, Каталинон – рядом.
– Ах ты, ослик! – дрогнул ее голос, – Я по-прежнему тебя люблю…
Долгий поцелуй… Внезапно Петронила вырывается и в ярости кричит:
– Ага, я знала, ты изменял мне! Бесстыжий юбочник! – И девушка принимается колотить его обоими кулачками.
– Что с тобой? Что ты? – уклоняется от ударов Каталинон.
– Прочь с глаз моих, негодяй! – Тут Петронила ударяется в слезы.
Каталинон делает попытку обнять ее за талию, Петронила отталкивает его. Рвется из рук, кусается, а рыдания ее все горше. Каталинон клянется всеми предками, что он ни в чем не повинен, призывает в свидетели множество святых обоего пола – все тщетно.
– Да как тебе пришла в голову такая глупая мысль? – Каталинон трясет ее за плечи.
– Я сразу узнала, как только ты меня поцеловал! Ты целуешься совсем не так, как раньше!
«А, черт, – думает Каталинон, – как это я себя выдал! Кто бы подумал, святые угодники! Все та девка, сучье племя, с Серебряной реки… Всего-то раз пять переспал с ней, и вот что теперь получается!»
– Дурочка, – успокаивает он девушку. – Или ты не знаешь, что люди взрослеют, умнеют? Что только со временем начинают они понимать, зачем им даны язык и губы? Наши солдаты толковали об этом каждый вечер, а я разве глухой? Или болван?
– Так ты научился этому со слов? – хватается Петронила за соломинку, желая положить конец ссоре.
– Конечно, со слов, а как же иначе?
– Ах ты, бездельник, – голос девушки смягчился, она уже улыбается. – А я вот по-прежнему люблю тебя…
Снова поцелуй с использованием опыта Нового Света, приобретенного Каталиноном «со слов».
– Задуй фонарь, – внезапно говорит Петронила.
На берегу озера Мигель перечисляет, кого и что он любит.
Мать, отца, Мадонну, бога, Бланку, Грегорио, Инес, Педро, Али, Каталинона, своего вороного. Трифона – нет, Нарини – нет, и Бруно – тоже нет.
И еще любит запахи ладана и гвоздик, голос Авроры, грохот бури, но больше всего все белое: лилии, цветы померанца, белоснежный шелк, слоновую кость, оперение птиц…
Дремота смежает его веки, под ними плывут облака, похожие на цветы. Крылья ангела, белая лилия… Аврора, шея белоснежная, как пух… лебедь!
Мигель приподнялся и, ослепленный светом, ищет взглядом лебедя.
Вон он! Плывет свободно и величаво, как корабль. Весь он – пенное облако и – прямо скользит иль боком – подобен бесплотному видению.
Босой, засучив штанины, продирается Мигель сквозь заросли тростника, ступает на берег у самой воды.
Когда-то, в давние годы, обманув однажды вечером бдительность Бруно, играл он на этом месте с Инес. Месяц стоял над озером, отражаясь в воде. Инес захотела месяц. И Мигель, как был, одетый, бросился в воду – выловить месяц для девочки. Он был тогда еще глупый… Месяц – в небе, а вот лебедь – тот в самом деле на воде.
Ноги скользят по глинистому дну, Мигель зашел в воду по колено, кусочком печенья подманивает лебедя.
Одной рукой протягивая лакомство, другой коснулся незапятнанной белизны. И едва притронулся к перьям – весь замер, замерло в нем дыхание, и неизъяснимое блаженство пробежало по всем его членам и разлилось по телу.
– Она положила ладонь мне на руку, и я в тот миг испытал не отвращение, а несказанное блаженство, бесспорно греховное блаженство – ах, падре, разрешите меня от этого греха, избавьте от укоров совести, преследующих меня!
Мигель – на коленях перед Грегорио, и слова исповеди срываются с губ его столь стремительно, что монаху трудно разобрать.
Грегорио сидит на срубленном стволе бесплодной оливы. Солнце скатывается к горам Арасены, ранний вечер распростерся над пастбищами, сладостный, как сотовый мед, – наступает самое ласковое время дня. Монах всеми чувствами впитывает эту сладостность и гладит черные кудри Мигеля.
– Каждый из нас ежеминутно подвержен опасности, Мигель. Сладостно блаженство любви, но остерегайся неистовства. Бог не любит одержимых. Часто заводит он их в тупик и ввергает в несчастье. Мудрость в том, чтобы мог человек каждый вечер провожать день, довольный собою, чтобы мог он спокойно подать руку собственной совести и мирно отойти ко сну.
– Наверное, вы можете так, падре, но не я…
– Я тоже был молод, как ты, Мигель, – есть вещи, которым учат лишь сама жизнь да время. Прекрасна любовь, мой мальчик: идут двое по жизни, помогая друг другу, делая добро соседям. Взгляни на перевозчика Себастиана: ты ведь хорошо его знаешь. У него золотое сердце, Двадцать лет он прожил с женой, восемь детей у них, и все они веселы и счастливы даже в бедности. Ибо думают они не только о себе, но и о других и оделяют мимо идущих куском хлеба из того немногого, что имеют. Это и есть семейное счастье – понимаешь?
– А у нас есть семейное счастье?
Монах смущенно молчит.
– Падре, я понял ваше молчание. Нету. Недавно вы сказали старой Рухеле, что Маньяра – дом, где нет любви.
Грегорио хочет возразить, но Мигель движением руки останавливает его.
– Я сам слышал, падре!
– Да, я сказал так, не отпираюсь, – признается старик. – Быть может, я лгал…
– Вы никогда не лжете, падре! Я не очень хорошо знаю, что такое любовь. Однако ничего похожего я не видел в нашем доме. Разве что когда его преосвященство целует руку матушки. Но ведь этого не может быть! А мне бы так хотелось… так хотелось бы мне узнать, что такое любовь!
– Бог благословит тебя, Мигель, и даст тебе познать ее во всей красоте…
– Когда познает человек любовь?
– Одни – рано, другие позднее, мой мальчик. Но всякий раз она захватывает с великой силой. Трудно противиться любви, дитя мое…
– Но падре Трифон требует, чтобы я остерегался не только греха, но и всякого соблазна. Чтобы я избегал женского пола…
– Падре Трифон когда-то был обманут женщиной. И ожесточился. Вот почему он хочет обезобразить ее в твоих глазах. Сенека, наш земляк из Кордовы, говорит, что порой даже безумствовать – благо, Платон же учит: тщетно в ворота поэзии трезвый стучится. А я тебе говорю, Мигель: без любви жизнь человеческая была бы лоханью с помоями. Радоваться божьим дарам не грех. Скверно лишь то, что в избытке. Да следи еще за тем, чтоб никому при этом не причинить зла. Вот величайшая мудрость для вступающего в жизнь.
– Я хотел бы идти прямою дорогой, падре. Слепо идти к великой цели и не сбиться с пути. Но ни цель, ни дорога неведомы мне.
Слегка усмехаясь, всматривается монах в серьезное мальчишеское лицо и тихонько читает:
– «И хотя не сойдешь ты с пути и убежишь всех ошибок – не миновать тебе бычьих рогов, заградивших дорогу, и Гемонийского спуска, и пасти льва – страшного, дикого хищника».
– Не сойду с дороги! – обещает мальчик. – Но скажите, падре, какая она – моя дорога?
– Дорог много – цель одна.
– Какова же цель? – жадно спрашивает мальчик.
– Быть полезным людям, – отвечает монах.
Мигель поражен.
– Как – я, граф Маньяра, должен быть полезен людям? Быть может, они мне, а не я им?
– Ошибаешься, сын мой. Взгляни на меня. Что имел бы я от жизни, живи я для себя одного, не будь я полезен другим? Чего стоила бы моя жизнь? Меньше горсти плевелов!
– Да, падре, – задумался Мигель. – Вы действительно полезны всем, кто вас окружает…
– Вот видишь! – улыбнулся монах. – И это дарит мне радость. В этом мое счастье, Мигель!
Обдумав все это, Мигель вдруг вскипает:
– Но это значит – служить! Никому я не стану служить! Пусть мне служат! Я – господин!
Опечалился Грегорио, привлек к себе мальчика.
– Нехорошо говоришь, сынок. Так мог бы сказать какой-нибудь невежда вроде Нарини. Но ты? Образованный человек? – Монах разгорячился. – Какой ты господин? Оттого, что унаследуешь гору золота, толпы подданных, дворцы?.. А к чему тебе все это, если ты не станешь господином над самим собой? Вот когда достигнешь этого, тогда и впрямь станешь господином. В противном случае ты, со всем твоим золотом, – сир и убог!..
Помолчав, Мигель тихо произнес:
– Но я хочу того, чего ни у кого нет. Хочу большего, чем у всех. Нет, падре, я теперь говорю не о золоте. Я о нем не думаю. Но – знать, мочь, уметь, значить…
Монах погладил его по голове:
– Я знаю, ты не стяжатель, И желание знать, мочь и много значить – хорошее желание За него я тебя не браню.
– О todo, o nada! Все – или ничего! – воскликнул мальчик.
Грегорио стал серьезным.
– Мне известно это изречение, но не хотелось бы мне слышать его из твоих уст, Мигель. Твоя бурная натура ничего хорошего из него не выбьет. Если речь идет о добре, полезном для всех, тогда девиз этот уместен. Но если дело коснется злого – горе и словам этим, и тебе!
Желтым и розовым окрашивается вечер, пыль садится на листву – садится легко, как пух, и летит над Гвадалквивиром стая диких гусей.
– Боюсь, падре, – говорит Мигель, – что не стану таким, как вы хотите.
– Я тоже этого боюсь, – отвечает монах так тихо, что мальчик не слышит, и гладит его горячие виски. – Я буду с тобой, сынок. Не покину тебя.
Рассказывают, бог сотворил все, кроме себя самого, ибо пребывал извечно. Сотворил он ангелов, и некоторые из них отпали от него, став дьяволами; сотворил он солнце, землю, вот эту красивую реку и мужчин на ее берегах. Но он сотворил и женщину, и она вырвалась из-под власти его и внесла в мир соблазн и грех. Так проповедуют иезуиты.
Черные столетия, покачиваясь, проходили над горами, текли в потоках крови, во вздохах боли и радости по долине реки. Словом, золотом и насилием подчиняли себе мужчины дочерей человеческих, и дьявол поддерживал их в этом.
Бог!
Сатана!
Кто кого? Кто чью сторону возьмет?
Ликуй, Андалузия, рождающая прекраснейших дочерей человеческих и самое гордое племя мужчин! Веселись, танцуй и люби, о колыбель любви!
На колени, андалузцы! Бог трепещет от гнева, взирая на ваши грехи. Кайтесь, дабы отступились от вас силы зла! – так проповедуют иезуиты.
Вся ты – одно брачное ложе, о Андалузия! – так поют девушки на берегах твоих рек.
Ты – преддверие ада, Андалузия! – гремит братство Иисусово.
Кто любит – не стареет, – вот твоя древняя поговорка.
Кто любит – предался пороку и вечному проклятию.
Умереть за любовь!
Умереть за слово божие!
Всех вас – на костер! Спалить до тла распутников!
Кто в силах противиться любви – люди, ангелы, святые угодники?
К голосу света или к голосу тьмы прислушиваешься ты, Мигель?
О человек, в котором столь резко чередуется свет и тьма! Пламенное создание, – все, что ты чувствуешь и делаешь, переживаешь со страстью, сжигающей тебя. Четки в одной руке, шпага – в другой. Между крайностью греха и крайностью святости – грань тоньше волоса. И неведома тебе, о воспламеняющаяся душа, простая, радостная жизнь!
Утром – половодье смирения и чистых помыслов, вечером – полыхает жажда наслаждений. Но и утро и вечер – равно головокружительны. Вечно – головокружение, и бег, и полет, и пылающий жар.
В огненном воздухе Андалузии человек тех времен становился фанатиком.
К богу или к сатане, но всегда без оговорок, без границ, до конца. И ждет человека либо святой ореол, либо мученический венец на костре.
Войдя в часовню Пречистой Девы, Мигель преклонил колени у алтаря.
На алтаре – большое изваяние Мадонны, на ней голубые и белые ризы, на губах, алых, как надкушенная вишня, – нежная улыбка.
К лику Мадонны воспаряет желание Мигеля. Приблизиться к ней! Коснуться! Погладить!
Ужас! Какая греховная мысль… Молись! Молись!
Какая молитва будет мила тебе, пресвятая?
И шепчут уста мальчика молитву святого Франциска – первую пришедшую ему на ум:
Сердце мое изнемогает от любви…
Дай умереть мне от любви, о всеблагая!
Любовь, любовь, о Мария, возьми же меня, любовь,
Явись мне на помощь, любовь!
Клонит голову коленопреклоненный Мигель, и сердце его дрожит, как вдруг на глаза легли две мягкие маленькие ладони.
– Кто, отгадай! – пропел девичий голос, трепетный, как крылья бабочки.
Ах, знаю, кто это! Инес! Но не хочу шевельнуться, не хочу встать, остановить тот поток, что льется в меня от прикосновения маленьких рук.
Потом, внезапно вскочив и мгновенно обернувшись, он ловит ее руки.
Так стоят они, мальчик и девочка, и каждый ощущает на лице своем дыхание другого, и оба молчат.
Буря проносится в мозгу Мигеля. Ревущие адские бездны – небеса, открытые белоснежному блаженству… В мозгу его грохочет водопад – это что? Страх или желание? Но незнакомая сила одолевает стесненность в груди и велит рукам подняться к щекам Инес.
Они гладкие, как персик. Инес улыбается, но лицо Мигеля серьезно, ладони его соскальзывают на плечи девочки, сдавливают их до боли, потом заходят вокруг шеи, под волосы, стискивают, и мальчик рывком приникает к ее губам и не отрывается, сжимает зубами ее губы до крови…
Всей силой молодых своих рук Инес оттолкнула Мигеля и спасается бегством.
У Мигеля темно в глазах. Повернулся резко к Мадонне. Забирается на алтарь – вот лицо его уже у лика статуи. И он прижимает губы к ее холодным, истекающим кармином устам, и на устах Непорочной заканчивает первый свой голодный поцелуй.
Сидя на мраморной скамье под олеандрами, тощий и прямой, ждал Трифон своего ученика, когда в патио появился монах Грегорио.
– А, падре Трифон, – приветливо произнес капуцин.
Трифон встал, поздоровался сухо:
– Хвала Иисусу Христу!
– Так рано, падре Трифон?
– У меня урок святого вероучения.
– Так, так, – кивает Грегорио, отирая рот со лба и присаживаясь в тени на скамью. – У меня тоже, друг мой. Греческий.
– Греческий! – повторил Трифон, и в тоне его скользнула насмешка. – Однако, по моим предположениям, вы обучаете Мигеля не только греческому.
– Предположения – сродни предрассудкам, запрещенным святой церковью, – лукаво щурит глаза старик.
– Вы излагаете графу Мигелю и учения греческих философов?
– А как же, – кивает Грегорио. – Среди них есть весьма просвещенные…
– Кто именно?
– …и менее просвещенные, – хитро заканчивает монах.
– Но в основном вы, верно, преподаете Мигелю Гераклита, – забрасывает удочку Трифон.
Грегорио, потянув из фляги божий дар андалузских виноградников, соглашается:
– И Гераклита. Его не обойдешь.
– В том числе его еретическое положение, что «мир не сотворил никто из богов или людей, ибо он есть и вечно будет живым огнем»?
– Ну, кое-что из этого мудрого положения вы опустили, падре Трифон! – укоризненно парировал монах. – И потом: какой же Гераклит еретик? Разве в пятом веке до рождества Христова существовала святая инквизиция? Ах, Трифон, Трифон! «Надо пестовать многие размышления, но не многую ученость», – писал Демокрит. Помните это…
– Тоже мятежник! Его учение идет против святой церкви. Все это языческие ереси, их надо сжечь на костре! Мы, иезуиты, знаем, что есть истина! За нами стоит бог!
– За Демокритом, любезный Трифон, стоит дух!
Лицо Трифона побледнело, глаза вспыхнули жгучим фанатизмом:
– Вы хотите этим сказать, что дух язычника Демокрита выше духа божьего?
– Нет, – усмехнулся монах. – Я только хотел сказать, что мудреца умалить невозможно.
– А это значит? – вскинулся Трифон.
– Это значит, что ваше лицемерное воспитание убивает в Мигеле светлого человека и отравляет для него радости жизни.
Лицо Трифона сделалось серым, как листья олив. Он взорвался:
– У вас в Тосинском аббатстве недавно случайно обнаружены строго запретные книги! Не знаете, кто их подсунул монахам?
– Ай-ай, – удивился Грегорио, а левое веко у него задергалось как бы в испуге; но, отхлебнув еще глоточек, он спросил уже совершенно спокойно:
– Как вы узнали, падре Трифон? Я вот, смотрите, и не слыхал об этом. И какие же именно книги?
– Отлично вы знаете, – возразил иезуит. – Томас Мор, Фома Кампанелла, Эразм Роттердамский…
– Вон как! Томас Мор, говорите… Но разве наш великий поэт, украшение Севильи, Фернандо Эррера, не сложил торжественной оды в честь Томаса Мора?
– Да, это вы распространяете писания Эрреры! – страстно обвиняет монаха Трифон. – Вы распространяете также сочинения Суареса, Альфонса де Кастильо, даже Хуана Марианы, чью книгу в Париже публично сжег палач!
– Не были ли Мариана и Суарес такими же иезуитами, как вы? – задал старик коварный вопрос.
– Они были отступники! – обличает Трифон. – И, как таковые, окончили дни свои или в темнице, или на костре! А этот ваш Мор! Какое бесстыдство! «Дать всем гражданам время для свободного – свободного, слышите?! – образования духа!» И в этом будто бы заключается счастье жизни! Мор – мятежник!..
– А вы читайте его, читайте – ума не убавится, и даже наоборот. То, что он пишет о нерадивых священниках, которые только языком… Ха-ха-ха! – весело расхохотался старик.
– Он пишет вовсе не так! – сорвалось у Трифона.
– Ах да, правда, у него не так. Я только хотел узнать, читаете ли вы эту книгу. Хорошо, что читаете. Человек образованный обязан ее знать.
У Трифона перехватило дыхание, гнев парализовал его мозг – он не способен был собраться с мыслями для достойного отпора.
– Вам, видно, жарко, – дружески осклабился монах. – Хлебните капельку моего винца. Это – божья роса, человек без нее увядает. Тем более что Кампанелла пишет – в городе Солнца люди старше пятидесяти пьют уж неразбавленное вино. Ну разве это не мудро, хотя бы подобный совет вам преподал такой «изверг»? Я уважаю этот совет.
– Не притронусь я к вашему вину, – Трифон уже перевел дух и злобно бросает слова. – Не желаю иметь с вами ничего общего!
– Как угодно, ваше преподобие, – спокойно отвечает Грегорио, снова прикладываясь к фляжке.
Но терпение Трифона лопнуло, он кричит:
– Хватит играть, монах! Мне известно, что вы отравляете душу дона Мигеля сочинениями еретиков! Чего вы добиваетесь? Или хотите, безумный, сделать будущего графа Маньяра мятежником? Хотите восстановить его против святой церкви?
Грегорио, поднявшись, серьезно ответил:
– Я был бы в самом деле безумен, если б желал этого. Я же только хочу дать Мигелю то, чего не даете вы: образование и чувство. Свободное образование и человеческое чувство!
Трифон, оскорбленный, проглотил слюну.
– Вот человек, который кончит на костре!
– Я в самом деле всего лишь человек, – мягко произнес Грегорио. – И мечта ваша сбудется, если бог признает это справедливым.
– Но ядовитые семена, которые вы сеете в юной душе… – Трифон захлебывается словами. – Я размышляю над этим ночи напролет…
– Не делайте этого, – опять уже весело парирует старик. – Слишком много размышлять по ночам вредно для худощавых, это разрежает желудочные соки. Пейте мяту с перцем, ваше преподобие. У вас неважный вид, хотя лет вам вполовину меньше, чем мне.
– В вашем возрасте, – иезуит, стараясь совладать со своим гневом, принимает высокомерное выражение, – в вашем возрасте я, конечно, не стал бы вести столь богопротивные речи…
– В моем возрасте, сыпок, – перебивает его Грегорио, – вы станете чуточку мудрее.
– Вы много на себя берете, старый безбожник! – с ненавистью цедит Трифон.
– Доброе утро, ваши преподобия! – с этим возгласом Мигель, запыхавшись, вбегает в патио.
Трифон, бросив враждебный взгляд на капуцина, отошел от него и обратил к Мигелю свое угрюмое лицо.
– Вы сильно опоздали, ваша милость, – строго выговаривает он ученику.
– Доброе утро, Мигелито, – улыбается мальчику монах и гладит его по чернокудрой голове. – Падре Трифон давно тебя ждет и сердится. Ступай теперь с ним. Я подожду, когда вы закончите урок. Если же случится мне задремать здесь в холодке – будь так добр, Мигель, разбуди меня!
В ритме латинского гекзаметра вышагивает Мигель по патио. Солнце клонится к закату. Загорелая детская рука просунулась сквозь решетку двери, и к ногам Мигеля упал камень, обернутый бумажкой.
Мигель развернул ее.
Нацарапанное свинцовой палочкой, корявыми буквами на грязном листочке – как прекрасно оно, первое любовное послание!
«Как стемнеет, приходи к платану в конце аллеи. Инес».
О, королевская грамота, священное писание – каждая черточка в нем означает сладостный выбор, каждая кривая буковка – ступенька лестницы Иакова, достающей до небес!
В то время как Мигель не сводит глаз с песочных часов, добрый сторож Бруно передает донье Херониме записочку Инес, изъяв ее из шкатулки Мигеля. Госпожа приняла решительные меры.
Вскоре уже заложена карета, и она увозит Инес, в сопровождении Петронилы, в дальнее имение дона Томаса под Арасенскими горами; а Мигель торопливо доедает ужин, готовясь ускользнуть на свидание.
Темнота пала быстро – небо обложили тучи, пошел дождь.
Совесть черней оперения ворона, трепещет душа, но сердце полно решимости – крадется Мигель в темноте под ливнем. Дождь хлещет, со всех сторон под платан, и вскоре бархатный камзольчик Мигеля промок насквозь, прилипли ко лбу мокрые волосы, в башмаках хлюпает вода. А небо, раскрывшись настежь, все изливает на землю потоки вод.
Приди, о приди, прекраснейший из цветков в долине реки, лети ко мне, голубка моя, ибо я изнемогаю от нетерпения! Пади, о звезда, на сердце мое, слети на ладони мои, стрекоза!
Но проходят минуты за минутами, капли времени состязаются с дождевыми каплями, а Инес не приходит.
Дождь усиливается, ожесточается, вот уже сыплет град, побивая колосья, насекомых, птичьи яички.
Ночь улетает вдаль, подобная вспугнутой сове, а Мигель все стоит под платаном – один, во тьме и в отчаянии, что она не пришла.
Терзаемый гневом и унижением, дрожа от стыда и холода, плетется Мигель домой.
У ворот возникает тень, хватает его за руку, тащит к замку.
Бруно! Ах, так – значит, и сегодня за мною следили! Ну, ладно же Я не поддамся. Плакать не стану. Не покорюсь.
Восстану не только против матери – против всего мира, пусть обманут и предан – не допущу, чтоб со мной обращались, как с узником!
Приведенный к матери, Мигель строптиво стал перед нею и, отбросив ладонью со лба мокрые волосы, вперился в нее дерзким взглядом.
– Где ты был сегодня вечером, Мигель? – мягко спросила донья Херонима.
– Не скажу!
– Ты ждал напрасно. Она не могла прийти. Я отослала ее далеко. Не позволю, чтобы тебя сбивали с пути…
– Вот как?! – вскричал сын. – Вы за мной подсматривали! И ты услала ее? Так вот почему она не пришла… Зачем ты так поступила со мной, матушка?
– Мигель, ты должен служить богу.
– Инес должна вернуться!
– Она никогда не вернется. Ты больше ее не увидишь.
– Но это подлость! – в ярости топнул ногой Мигель. – Я хочу, чтоб Инес вернули!
– Разве ты здесь распоряжаешься? – строго одернула его донья Херонима.
– Да! – Мигель сбивает с подставки большую вазу и топчет ее осколки. – Прикажи, чтоб Инес привезли! Сейчас же! Сегодня!
Вырвал руку из руки матери, охваченный бешенством, рвет в клочья ее кружевной платочек, кричит:
– Слушай же правду: не бога люблю, а Инес! И не желаю больше терпеть, чтоб за мною подглядывали! Если Бруно еще раз потащится за мной – убью его, а Инес…
– Ни слова более! Твое сопротивление напрасно. Я обещала тебя богу – и богу отдам!
– Нет, нет, никогда! Я не буду священником! Слышишь? Не буду! Вырасту – женюсь на Инес, убегу от тебя…
– Не подчинишься?
– Не подчинюсь!
Донья Херонима, схватив сына за руку, потащила его в свою спальню. Рывком отдернула занавес с картины, воскликнув:
– Вот что тебя ждет!
Страшный суд. За мглистыми облаками вырисовывается божий лик. По бокам престола господня парят сонмы серафимов и херувимов; трубя во все стороны света, они возвещают Судный день. Встают из могил мертвецы, тянутся к престолу вечного судии, а тот мановением десницы отделяет отверженных от спасенных. О, отверженные! Белеют тела осужденных в царстве сатаны, извиваются на крючьях дьяволов, корчатся в языках пламени, иных растянули на дыбе, их рты Окровавлены, вырваны языки, иные бьются в котлах с кипящим маслом, их сжатые кулаки и раскрытые рты вызывают представление о душераздирающих воплях и стонах мучимых.
Мигель невольно подходит ближе, ближе…
Сколько ужасов! Вот дьяволы когтями терзают тело женщины, вот исчадия ада ломают кости мужчине и сдирают кожу со спины, другому пробивают череп гвоздями – а вот мальчик, и дьявол с шакальей пастью рвет его внутренности, и глаза мальчика, залитые кровью, кричат от боли и ужаса.








