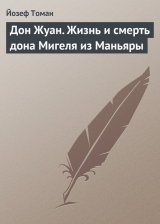
Текст книги "Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры"
Автор книги: Йозеф Томан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Руфина погладила его по щеке и проводила на улицу другим ходом.
В комнате Мигеля сидит дон Флавио де Сандрис и шумно выговаривает сыну своего друга. Забыл-де этот сын о давних узах, связывающих его отца с доном Флавио, который готов за друга кровь пролить. Забыл Мигель и обещание свое, скрепленное рукопожатием, так долго не показывается у них в доме. В чем дело? Ученье? Не верю! Скорее вино и женщины – так?
Не успел Мигель и рта раскрыть для ответа, как в комнату влетел Паскуаль. Опешил было при виде гостя, но гнев перекипает через край, и Паскуаль, забыв о приличиях, бросает Мигелю:
– Подлец! Негодяй!
– Не видишь – гость у меня? – нахмурился Мигель.
– Гость извинит, – скрипнул зубами Паскуаль.
– Я – граф де Сандрис, – надменно произносит дон Флавио.
– Овисена, – цедит сквозь зубы Паскуаль и снова поворачивается к Мигелю. – Что ты сделал с Марией?
– Уйди, не мешай, – сухо отрезал Мигель.
– Она все время говорит о тебе и плачет. Почему?! – истерично кричит Паскуаль.
– Уйди, – повторил Мигель.
– Слышишь, чего я от тебя требую? Женись на ней! – сипит Паскуаль.
– Слышу и оставляю без внимания, – бросил Мигель. – Прощай.
– Как?! – Голос Паскуаля срывается, кровь бросилась ему в лицо, он стискивает кулаки. – Как, ты даже объясниться со мной не желаешь, подлец?
– Мне нечего объяснять тебе, – презрительно отвечает Мигель. – Быть может, она польстилась на мое богатство и увидела, что ее домогательства напрасны.
От такого оскорбления Паскуаль лишился дара речи.
– Да, – вмешивается дон Флавио. – Есть такие люди. Они похожи на воронов, подстерегающих добычу. Еще это похоже на силки для дичи или манки для птиц…
– Что вы себе позволяете? – хрипит, весь дрожа, Паскуаль.
– Да, – продолжает дон Флавио, – это смахивает на вымогательство. Дешевый способ жить…
– Я не за деньгами пришел, а чтобы вернуть ей честь! – выкрикнул Паскуаль.
– Уйдешь ли ты? – встал Мигель.
Паскуаль смотрит на его сжатые губы, вглядывается в глубину его темных глаз, и страх объемлет его. Он отступает.
– Я уйду, – просипел он, – но стократно отомщу за оскорбление!
Поникнув, бледный, обессиленный, сломленный, он выходит.
За воротами его остановил иезуит в широкополой шляпе, надвинутой на глаза.
– Простите, сеньор, что, граф Маньяра дома?
– Дома этот мерзавец, и жаль, что ваше преподобие – не палач, который явился бы снести его подлую голову…
– За что вы так браните его? – хочет знать Трифон. – Граф Маньяра – образец дворянина…
– Я расскажу вам кое-что о его совершенствах. – И Паскуаль увлекает священника за собой.
А дон Флавио хохочет во все горло:
– Я смеюсь словам этого сумасшедшего и даже ни о чем тебя не спрашиваю. Жалобы плебея ничего не значат. Но, вижу, ты умеешь пользоваться жизнью, и это мне нравится, мальчик мой. Твое место – в моем доме, ты внесешь в него оживление. Приходи, не мешкая!
Летиции и Паскуаля нет дома, и Мария пользуется минуткой одиночества. Вынув из сундука голубое платье, надела его, села к зеркалу. Это платье было на ней в том саду, где он сказал ей, что любит. Вот здесь, на рукаве, он нечаянно порвал кружево, этого места касалась его рука…
Лампа коптит, шипит фитилек, давая скудный свет. Отражение в зеркале – смутное, неясное.
Женщина, лампа – и больше никого, ничего.
В зеркале повторен образ женщины, но бесплодна красота, которой не восхищаются. О горе, где ты, мой милый, завороживший меня? Молитвенно сложены руки – врата скорби и плача. Как больно рукам, обнимающим пустоту. Темнеет и вянет лицо мое без твоего взгляда, далекий…
– Я – выгоревший дом, лесное пожарище, скошенный луг, сжатое поле. Колодец, заваленный камнями, ветка, брошенная в пыль дороги…
Сяду под сенью храма к печальным женщинам, но плакать не стану. Семь дней радости дал ты мне. Разве этого мало? Это – больше, чем вся жизнь. Возблагодарю за это царицу небесную. Разве нет людей, которых никогда никто не любил?
Но сейчас плачет овечка господня, и трудно сказать отчего – от горя, от счастья или от горькой любви, подмявшей ее. И такую ее одолел сон.
Стоит над спящей сестрой Паскуаль, задумался. Вид у нее такой, словно она счастлива. Улыбается, но в уголках глаз еще не высохли слезы. Кто посмел безнаказанно так убивать человека? Кто посмел так жестоко растоптать человеческую душу и отречься от нее? Только смертью своей сможешь ты заплатить за это, Маньяра, и я ее подготовлю. Смеешься надо мною, гордец? Знаешь – задрожу перед шпагой твоей, знаешь – безымянный обвинитель Маньяры не добьется судом ничего, и презираешь удар в спину. Но тут ты ошибся. Удар в спину – единственное, что может тебя погубить. Не кинжалом удар, не ножом – словом. Гнусно сделаться доносчиком, это – коварство и преступление. А ты не совершил преступления против нее?! Бог простит мне.
Мария улыбается сонным видениям, а Паскуаль слагает клятву мести.
В праздник святого Лазаря в Севилье ярмарка, ромериа. С утра весь город высыпает за Кадикские ворота, на луга, тянущиеся к Корре-дель-Рио и к Дос-Эрманас.
За Кадикскими воротами – муравейник: люди всех каст, от дворян до воришек, за Кадикскими воротами – день гулянья и безделья.
Айвовый сыр, пышки, андалузские сдобные булочки, финики, сладкие лепешки, соленые лепешки, жареная баранина, кролики, колбасы, паштеты и вино, вино…
Прибой веселья и смеха – смеются оттого, что день хорош, что зубы белы, или просто от радости, что живем!
В разноцветных фунтиках – шафран, имбирь, перец – коренья, ценимые высоко; образки святых, четки; игры – мяч в ямку, мяч об стенку, и звездная мантия звездочета.
Перед палаткой полотнянщика, в кругу подруг и парней, – девушка, пригожая, как юная телочка: выбирает материю.
– Возьмите, сеньорита, этот батист, – соловьем разливается продавец. – Есть у меня и атлас, сотканный из свежевыпавшего снега, взгляните – холодит, как ветерок с Арасены, сеньорита, более тонкого не носили даже наложницы халифов…
Эсперанса купила шесть локтей атласа и отходит со стайкой подруг.
Эсперанса – единственная дочь самого богатого крестьянина деревни Дос-Эрманас – Хосе Энрикеса. Стройный у нее стан, полные губы, румяные щеки, пышные русые волосы и веселые серо-голубые глаза. Гордо ступает она, горделивы манеры ее, и любит она показать, что обладает остроумием и ловко подвешенным язычком.
А вон и повелитель сердца ее, Луис Бегона, суженый Эсперансы, – высокий парень, чьи движения резки и порывисты; а тут подходит дон Валерио, алькальд деревни Дос-Эрманас, – сухощавая личность, сухостью превзошедшая старый кедровый сук, зато разодетая куда пышнее, чем то подобает селадону его сословия и его пятидесяти годов.
Дон Валерио с Луисом Бегоной присоединились к девушкам и бродят с ними от палатки к палатке.
Ромериа!
Звон бокалов, запах жареного, бренчанье гитар, звуки пастушьих рожков, пение, бубны, струйка вина, текущая из бурдюка прямо в горло, шум, крик, ликованье…
Меж тем стемнело, по всему лугу запылали костры и факелы.
И тогда в полную силу прорвались страсти, сдерживаемые светом дня. Пьяницы только тем и заняты, что запрокидывают оловянные кувшины да словами поэтов бормочут о своих видениях. Мужчины тащат в кусты потаскушек, заядлые игроки в кости, не разгибаясь, трясут кошельками, которые худеют или толстеют – в зависимости от того, какой стороной поворачивается к ним фортуна, передом или задом.
Посреди ярмарочной площади горит костер, на нем – тряпичная кукла, изображающая грешницу. У нее на груди надпись: «Omnia ad maiorem Dei gloriam»[8]8
Все к вящей славе божьей (лат.).
[Закрыть] – девиз, который наш баскский земляк дои Иньиго Лопес де Рекальде, по прозванию Лойола, поставил превыше всех слов Священного писания.
Глядите, люди справа и люди слева, как поджаривается за ваши грехи тряпичное тело еретички, – теперь вам можно слегка отпустить узду. Только проклинайте погромче эту ведьму да выпейте за искупление ее души, которая пройдет через очищающее пламя.
Догорает осужденная кукла с неизменной, несмотря на пламя, ухмылкой на лице, и дело справедливости довершено.
Перед костром, на площадке, утоптанной, как ток, пляшут.
Удар по струнам, удар в бубны! И закипела в бешеном ритме неистовая пляска.
– Фламенко! Дьявольский танец…
Девушка закружилась, парит стрекозой, с топотом подскакивает к ней парень. Руки взметнулись, сверкнули глаза, полураскрылись губы в жестокой и чувственной усмешке, обнажив полоску белоснежных зубов… Быстрей, все быстрее гитары и бубны…
Белые девичьи руки рисуют зигзаги падающих молний, волнообразно колышутся бедра, туфелькой об землю топ, топ, кружатся, взлетают юбки… Уже не пляска – уже неистовство тел…
Оборвалось фламенко – обессиленные, падают на стулья плясунья и плясун.
Молодежь из деревни Дос-Эрманас собирается ехать домой.
– Эй, Мауро, запрягай! – кричит дон Валерио.
Мауро впрягает лошадь в повозку, над которой изогнулись прутяные обручи, оплетенные розами. Девушки забираются в повозку.
В эту минуту галопом выскакал всадник. Повозка стоит у него на дороге.
– Прочь! – кричит Мигель.
Дон Валерио узнал его, кланяется низко:
– Простите, сеньор граф… Мы вам дорогу загородили, сейчас уберем…
– Кто эта девушка? – спрашивает Мигель, не сводя взора с Эсперансы, с ее мясистых губ.
– Эсперанса Энрикес, ваша милость, дочь старосты Дос-Эрманас, – отвечает дон Валерио.
Мигель подъехал к повозке вплотную. Девушки испуганно жмутся друг к другу.
Повозка двинулась.
– Я вас найду! – бросил Мигель Эсперансе и повернул коня.
Его великолепие ректор Осуны щурит колючие глазки, наблюдая за Мигелем. Так вот из-за кого вызывал меня вчера его преосвященство архиепископ? Красивое создание на вид этот юноша, но есть в нем что-то непостижимое. Все время смотрит как бы сквозь меня, и в глазах его некое полыхание, и молчит он во сто раз больше, чем говорит, этак трудненько будет разобраться в нем. К тому же горд и крут нравом…
Но ему суждено стать священником – и он станет им. Должен стать.
– Что достопримечательного увидел во мне ваше великолепие? – дерзко спросил Мигель, выдержав взгляд ректора.
Тот заморгал и отвел глаза. Делая вид – как делывал он довольно часто, – будто не слыхал дерзкого вопроса, он продолжает лекцию:
– Школа философов, которую мы называем схоластической, расцветает в начале одиннадцатого столетия трудами Петра Абеляра, поставившего помысел духа, так называемый концептус, выше дела и слова. Ныне мы встречаем слово «концептус» в ином его значении – в литературе, где оно означает существенную утонченность стиля и облагороженную литературную речь. Основателем концептизма был Алонсо де Ледесма, а величайшим его приверженцем является сам великий Кеведо и, наконец, Лопе де Вега. Несколько лет тому назад прославленный сторонник этого стиля и член ордена Иисусова Балтазар Грасиан издал труд под названием «Agudeza y Arte del Ingenio»[9]9
Изощренность и искусство ума (исп.).
[Закрыть] – труд, надеюсь, известный вам, обобщивший теорию концептизма. Но вернемся к схоластике. Важно запомнить, какие способы познания различает Уго де Сан Викторио. Их три: cogitatio, meditatio, contemplatio.[10]10
Размышление, сосредоточенность, созерцание (лат.).
[Закрыть] Возлюбленный наш doctor angelicus[11]11
Святой ученый (лат.).
[Закрыть] святой Фома Аквинский сам склонялся к этому мнению,
– Однако Роджер Бэкон утверждает… – перебил его было Мигель.
– Да, – со злобной иронией оборвал его ректор, – doctor mirabilis[12]12
Великий ученый (лат.).
[Закрыть] Роджер Бэкон, член ордена святого Франциска, осмелился – подчеркиваю, осмелился! – отдать преимущество изучению природы перед схоластическим изучением, естественному познанию перед познанием, достигнутым умозрительно. Этот опрометчивый новатор-гуманист даже выдвинул девиз: «Sine experientia nihil sufficienter sciri potest».[13]13
Без опыта невозможно познание (лат.).
[Закрыть] Мне нет нужды подчеркивать, что принцип подобного рода «опыта» – греховен, и десятилетнее заключение, коему был подвергнут Бэкон, было очень мягким наказанием: по моему суждению, его следовало сжечь, как сожгли римского пантеиста Джордано Бруно.
– Следовательно, ваше великолепие отвергает какое-либо экспериментирование в философии, – учтиво заметил Паскуаль.
– Абсолютно. Нельзя расшатывать вековую мудрость и греховным образом ставить опыт выше умозрительного анализа.
– «Философия учит действовать, не говорить», – цитирует Мигель Сенеку, и Паскуаль напряженно следит за каждым его словом.
Ректор вздернул бороденку и медленно повернулся к Мигелю.
– Должен сказать вам, дон Мигель, что ваше пристрастие к римским философам я почитаю чрезмерным, а склонность вашу к греческим, где вы обнаруживаете удивительные знания и эрудицию, просто… гм… нездоровой, если не сказать вредной. Я заметил, что вы обращаетесь к этим философам в особенности тогда, когда вы в рассуждениях своих стоите на грани греховного наслажденчества. Повторяю вам – глубочайшее наслаждение есть наслаждение духовное, чувственные же и телесные радости суть мимолетны, а паче того – безнравственны.
– Эпикур считал добро тождественным наслаждению, – возразил Мигель.
– Однако и Эпикур, говоря о наслаждении, подразумевал состояние духовного блаженства. Излюбленный вами Сенека сам признавал, что тело препятствует господству души.
– Что же мне делать с телом, – вырвалось у Мигеля, – если я хочу установить господство души, а тело препятствует в том? Устранить это тело? Прибегнуть к самоубийству, чтоб достигнуть блаженства? Или мне заколоться у вас на глазах, чтобы вы могли следить полет моей души в вечность?
– Дон Мигель! – строго одергивает его ректор. – Следите за своим языком! Человек, одержимый бесовским искушением, должен умерщвлять свою плоть, отказать ей во всех чувственных радостях и во всех прочих наслаждениях, он должен явить покорность себе подобным, отречься от гордыни и отвергнуть злато.
– Но на золото я могу купить отпущение грехов, если я согрешил, – насмешливо бросил Мигель.
– Он кощунствует! Кощунствует! – закричал Паскуаль, неотступно подстерегающий удобный случай поймать Мигеля на ереси и донести на него.
– Золото – проклятие! – взгремел ректор. – Это – змеиное гнездо, где высиживаются лень, причуды, жажда наслаждений. Вспомните своего Сенеку – золото не сделает нас достойными бога! Милосердные боги – из глины. Deus nihil habet![14]14
Бог не имеет ничего (лат.).
[Закрыть]
Мигель нахмурился. Грегорио каким-то образом узнал и передал Мигелю, что архиепископ вызывал ректора и повелел ему строго бдить над душою Маньяры, ибо душу эту надо во что бы то ни стало приуготовить для духовного сана. Поэтому Мигель считает ректора главным своим противником и нападает на него открыто и дерзко.
– Не могу поверить тому, что ваше великолепие презирает золото…
– Остановитесь, Мигель! – восклицает ректор. – Там, где уважение обязательно…
– Сделаем опыт, – возбужденно продолжает Мигель. – Я положу сюда тысячу золотых дублонов. Кто из вас всех, сидящих здесь, не продаст за них незапятнанность души?
– Еретик! Еретик! – беснуется Паскуаль, а Альфонсо ест глазами кошелек Маньяры.
– Довольно! – кричит ректор, поднимаясь на носки. – Вы совершили ужасное кощунство, вы оскорбили меня и поплатитесь за это, я не допущу вас к экзаменам…
Он осекся, ибо Мигель в самом деле кладет на кафедру большой кошелек, в котором звенит золото.
В аудитории стало тихо, как в мертвецкой.
У ректора дрожат руки, нервно подергивается лицо.
– Это золото, – холодно произносит Мигель, – я приношу в дар коллегии иезуитов. Прошу, ваше великолепие, принять его.
Тишина длится, от нее теснит грудь и трудно дышать. Паскуаль стоит мрачный, впившись в ректора глазами, подобными туче в безветрии.
Ректор провел рукой по вспотевшему лбу, медленно поднял кошелек и сказал, задыхаясь:
– Принимаю ваш дар, дон Мигель, и благодарю от имени коллегии. Но вас, за ваши кощунственные и оскорбительные речи, я предложу коллегии докторов Осуны исключить из университета.
Он удалился в глубокой тишине. Студенты облегченно вздохнули.
– Сколько было в кошельке? – хрипло спрашивает Альфонсо.
– Запомните еретические речи Маньяры! – шепчет соседям Паскуаль.
– Что ты натворил! – ужасается Диего. – Теперь тебя исключат…
– Нет, – отвечает Мигель. – Ты и не знаешь, Диего, до чего я сам поражен, что ректор взял золото. Имеет ли Осуна цену хотя бы горчичного зерна, если состоит из таких характеров? Увидишь, меня не исключат. Еще один кошелек выкупит мою грешную душу, которую я не желаю избавлять от еще более грешного тела.
– Негодяй, мерзавец, дьявол! – скрипит зубами Паскуаль, и его худые плечи бессильно опускаются.
Мигель прошел мимо, даже не взглянув на него.
– Эй, приятели! – кричит Альфонсо. – Идем со мной к собору! Увидим роскошное зрелище – свадьбу!
– Чью?
– Сегодня живописец Бартоломе Эстебан Мурильо берет в жены благородную донью Беатрис де Кабрера-и-Сотомайор из Пиласа!
– Да здравствуют Мурильо и его Беатрис! – кричит Диего. – К собору! К собору!
На реке Гвадалквивире
И, наверно, в целом мире
Ты прекрасней всех…
Парни в праздничной одежде, обнявшись, раскачиваются в такт песни, притопывают. Над ними, на балконе отчего дома, в облаке воздушных кружев, словно возносится Эсперанса. Роза ветров говорит нам, что в той стороне – полночный край, и Полярная звезда стоит над головою красавицы. Ночной сторож трубит пятый час по заходе солнца, старухи давно уснули, спросонья мурлычут колыбельные внукам. Старики же, сельские патриархи, бодрствуют над оловянными чашами, и гигантские тени мечутся по деревне.
На площади пылают костры, и ароматный дым беспокоит обоняние бродячих псов. Месяц, желтенький серп, вонзился в Млечный Путь, косит белые цветы.
– Звезда упала!
– Тебе на счастье, Эсперанса!
Мужчины доблестно пьют. Вино пропиталось теплой тьмой, разогревшейся кровью. Девушки с цветами в волосах втягивают ноздрями запахи ночи, глаза парней затуманены винными парами и восхищением перед красавицей на балконе.
На реке Гвадалквивире
И, наверно, в целом мире
Ты прекрасней всех…
А ритм этой ночи – неспешный и плавный, сравним его с тихим полетом архангелов над гребнями гор, с покачиванием красных бумажных фонариков на ветвях каштана или почтовой кареты, поднимающейся в гору по травянистой дороге, или с тем, как вздымаются и опадают бока лошади, идущей шагом.
А ночь горяча, как пылающий очаг, и все, что она обнимает, утратило тяжесть земную. В двадцатый день своего рождения празднует Эсперанса помолвку с Луисом.
Праздник помолвки, начавшийся петушиными боями – где, как положено, верх одержал белый петух Луиса, – льется, как в глотки вино, и сладость его переливается в бархатную ночь.
Эсперанса при всех поцеловала своего жениха. После этого он неверными шагами спустился на площадь, к поющим товарищам.
– Вы уже опьянели, не так ли? – кричит Луис.
– Малость, самую малость, Луис!
– На здоровье! Пьете-то ведь на мой счет! В мою честь!
– В честь Эсперансы, Луис!
– Разве это не одно и то же? – хорохорится жених, пьяно шатаясь. – Я тут хозяин! Поняли? И ее хозяин!
Голоса раскачали ночь:
На реке Гвадалквивире…
Ты прекрасней всех…
Все качается – тьма, сгустившаяся за овинами, огни, бедра, стоны гитары, мечты и рука, поднимающая чашу.
Деревня отправляется на покой.
Девушки с цветами в волосах машут на прощанье Эсперансе, уходят с песней:
Молодость весельем пенится.
Ночь пройдет – все переменится!
Шепот ласковый листвы…
Засыпай…
Крадутся сны…
Парни, заплетаясь ногами, шеренгой тащатся за ними. Последними уходят старики: они – соль деревни, им завершать все, что происходит, мудростью слов своих. Запах бальзама – словно тихий, качающийся напев.
Усталость. Дремота. Деревня ложится, потухают костры, ночной сторож задул фитили в бумажных фонариках, Эсперанса гасит лампу на балконе и, устремив глаза в темноту, на ощупь расчесывает свои пышные русые волосы черепаховым гребнем.
До сих пор был плавным и медленным ритм этой ночи, но вот он внезапно меняется.
Собаки учуяли чужого, залаяли.
Тень пересекла площадь, и Мигель вошел в комнату Эсперансы, где в сиянии свечи белеет разостланная постель.
Девушка в изумленье отшатывается.
– Губы! – властно требует Мигель – он надеется утопить в насилии скорбь по Соледад, гнев на Марию. Ведь он – господин, и смеется над тобою, Грегорио! Недалекий моралист…
– Нет! – отвечает Эсперанса. – Вы ворвались силой. Без моего согласия. Что вам от меня надо, сеньор?
Мигель хмурится.
– Губы! – коротко приказывает он, и девушка в испуге отступает, но тут он схватил ее и поцеловал.
Она вырвалась, дышит учащенно.
– Как вы смеете, сеньор?! Я – не продажная девка!
– Ты мне нравишься.
– Сегодня я обручилась… Нельзя… Уходите!
Напрасны слова, напрасно сопротивление.
Колеблется племя свечи, Мигель лежит рядом с девушкой, смотрит в потолок. Эсперанса склонилась над ним.
Ускользая от этого взгляда, он поднялся с ложа, которое кажется ему сейчас гробом – так сильно в нем чувство горечи и вины.
Мигель молчит. Девушка плачет.
Мигель берет свой плащ.
– Вы уходите? Без единого слова? Это теперь-то, после всего?..
Молчание.
Девушка вспыхнула гневом:
– А, понимаю! Явился грабитель, ограбил меня и теперь торопится улепетнуть! О боже…
Плачет она, и Мигель поспешно уходит.
А деревня уже проснулась от лая собак, подстерегает.
И когда Мигель поднял вороного в галоп, град камней посыпался ему вслед.
Однажды, после ночных скитаний, Мигель возвращался с Каталиноном в город. К рассвету доскакали до Кадикских ворот. Дорога оказалась забитой солдатами, возвращающимися после долгой войны. Из Генуи в Малагу ехали морем, а там разделились – по разным дорогам, по домам!
Заросшие, дикие, дерзкие люди, чьи лица исхлестаны ветрами и ливнями, окружили Мигеля.
– Эй, молодец, что тут у вас новенького? – кричали они. – Долгонько нас не было дома! Продают ли еще в Триане мансанилью по четверть реала кувшин?
– Теперь она, ребята, подорожала – уже полреала за кувшин, зато хороша, – ответил за Мигеля Каталинон. – Сама в горло льется!
– А где взять-то столько? – зашумели оборванные воины.
– Говорят, мы проиграли войну? – спросил какой-то конный капитан.
– То-то» что проиграли, – в ответ Каталинон. – Ну и здорово – сами не знаете, побеждены вы или победили! Корона наша, господа, весит нынче на целые Нидерланды легче.
– Плевал я на Нидерланды, – возразил капитан. – Мне бы хлеба кусок, чарку вина да девку. А что там его величество задумал, на это мне начхать.
Мигель пробирается верхом сквозь толпу грязных, вонючих наемников, проходит сквозь человеческое несчастье. Годами таскались эти люди по неведомым странам, везде ненавидимые, везде проклинаемые. И все эти долгие годы текли у них сквозь пальцы кровь и вино. Совесть их, несомненно, чернее воронова крыла, и все же невинны они, как голубицы, ибо не делали сами ничего – только повиновались приказам начальников. Долгие годы бились с солдатами, у которых на шляпе, правда, были перья другого цвета, но которые тоже оставили дома матерей, жен и детишек.
Сделаться бессмертным и прославиться – так определяет Сервантес наше стремление. И вот возвращаются эти люди, не став вечными и не прославившись. Возвращаются более убогими, несчастными и более старыми, чем были, когда шли на войну, и начальник их, начальник разбитой армии, пусть посыпает теперь голову пеплом!
Все тут беда, неизвестность и шаткость. Найти самого себя в толчее мира, вписать на щит свой девиз исключительности, отыскать, понять свою миссию, назначенье свое и счастье – такое глубокое, какого доселе никто не познал! – размышляет Мигель.
Где же путь, что ведет к этой цели?
Вам, лижущим пятки у подножия алтарей, – вам никогда не выкарабкаться из болота рабской приниженности. Вам, жирным и тощим лицемерам, никогда не подняться на горы, воздвигнутые между вами и престолом господним. Вы, чьи глаза прячутся за очками, – вы отыщете тысячи извилистых троп в сумраке ваших аудиторий, но от дневного света рухнут, рассыплются в прах все ваши хитроумные построения. Вы, великие и малые маги, роющие подземные ходы, которые якобы соединят ад с небесами, вам никогда не разжечь в своих душах пламени ярче свечки, ибо мрак, в котором вы хватаете добычу, гасит всякую искру.
Где же путь, что ведет к моей цели?
Этот путь – одержимость, что не иссякает, но без устали вновь и вновь выбивается тысячью родников; это – восторг, который когда-нибудь поможет тебе найти бога – любовь. Ибо любовь есть бог, а бог есть любовь.
Любовь… Знаю ли я ее? Нет, нет, я еще не изведал, пожалуй, что это такое. Я нахожу лишь очень несовершенные отношения – и они разрушают образ, созданный мной. Как ненавижу я посредственность и мелкость!
Но все время натыкаюсь на них. Боже мой, что за тесный мир создал ты для меня? Жажда сжигает меня, иссушает мой мозг, мою кровь. Вся земля, от моря до моря, мала для безграничных моих желаний…
Мигель пробился к воротам, скачет по улицам, и внезапно приходит к нему мысль об Изабелле.
Бросился в боковые улочки, галопом влетел во двор графа Сандриса.
Изабеллу застал за молитвой. Раннее солнце косо падает на крест, перед ним – коленопреклоненная дева.
Она поднимается, идет навстречу гостю.
– Что привело вас так рано, дон Мигель?
– Захотелось увидеть вас, Изабелла.
– Верно, вы плохо спали, вы бледны, – тихо говорит она, и радостная дрожь пробирает ее: он назвал ее просто по имени.
– Я не спал вообще. Полночи провел в седле и с наступлением утра захотел вас увидеть.
– Но вы прервали мою молитву, – смягчая укоризненный тон, говорит Изабелла.
– Бог простит мне благочестия вашего ради.
– Может быть, – задумчиво соглашается она. – Мы должны верить в его милосердие.
– Я верю в вас! – вырвалось у Мигеля.
Кровь прилила к ее щекам:
– Вы кощунствуете.
– Знаю, я человек грешный, но… – Мигель не договорил.
Она легонько усмехнулась:
– Богу нужны и грешники, чтоб были святые, говорил Лойола.
Воцарилось молчание. Изабелла смущенно перебирает четки. Как близка мне ее страстная увлеченность и сосредоточенность! Она мыслит так же, как я. Чувствует так же, как я. О, я приближаюсь к любви! К Великой Любви – к Богу…
Изабелла, быть может, и впрямь мыслит, как он, ибо она произносит:
– Я сказала бы, дон Мигель, что вы любите бога слишком по-земному, слишком по-человечески. Вам ведь кажется – до бога рукой подать, правда?
– Да, Изабелла. И путь к нему – через вас.
Они сели рядом.
От этой девы исходит благоухание лилий и гвоздик. Ароматы сада и кладбища… В ней – солнце и ночной мрак. Прохлада и африканский зной. Наверное, на губах ее привкус крови…
Обморочное блуждание обманчивых призраков позади меня.
– О чем вы думаете? – спросил Мигель.
– О вас, – ответила она, прежде чем осознала свой ответ.
Мигель вскочил. Изабелла побледнела от стыда и растерянности.
Мигель стоит перед ней и с дрожью в душе понимает, что девушка его любит.
Изабелла заставляет себя принять спокойное выражение, она замыкается, как исповедальня за грехами кающегося, и холод пронзает ее, словно в лихорадке.
– Изабелла! Любовь моя!
Тогда она отбросила стыд, словно вуаль, подняла к нему загоревшееся лицо и прочитала стихи из «Silva moral» Лопе де Вега:
Любовью было все неистребимой,
Где искренность и нежность двуедины,
Где страсть и чистота в одном созвучье
Сливались на земле и воспаряли,
К гармонии небесной приближаясь.
Когда Мигель поцеловал ее, он от волнения даже не заметил, что губы ее и в самом деле имеют привкус крови.
Где ты, золотое время, когда на Гвадалквивире, неподалеку от Торре-дель-Оро, бросали якоря огромные трехмачтовые суда, чьи широкие бока раздувались, набитые золотом, награбленным конкистадорами, этими рыцарями-разбойниками, в храмах инков и ацтеков? Где поток желтого металла, что щедро тек по улицам Севильи, к вящей роскоши и богатству господ? Где ты, о славное время Карла V и Филиппа II?
Увы, за сто лет, проплывших над золотым руслом, многое изменилось. Наш король и повелитель Филипп IV сыплет золото в пасть новой войны, едва закончив предыдущую, украшает свои охоты и празднества золотом, трясет мошной так, что уже невмоготу, а нищета и голод выросли до того, что тень их накрыла всю страну.
Весь лик Испании постарел и сморщился, пока время, шатаясь от голода, добрело от тех до наших дней. Ныне у Торре-дель-Оро пристают суда с грузом красного и черного дерева и пушнины, а золота не доискаться в их раздутых утробах. Наоборот: просторные корабельные трюмы набивают теперь бедствиями и горестями людей, устремившихся за океан в бегстве с неласковой родины.
По четвергам, когда открыт севильский рынок, добровольные изгнанники тратят последние реалы, покупая жалкий скарб, с помощью которого надеются начать новую жизнь по ту сторону океана. Те же, кто решил затянуть пояс потуже, дожидаясь смерти на родине, несут на рынок все, без чего могут обойтись их убогие жилища, чтобы на вырученные гроши приобрести хоть немного оливкового масла, муки и вина.
На рынке можно купить все. От милости божией до стоптанных башмаков. Старую мебель из домов обедневших дворян, оружие, небрежно отчищенное от крови и ржавчины, коловороты, прялки, книги дозволенные и труды еретиков, ускользнувшие от бдительного ока инквизиции, посуду, клетки для птиц и цикад, гитары, четки, цветы, картины, святую воду, обезьян, поношенное платье…
Честные торговцы и ловкие мазурики теснятся на рынке, стараясь перекричать друг друга, и у городских стражников по четвергам работы по горло.
Между палаткой с поношенной одеждой и той, где продают трижды свяченую воду, стоит на мольберте картина: два мальчика, играющие с собакой. Художник коренастый человек среднего роста, с волнистыми черными, спутанными волосами, на лице которого мясистые щеки сдавили и нос и глаза – на вид простолюдин, городского сословия, – расхаживает вокруг своего творения, ища глазами покупателя в кучке зевак. Им нравятся и мальчики и собака, они обсуждают картину, смеются. Если случится пройти мимо человеку образованному, он поспешно поклонится художнику и скроется поскорее…
Время идет, покупателя все нет. Художник хлопнул в ладоши, крикнул в толпу:
– Благородные идальго, дворяне и помещики, горожане, люди богатые и склонные к искусству – кто купит эту картину, дабы украсить ею свой дом и порадовать взор свой?
Мигель остановился перед картиной.
– Нравится вам, ваша милость?
Мигель перевел глаза на художника.
А, это тот самый, с которым он недавно столкнулся в театре, когда давали Кальдерона!
– Бартоломе Эстебан Мурильо, – кланяется художник.
– Мигель де Маньяра, сеньор. Мы, кажется, уже встречались?
Мурильо внимательно вглядывается – вот вспомнил, рассмеялся сердечно:
– Ах, это были вы, ваша милость! Ну да, конечно, вы. Летели, как метеор… И уже за шпагу схватились. Я не хотел вас обидеть!
– Не будем об этом говорить, сеньор, – приветливо ответил Мигель. – Подумаем о картине… Есть у вас здесь еще что-нибудь?
Художник наклонился и вынул из-под мольберта несколько свернутых полотен поменьше.








