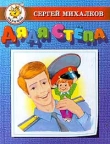Текст книги "Иов"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
XIV
С этого утра Мендл Зингер остался у Сковроннеков. Небогатую обстановку друзья продали, оставили только постельные принадлежности и мешочек из красного бархата со святыми предметами, которые Мендл едва не сжег. К мешочку Мендл больше не прикасался. Посеревший, пропыленный, висел он в задней комнате Сковроннеков на крепком гвозде. Мендл Зингер больше не молился. Правда, иногда его звали, если не хватало десятого человека, чтобы довести число молящихся до положенной цифры. Потом он стал требовать за свое присутствие плату. Иногда за небольшое вознаграждение он давал тому или иному свои молитвенные ремешки. Про него рассказывали, что он зачастил в итальянский квартал, чтобы поесть свинины и рассердить Бога. Люди, среди которых он жил, в борьбе, какую повел Мендл против небес, встали на его сторону. Хотя они были верующими, им пришлось признать правоту еврея. Иегова обошелся с ним слишком сурово.
В мире еще бушевала война. Кроме Сэма, сына Мендла, в живых оставались все жители квартала, которые отправились на фронт. Молодой Леммель стал офицером и счастливо отделался, потеряв левую руку. Он приехал на побывку и стал героем квартала. Он дал всем евреям право считать Америку родиной. Он остался на этапе, наводить окончательный лоск на свежее пополнение. Сколь ни велика была разница между молодым Леммелем и старым Зингером, евреи квартала усматривали между ними определенную близость. Казалось, будто евреи считали, что Мендл и Леммель поделили меж собой всю меру несчастья, отмеренную на всех. Мендл потерял куда больше, чем одну левую руку! Если Леммель сражался с немцами, то Мендл – с неземными силами. И хотя они были убеждены, что с головой у старого стало не совсем все в порядке, однако евреи не могли не примешивать к своему сочувствию почтения и благоговения перед святостью безумия. Мендл Зингер был, несомненно, избранный. Он жил среди других, чьи наполненные изнурительным трудом будни не омрачали никакие страхи, как достойный сожаления свидетель жестокого могущества Иеговы. Долгие годы он жил себе, как и все они, на него мало обращали внимания, некоторые его и вовсе не замечали. И вот однажды он оказался ужасным образом выделен из их среды. Теперь не осталось никого, кто бы не знал его. Большую часть дня он проводил на улице. Казалось, его проклятьем стало не только страдание от беспримерной беды, но и ношение знака страдания как знамени. И как страж своих собственных болей ходил он по середине улицы; все его приветствовали, иные наделяли мелочью, многие с ним заговаривали. За подаяния он не благодарил, приветствий почти не замечал, а на вопросы отвечал односложным «да» или «нет». Вставал он рано. В заднюю комнату Сковроннеков свет не проникал, так как окон в ней не было. Он чувствовал наступление утра через ставни, утро должно было проделать длинный путь, прежде чем прийти к Мендлу Зингеру. Зингер начинал свой день с первыми шумами на улице. На спиртовке кипятился чай. Он запивал им хлеб и сваренное вкрутую яйцо. Он бросал робкий, но злой взгляд на висящий на стене мешочек со святыми предметами, в темно-синей тени мешочек выглядел так, словно был еще более темным ее продолжением. «Ни за что не буду творить молитву!» – говорил себе Мендл. Но ему было больно оттого, что он не молился. Боль ему причиняли собственный гнев и бессилие этого гнева. Хотя Мендл и был зол на Бога, но Он еще господствовал над миром. Ненависть столь же мало могла дать ему сил, как и набожность.
В таких и подобных размышлениях Мендл начинал свой день. Раньше, вспоминал он, пробуждение его было легким, будило его радостное ожидание молитвы и удовольствие от предвкушаемого возобновления осознаваемой близости к Богу. Из благостной неги сна он вступал в еще более таинственное, еще более теплое сияние молитвы, как в великолепный и все еще привычный зал, в котором обитал всемогущий, но улыбчивый Отец. «Доброе утро, Отец», – говорил Мендл и верил, что слышит ответ. Обман это был. Зал был великолепен и холоден, Отец был всемогущ и злобен. Кроме грома, никаких иных звуков не исходило из Его уст.
Мендл Зингер раскрывал ставень, клал нотные листы, тексты песнопений, граммофонные пластинки в узкую витрину, длинной палкой поднимал железные жалюзи. Потом он набирал полный рот воды, обрызгивал пол, брал веник и сметал в одну кучку мусор, накопившийся за прошлый день. На маленькой лопатке он относил обрывки бумаги к плите, разводил огонь и сжигал их. Потом он выходил из дому, покупал несколько газет и разносил их соседям в ближайшие дома. Он встречал мальчиков – разносчиков молока и ранних пекарей, приветствовал их и снова шел «в лавку». Вскоре приходили Сковроннеки. Они посылали его купить то одно, то другое. Целый день слышалось: «Мендл, сбегай купи одну селедку», «Мендл, изюм еще не положен!», «Мендл, ты забыл о белье», «Мендл, сломалась лестница!», «В фонаре нет стекла», «Где штопор?» И Мендл бежал и покупал одну селедку, и клал изюм, и приносил белье, и чинил лестницу, и относил фонарь к стекольщику, и отыскивал штопор. Соседки просили его иногда побыть с малыми детьми, когда в кинотеатре менялась программа или когда приезжал новый театр. И Мендл сидел с чужими детьми и как некогда у себя дома легким и ласковым пальцем заставлял качаться люльку с Менухимом, так качал он теперь легким и ласковым кончиком ноги колыбели с чужими младенцами, имен которых он не знал. Качая, он припевал старую, очень старую песню: «Повторяй за мной, Менухим: „Вначале Бог создал небо и землю“, повторяй за мной, Менухим!»
Это было в месяце элуле [8]8
Элул – двенадцатый месяц еврейского календаря, приходится на август-сентябрь.
[Закрыть], и пришли большие праздники. Все евреи квартала хотели устроить временную молельню в задней комнате Сковроннеков. (Потому что в синагогу они ходили с неохотой.)
– Мендл, в твоей комнате будут молиться! – сказал Сковроннек. – Что ты на это скажешь?
– Пусть молятся, – ответил Мендл.
И он смотрел, как собирались евреи, зажигали большие желтые восковые свечи со свисающими пучками фитилей. Сам он помогал каждому коммерсанту опускать жалюзи и запирать двери. Он смотрел, как все они надевали поверх одежды белые накидки, и выглядели они как трупы, вставшие, чтобы вознести хвалу Богу. Они снимали башмаки и стояли в носках. Они падали на колени и поднимались, большие желто-золотые восковые и кипенно-белые стеариновые свечи наклонялись и капали на молитвенные одежды горячими слезами, которые в мгновение ока застывали. Белые евреи сами наклонялись, как свечи, у них тоже падали слезы – на пол – и высыхали. А Мендл Зингер стоял черный и безмолвный в своей обыденной одежде, позади всех, возле двери и не двигался. Губы его были сомкнуты, а сердце – словно камень. Пение Кол Нидре поднялось, как горячий ветер. Губы Мендла Зингера оставались сомкнутыми, а сердце – как камень. Черный и безмолвный, в повседневной своей одежде, он держался позади всех неподалеку от двери. Никто не обращал на него внимания. Евреи старались не видеть его. Среди них он был чужой. То один, то другой из них вспоминал о нем и молился за него. А Мендл Зингер стоял, выпрямившись, у двери и был зол на Бога. «Все они молятся, потому что боятся себя, – подумал он. – Я же себя не боюсь. Я себя не боюсь!»
После того как все ушли, Мендл Зингер лег на свой жесткий диван. Было еще тепло от тел молившихся. В комнате еще горело сорок свечей. Загасить их он не отваживался; они не давали ему заснуть. И так он пролежал, не засыпая, всю ночь. Он придумывал беспримерные богохульства. Он представил себе, как выходит из дому и идет в итальянский квартал, покупает в ресторане свиное мясо и возвращается, чтобы съесть его в обществе беззвучно горящих свечей. Да, он развернул свой носовой платок, да, пересчитал монеты, какие у него скопились, но он не вышел из комнаты и ничего не съел. Он лежал на диване одетый, с широко раскрытыми глазами, бодрствующий и бормотал:
– Кончено, кончено, кончено с Мендлом Зингером! У него нет сына, нет дочери, нет жены, нет денег, у него нет дома, у него нет Бога! Кончено, кончено, кончено с Мендлом Зингером!
Золотые и голубоватые языки пламени свечей слегка затрепетали. Горячие восковые слезы с глухим звуком закапали на чаши подсвечников, на желтый песок латунных ступок, на темно-зеленое стекло бутылок. В комнате еще жило горячее дыхание молящихся. На стульях, поставленных здесь для них, еще лежали их белые молитвенные одеяния и ожидали наступления утра и продолжения молитвы. Пахло воском и обуглившимися фитилями. Мендл вышел из комнаты, открыл лавку и вышел на воздух. Стояла ясная осенняя ночь. Кругом не было ни души. Мендл начал вышагивать туда и обратно перед магазином. Послышались широкие медленные шаги полицейского. И Мендл возвратился в лавку. Он все еще старался избегать встреч с людьми в униформе.
Дни праздников прошли, наступила осень, пошли затяжные дожди. Мендл покупал селедку, подметал пол, приносил белье, чинил лестницу, искал штопор, клал изюм, ходил туда и обратно по середине улицы. За подаяния он почти не благодарил, на приветствия не отвечал, на вопросы отвечал «да» или «нет». После обеда, когда собирались люди, чтобы потолковать о политике и почитать вслух газеты, Мендл ложился на диван и засыпал. Гомон не будил его. Война его никоим боком не касалась. Пластинки с самыми новыми песнями наводили на него сон. Он просыпался от наступавшей тишины, когда все уходили. После этого он недолго разговаривал со старым Сковроннеком.
– Твоя сноха выходит замуж, – сказал однажды Сковроннек.
– Совершенно верно! – отвечал Мендл.
– Но она выходит за Мака!
– Это я ей посоветовал!
– Дело идет хорошо!
– Это не мое дело.
– Мак передал нам, что хочет дать тебе денег!
– Я не хочу никаких денег!
– Спокойной ночи, Мендл!
– Спокойной ночи, Сковроннек!
Ужасными новостями запестрели газеты, которые Мендл обычно покупал каждое утро. Они появились, он против своей воли воспринимал их далекое отражение, ему не хотелось ничего знать о них. В России больше не правил царь. Хорошо, пусть царь больше не правит. Во всяком случае, об Ионе и Менухиме они, эти газеты, ничего сообщить не могли. У Сковроннека бились об заклад, что война кончится через месяц. Хорошо, пусть война заканчивается. Шемарья не возвращался. Руководство сумасшедшего дома писало, что состояние Мирьям не улучшилось. Вега принесла письмо, Сковроннек прочел его Мендлу.
– Хорошо, – сказал Мендл, – Мирьям уже не выздоровеет.
Его старый черный кафтан стал отдавать на плечах в прозелень, а вдоль всей спины, как слабый отпечаток позвоночника, стал виден шов. Мендл становился все ниже и ниже ростом. Полы его сюртука все удлинялись и удлинялись и, когда Мендл шагал, стали касаться не голенища сапог, а уже почти щиколоток. Борода, покрывавшая прежде только грудь, стала теперь доходить до последних пуговиц кафтана. Козырек кепки из черного, но позеленевшего репса обмяк, стал растягиваться и, словно тряпка, висел над глазами Мендла Зингера. В сумках Мендл Зингер носил всякую всячину: коробочки, за которыми его посылали, газеты, различный инструмент, с помощью которого он чинил поврежденные предметы у Сковроннеков, мотки шпагата разного цвета, упаковочную бумагу и хлеб.
Эти грузы еще больше сгибали спину Мендла, а так как правая сумка была обычно тяжелее левой, то она оттянула правое плечо старика. Так, скособочившись и сгорбившись, и ходил он, чахлый, с согнутыми коленями и шаркая подошвами. Новости со всего света, дни недели и праздники других людей катились мимо него, как автомобили мимо дряхлого, стоящего на отшибе дома.
Однажды настал день, когда война действительно закончилась. Квартал опустел. Все пошли посмотреть на торжества по случаю мира и на возвратившиеся полки. Многие наказали Мендлу последить за домом. Он ходил от квартиры к квартире, проверял дверные ручки и замки и возвращался к себе в лавку. Ему казалось, он слышит, как из неизмеримой дали доносится радостный гул всего света, хлопанье фейерверков и смех десятков тысяч людей. На него сошел тихий, мирный покой. Пальцы его теребили бороду, губы скривились в улыбку, а из его горла даже стало пробиваться короткими толчками тонюсенькое хихиканье.
– Мендл тоже устроит для себя праздник, – прошептал он и впервые подошел к одному из коричневых граммофонных ящиков. Он уже видел, как его заводили. – Одну пластинку, одну пластинку! – произнес он.
Сегодня до обеда сюда заходил вернувшийся домой солдат и принес с собой полдюжины пластинок с новыми песнями из Европы. Мендл вынул верхнюю, осторожно положил ее на аппарат, немного подумал, вспоминая, как действовать дальше, и наконец опустил иглу. Граммофон зашипел. Потом зазвучала песня. Был вечер, Мендл стоял в сумерках возле граммофона и слушал. Каждый день он слышал здесь песни, веселые и печальные, протяжные и быстрые, мрачные и светлые. Но никогда еще не звучало песни, подобной этой. Она лилась как маленький ручеек и мягко журчала, вырастала, как море, и рокотала. «Я слушаю сейчас весь белый свет, – подумал Мендл. – Как это возможно, что на такой небольшой пластинке оказался записан весь мир?» Когда вступила маленькая серебряная флейта, с этого момента не оставляя больше бархатных скрипок и обнимая их неотделимой узкой каймой, Мендл впервые за долгие годы заплакал. И тут песня закончилась. Он поставил ее еще раз, потом еще. Наконец он стал подпевать хриплым голосом и постукивать робкими пальцами по ящику граммофона.
Такая картина представилась глазам возвратившегося домой Сковроннека. Он остановил граммофон и сказал:
– Мендл, зажги лампу! Чего ты здесь играешь?
Мендл зажег лампу.
– Посмотри, Сковроннек, как называется песня.
– Это новые пластинки, – ответил Сковроннек. – Я купил их сегодня. Песня называется… – Сковроннек надел очки, поднес пластинку к лампе и прочел: – Песня называется «Песнь Менухима».
Мендлом вдруг овладела слабость. Он сел и уставился на сверкающую бликами пластинку в руках Сковроннека.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал Сковроннек.
– Да, – ответил Мендл.
Сковроннек еще раз повернул ручку граммофона.
– Прекрасная песня, – сказал Сковроннек, склонил голову на левое плечо и стал слушать. Постепенно лавку заполнили запоздавшие соседи. Ни один из них не произнес ни слова. Все слушали песню и качали в такт головами.
Они прослушали ее шестнадцать раз, пока не выучили наизусть.
Мендл остался в лавке один. Он тщательно запер дверь изнутри, убрал все из витрины, начал раздеваться. Каждое его движение сопровождала песня. Перед сном ему почудилось, что в голубую и серебряную мелодию начали вплетаться жалобные стоны – единственная, давно им уже не слышанная песня Менухима, его собственного Менухима.
XV
Дни становились длиннее. Утра посветлели уже настолько, что стали даже проникать через закрытые жалюзи в заднюю, лишенную окон комнату Мендла. В апреле улица просыпалась на добрый час раньше. Мендл зажег спиртовку, поставил чай, налил воды в небольшой синий умывальник, окунул лицо в тазик, вытерся кончиком полотенца, висящего на дверной ручке, открыл жалюзи, набрал полный рот воды, тщательно опрыскал комнату, рассматривая орнаменты, оставленные на пыли струйкой воды, которую он выпускал изо рта. Спиртовка зашипела; шести даже еще не пробило. Мендл подошел к двери. И тут словно сами собой открылись окна на улице. Пришла весна.
Пришла весна. Начали готовиться к Пасхе. Мендл помогал во всех домах. Он водил рубанком по доскам столов, чтобы очистить их от скверных следов еды, оставленных за целый год. Круглые, цилиндрической формы коробки, в которых слоями лежали завернутые в ярко-красную бумагу пасхальные хлебы, он расставил по белым ячейкам в витрине, а с бутылок вина из Палестины смахнул паутину, которой они покрылись, пока лежали в прохладных погребах. Он разобрал кровати соседей и по частям выносил во дворы, где теплое апрельское солнце выманивало наружу вредных насекомых и делало их легкой добычей бензина, скипидара и керосина. В листках бумаги розового и лазоревого цвета он вырезал круглые и угольные дырки, окантовывал бахромой и прикреплял кнопками к кухонным поставцам; они должны были стать искусным покрытием для посуды. В бочки и чаны он наливал до краев горячей воды, потом брал большие чугунные шары, держал их с помощью деревянных палок над огнем очага, пока они не раскалялись докрасна. Затем опускал эти шары в чаны и бочки, вода шипела, и бочки с чанами очищались, как того требовало предписание. В громадных ступах он толок мацу в муку, ссыпал ее в чистые мешки и завязывал их синими ленточками. Все это он уже делал однажды в собственном доме. Весна там наступала медленнее, чем в Америке. Мендл вспомнил о стареющем грязновато-сером снеге, скапливающемся в это время года в Цухнове по краям деревянных пешеходных настилов, о хрустальных сосульках по краям отверстий в бочках, о неожиданных тихих дождях, о далеких, откатывающихся за сосновый бор раскатах грома, ажурной изморози, появляющейся безоблачными утрами, о Менухиме, которого Мирьям упрятала в объемистую бочку, чтобы тот не путался у нее под ногами, о надежде, что наконец, наконец-то в этом году придет Мессия. Он не приходил. «Он не придет, – подумал Мендл, – нет, не придет». Пусть другие ждут его прихода. Мендл не ждал.
И все же друзьям и соседям показалось, что этой весной Мендл изменился. Они стали иногда замечать, что он вполголоса напевает песню, а то и замечали тихую улыбку в его белой бороде.
– Он впадает в детство, значит, стал стар, – сказал Грошель.
– Он все забыл, – сказал Роттенберг.
– Это радость перед смертью, – заключил Менкес.
Сковроннек, знавший его лучше других, молчал. И только однажды вечером, перед тем как лечь спать, он сказал своей жене:
– С тех пор как появились новые пластинки, наш Мендл стал другим человеком. Иногда я застаю его за тем, как он сам заводит граммофон. Что ты на это скажешь?
– Скажу на это, – нетерпеливо ответила жена Сковроннека, – что Мендл стареет и впадает в детство и скоро ни на что не будет годен. – Она уже давно была недовольна Мендлом. Чем больше он старел, тем меньше у нее было сочувствия к нему. Мало-помалу она даже забыла о том, что Мендл был когда-то зажиточным человеком, и ее участие в нем, которое подпитывалось почтением (ибо она отнюдь не была сердобольной), пропало. Она уже не называла его, как вначале, мистером Зингером, а попросту Мендлом, как вскоре стали его звать и все вокруг. И если прежде она давала ему поручения с известной сдержанностью, которая призвана была показать, что его покорность оказывает ей честь и одновременно служит упреком, то теперь она стала командовать им столь нетерпеливо, что сразу же было видно ее недовольство его повиновением. Хотя Мендл не был тугоухим, госпожа Сковроннек, разговаривая с ним, повышала голос, словно опасаясь, что он ее не поймет, и будто хотела доказать своим криком, что Мендл выполнял ее приказания не так из-за того, что она говорила ему своим обычным голосом. Ее кричание было мерой предосторожности, и это было единственным, что задевало Мендла. Ибо он, столь болезненно униженный небом, мало обращал внимания на добродушные и пустые насмешки людей и, только когда сомневались в его способности понимать, чувствовал себя оскорбленным.
– Мендл, поворачивайтесь живее, – так начиналось каждое поручение госпожи Сковроннек.
Он приводил ее в нетерпение, казался ей слишком медлительным.
– Не кричите так, – отвечал иногда Мендель, – я слышу вас.
– Да вы не торопитесь, у вас много времени!
– У меня времени меньше, чем у вас, госпожа Сковроннек, если верить, что я старше вас.
Госпожа Сковроннек, которая не сразу улавливала дополнительный оттенок в ответе и делаемое ей замечание и считала, что над ней насмехаются, тотчас обращалась к ближе всего стоящему к ней в лавке человеку:
– Ну что вы на это скажете? Он стареет! Наш Мендл стареет!
Она с удовольствием приписала бы ему и другие свойства, но довольствовалась упоминанием старости, кою считала пороком. Когда Сковроннек слышал такие речи, то говорил жене:
– Все мы стареем! Мне столько же лет, сколько и Мендлу, – да и ты не молодеешь!
– Можешь жениться на молодой, – отвечала госпожа Сковроннек.
Она была счастлива, что наконец получала удобный повод для ссоры с мужем. И Мендл, понимавший, как будут развиваться споры, и заранее знавший, что злость госпожи Сковроннек выльется в конце концов против мужа и его друга, дрожал за свою дружбу. Сегодня госпожа Сковроннек была настроена против Мендла Зингера по особому поводу.
– Представь себе, – сказала она мужу, – несколько дней назад у меня пропала сечка. Могу поклясться, что ее взял Мендл. А спрашиваешь его, так он-де ничего не знает об этом. Он стареет и становится словно малое дитя!
Мендл Зингер действительно взял сечку госпожи Сковроннек и спрятал ее. В тайне ото всех он уже давно готовил один большой план, последний в своей жизни. Однажды вечером ему показалось, что он сможет привести его в исполнение. Он сделал вид, что прикорнул на диване, пока соседи вели беседу у Сковроннека. На самом деле Мендл вовсе не спал. Закрыв глаза, он прислушивался, дожидаясь, пока уйдет последний из них. Затем он достал из-под валика дивана сечку, спрятал ее под кафтаном и прошмыгнул на объятую вечерними сумерками улицу. Фонари еще не были зажжены, но из некоторых окон уже лился желтый свет ламп. Мендл остановился напротив дома, в котором они жили с Двойрой, и стал вглядываться в окна своей прежней квартиры. Там теперь жила молодая чета Фришей, внизу они открыли обставленное по последней моде кафе-мороженое. Вот из дома вышли молодые люди. Они закрыли кафе. У них было сегодня посещение концерта. Они были экономными, можно сказать, скупыми, прилежными и любили музыку. Отец молодого Фриша дирижировал в Ковно оркестром, игравшим на свадьбах. Сегодня давал концерт филармонический оркестр, только что приехавший из Европы. Фриш уже несколько дней только и говорил об этом. И вот они шли на концерт. Мендла они не видели. Он проскользнул на ту сторону улицы, вошел в дом, опираясь о хорошо знакомые перила, поднялся наверх и вынул из кармана все ключи. Это были ключи соседей, которые дали их ему с наказом смотреть за своими квартирами, когда они шли в кино. Дверь он открыл без особого труда. Он задвинул засов, лег на пол и начал простукивать одну половицу за другой. Это заняло у него много времени. Он устал, дал себе немного передохнуть и снова принялся за дело. Наконец он прослушал пустоту как раз в том месте, где однажды стояла кровать Двойры. Мендл вычистил сор из щелей, с помощью сечки приподнял половицу на всех четырех углах и вынул ее. Он не ошибся, он нашел то, что искал. Мендл схватил усеянный узлами носовой платок, спрятал его в кафтан, положил половицу на прежнее место и бесшумно удалился. На лестничной клетке никого не было, его не видела ни одна душа. Сегодня он раньше обычного запер лавку, опустил ставень. Он зажег большую круглую висячую лампу и сел в отбрасываемый ею круг света. Он развязал на носовом платке узлы и пересчитал его содержимое. Двойра накопила шестьдесят семь долларов монетами и бумажками. Это было много, но недостаточно и разочаровало Мендла. Если добавить его собственные сбережения – подаяния и вознаграждения за работу в домах, то получалось ровно девяносто шесть долларов. Этого было мало.
– Значит, еще несколько месяцев! – прошептал Мендл. – Время у меня есть.
Да, время у него было, ему предстояло жить еще довольно долго. Перед ним лежал большой океан. Он должен был пересечь его еще раз. Все большое море ждало Мендла. Его ждут весь Цухнов и окрестности: казарма, сосновый бор, лягушки в болотах и стрекозы на полях. Если Менухим мертв, то он лежит на небольшом кладбище и ждет его. Мендл ляжет на покой там же. Сначала он зайдет на подворье к Самешкину, собак он больше бояться не будет, да покажите ему хоть волка из Цухнова, он и его не побоится. Несмотря на жуков и червей, жаб и зеленых кобылок, Мендл сможет лечь на сырую землю. Будут громко звонить колокола и напоминать ему о вопрошающем свете в безумных глазах Менухима, Мендл ответит: «Я воротился, дорогой Самешкин, пусть другие странствуют по свету, мой белый свет умер, я возвратился, чтобы уснуть здесь вечным сном!» На землю опустилась синяя ночь, мерцают звезды, квакают лягушки, стрекочут стрекозы.
Так засыпал сегодня Мендл, зажав в руке завязанный узлами носовой платок.
На другой день утром он вошел в квартиру Сковроннеков, положил на холодную плиту на кухне сечку и сказал:
– Вот, госпожа Сковроннек, ваша сечка нашлась!
Он уже было хотел быстро ретироваться, но тут начала госпожа Сковроннек:
– Нашлась! Нетрудно ей было найтись, коли вы ее спрятали! Впрочем, вчера вы крепко спали. Мы еще раз выходили на улицу и стучали к вам. Вы уже слышали? Фриш из кафе-мороженого хочет сказать вам что-то очень важное. Немедленно отправляйтесь к нему.
Мендл испугался. Значит, вчера его кто-то все же видел, может, кто-то другой обворовал квартиру, и теперь подозревают Мендла. Может, деньги припрятала вовсе не Двойра, а госпожа Фриш, и он украл их. У него задрожали колени.
– Позвольте, я сяду, – сказал он госпоже Сковроннек.
– Две минуты можете посидеть, – ответила она, – мне пора начинать готовить.
– Что это за важное дело? – спросил Мендл, заранее зная, что она ничего ему не скажет.
Она наслаждалась его любопытством и молчала. Потом она посчитала, что его уже пора отсылать.
– Я в чужие дела не вмешиваюсь! Идите к Фришу! – сказала она.
И Мендл пошел, решив к Фришу не ходить. Там его могло ожидать только что-то недоброе. Оно и без того придет нежданно-негаданно. Он выжидал. Но после обеда должны были прийти в гости внуки Сковроннека. Госпожа Сковроннек послала его за тремя порциями земляничного мороженого. Мендл нерешительно вошел в лавку. К счастью, мистера Фриша не было. Его жена сказала:
– Муж имеет вам сообщить что-то очень важное, обязательно зайдите после обеда!
Мендл сделал вид, что не слышал сказанного. Сердце у него бешено билось, словно собираясь вырваться из грудной клетки. Он обеими руками пытался унять его. Вне всякого сомнения, ему грозило что-то нехорошее. Он хотел сказать правду, Фриш ему бы поверил. А если б не поверил, то ему грозила тюрьма. Он умрет в тюрьме. Не в Цухнове.
Он никак не мог выйти из околотка вблизи кафе-мороженого, бродя взад и вперед мимо лавки. Он видел, как возвращается к себе молодой Фриш. Он хотел повременить немного, но ноги сами понесли его в лавку. Он открыл дверь, которая привела в действие резкий звонок, и не нашел в себе сил закрыть ее за собой. Сигнал тревоги звучал непрерывно, и Мендл, оглушенный его громким звуком, оказался словно пойманным, связанным этим звонком и не мог стронуться с места. Мистер Фриш сам закрыл дверь. И в наступившей тишине Мендл услышал, как мистер Фриш говорит своей жене:
– Быстро содовую с малиной мистеру Зингеру!
Как давно уже Мендла не называли «мистер Зингер»! Лишь в это мгновение он понял, что долгое время его называли «Мендлом» только для того, чтобы оскорбить его. «Это злая шутка Фриша, – подумал он. – Всему кварталу известно, что этот молодой человек скуп, он сам знает, что я не буду платить за малиновую воду. Я не буду ее пить».
– Спасибо, спасибо, – сказал Мендл, – я ничего не пью!
– Вы не станете нам отказывать, – с улыбкой проговорила женщина.
– Мне вы не откажете, – сказал молодой Фриш.
Он повел Мендла к одному из тонконогих чугунных столиков и усадил старика в широкое плетеное кресло. Сам он сел на обычный деревянный стул, подвинулся к Мендлу и начал:
– Вчера, мистер Зингер, я был, как вы знаете, на концерте.
У Мендла упало сердце. Он откинулся назад и сделал глотательное движение, чтобы не испустить дух.
– Ну, – продолжал Фриш, – я много слышал разной музыки, но такого еще не бывало! Тридцать два музыканта, понимаете, и почти все из нашей местности. И они играли еврейские мелодии, понимаете? На душе теплеет, я плакал, вся публика плакала. В конце они сыграли «Песнь Менухима», мистер Зингер, вы знаете ее по пластинке. Прекрасная песня, не правда ли?
«Чего он хочет?» – подумал Мендл.
– Да, да, прекрасная песня.
– В антракте я иду к музыкантам. У них битком народу. Все хотят протиснуться к музыкантам. То один, то другой находит среди них друга, и я тоже, мистер Зингер, я тоже.
Фриш умолк, в лавку заходили люди, звонок громко звенел.
– Я встретил, – сказал мистер Фриш, – да пейте же вы, мистер Зингер! Я встретил своего двоюродного брата, Берковича из Ковно. Сына моего дяди. И мы расцеловались. И начали рассказывать друг другу. И вдруг Беркович говорит: «Не знаешь ли ты тут одного старого человека по имени Мендл Зингер?»
Фриш снова сделал паузу. Но Мендл Зингер не шелохнулся. Он принял к сведению, что некий Беркович справляется о старом Мендле Зингере.
– Да, – продолжил Фриш, – я отвечаю ему, что знаю одного Мендла Зингера, из Цухнова. «Это он, – сказал Беркович. – Наш капельмейстер – большой композитор, еще молодой, но гений, он автор многих сочинений, которые мы играем. Его звать Алексей Косак, он тоже из Цухнова»
– Косак? – повторил Мендл. – Моя жена – урожденная Косак. Это ее родственник!
– Да, – сказал Фриш, – и, кажется, этот Косак ищет вас. Вероятно, он хочет что-то сообщить вам. А я должен узнать у вас, хотите ли вы знать об этом. Или вы сходите к нему в гостиницу, или я напишу Берковичу и сообщу ему ваш адрес.
У Мендла одновременно отлегло от сердца и стало тяжело на душе. Он выпил малиновую воду, откинулся на спинку кресла и проговорил:
– Благодарю вас, мистер Фриш. Но это не так важно. Этот Косак расскажет мне обо всех печальных вещах, о которых я и без него знаю. А кроме того – хочу сказать вам правду: я думал уже о том, как мне с вами посоветоваться. Ведь у вашего брата агентство по продаже билетов на пароходы? Я хочу возвратиться домой, в Цухнов. Он уже теперь не в России, мир изменился. Сколько стоит сейчас билет на пароход? И какие бумаги мне нужно выправлять? Узнайте все у вашего брата, но только никому об этом не говорите.
– Я спрошу у брата, – ответил Фриш. – Но у вас столько денег явно не наберется. Да и в вашем возрасте! Может, этот Косак скажет вам что-нибудь? Может, возьмет вас с собой? Он будет в Нью-Йорке очень недолго! Дать мне Берковичу ваш адрес? Ибо сами вы, насколько я вас знаю, в гостиницу не пойдете!
– Нет, – сказал Мендл, – я не пойду туда. Напишите ему, если хотите.
Он встал.
Фриш снова насильно усадил его в кресло.
– Одну минуту, – сказал он, – мистер Зингер, я взял на концерте программу. Там есть фотография этого Косака.
Он вынул из нагрудного кармана большую программу, развернул ее и поднес к глазам Мендла.