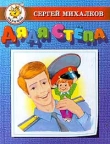Текст книги "Иов"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Мендл закрыл глаза, чтобы беда миновала его в темноте. Если бы он не боялся выдать себя, он бы закрыл и уши, чтобы ничего не слышать. Но он слышал, слышал: страшные слова, серебряный звон шпор, тихое, вкрадчивое хихиканье и густой смех мужчины. Теперь он с надеждой ожидал лая собак. Только бы они громко залаяли, пусть они лают погромче! Лучше бы из хлебов вышли убийцы и забили его насмерть. Голоса стихли. Наступила тишина. Все исчезло. Ничего и не было.
Мендл Зингер быстро поднялся, огляделся по сторонам, поднял обеими руками полы своего длинного кафтана и помчался в сторону городка. Ставни на окнах были уже закрыты, но несколько женщин все еще сидели у дверей своих домов и болтали картавыми голосами. Он замедлил шаг, чтобы не привлекать к себе внимания, и пошел большими шагами, все еще держа в руках полы кафтана. Возле своего дома он остановился. Постучал в окно. Открыла Двойра.
– Где Мирьям? – спросил Мендл.
– Она еще гуляет, – ответила Двойра, – разве ее удержишь! День и ночь гуляет. И полчаса не посидит дома. Божье наказание эти дети, где это видано…
– Потише, – перебил ее Мендл. – Когда придет Мирьям, скажи ей, что я про нее спрашивал. Я сегодня не приду домой, жди меня завтра утром. Сегодня день смерти моего деда Цалела, я буду молиться.
И он удалился, не дожидаясь ответа жены своей.
С тех пор как он вышел из молитвенного дома, прошло, должно быть, не более трех часов. Сейчас, когда он снова переступил его порог, ему показалось, будто он вернулся после многих недель отсутствия. Он нежно прикоснулся рукой к крышке своей старой подставки для молитвенника, приветствуя ее, как после долгой разлуки. Он раскрыл пюпитр и достал свою старую, тяжелую книгу в черном переплете. Руки его давно привыкли к ней, он немедленно узнал бы ее среди тысячи таких же книг. Как знакома была ему гладкая кожа переплета с благородными круглыми островками из стеарина, засохшими остатками давно сгоревших бесчисленных свечей, и нижние уголки страниц, рыхлые, пожелтевшие, засаленные, скрученные от многолетнего перелистывания влажными пальцами. Он мог мгновенно найти любую нужную ему в данный момент молитву. Все они были запечатлены в его памяти с мельчайшими деталями, присущими только им и только в этой книге, количеством строк, формой, и величиной букв, и цветом страниц.
В молельне уже смеркалось, желтоватый свет свечей на обращенной к востоку стене, рядом со шкафчиком, где хранились свитки Торы, не прогонял темноту, а как будто сам прятался в ней. В окно были видны небо и редкие звезды, а в комнате Мендл мог различить все предметы: пюпитры, стол, скамейки, обрезки бумаги на полу, светильники на стене, покрывала с золотой бахромой. Мендл Зингер зажег две свечи, прикрепил их к голому дереву пюпитра, закрыл глаза и приступил к молитве. С закрытыми глазами угадывал он, когда кончалась одна страница, и открывал механическим движением следующую. Туловище его стало постепенно ритмично раскачиваться, все его тело тоже молилось, ноги привычно шаркали по половицам, руки сжались в кулаки и, будто молот, ударяли по пюпитру, в его грудь, в книгу и воздух. На лежанке у печки спал бездомный еврей. Его вздохи сливались с монотонным пением Мендла Зингера, звучавшим как страстная молитва в жаркой пустыне, одинокая в своей близости к смерти. Свой собственный голос и дыхание спящего оглушили Мендла, прогнали все мысли и желания. Он весь отдался молитве, через него слова находили путь к небу, полым сосудом был он, рупором для молитвы. Так он молился, встречая утро.
День дохнул в окна. Свет свечей потускнел и поблек, из-за низеньких домишек уже показалось восходящее солнце. Вот оно залило красными огнями восточные окна дома. Мендл погасил свечи, спрятал книгу, открыл глаза и пошел к выходу. На улице пахло летом, высыхающим болотом и пробудившейся травой. Ставни на окнах были еще закрыты. Люди спали.
Мендл трижды постучал в дверь своего дома. Он чувствовал себя сильным и бодрым, как будто спал долго, без сновидений. Теперь он знал, что делать. Двойра открыла ему.
– Сделай мне чай, – сказал Мендл, – а потом я тебе что-то скажу. Мирьям дома?
– Ну конечно, – отвечала Двойра, – где же ей еще быть? Ты что, думаешь, что она уже в Америке?
Самовар загудел. Двойра подышала на стакан и вытерла его до блеска. Потом Мендл и Двойра, одинаково вытянув губы и громко прихлебывая, пили чай. Вдруг Мендл отставил стакан и сказал:
– Мы едем в Америку. Менухим пусть останется здесь. Мирьям мы возьмем с собой. Несчастье посетит наш дом, если мы останемся. – Он немного помолчал и тихо добавил: – Она гуляет с казаком.
Стакан со звоном выпал из рук Двойры. Мирьям проснулась в своем углу, и Менухим беспокойно заворочался. Потом все стихло. В небе над домом запели тысячи жаворонков.
Яркий луч солнца ударил в окно, упал на натертый до блеска самовар и, как в зеркале, отразился на его круглых боках. Так начался день.
VII
В Дубно ездят на подводе Самешкина; в Москву ездят по железной дороге; в Америку ездят не только на пароходе, но еще и с документами. Чтобы их получить, надо попасть в Дубно.
Поэтому Двойра отправляется к Самешкину. Самешкин уже не сидит на скамейке у печки, Самешкина вообще нет дома. Был четверг и, значит, свиной базар, Самешкин мог вернуться лишь через час. Двойра ходит перед домиком Самешкина взад и вперед, взад и вперед ходит она и думает только об Америке.
Один доллар это больше, чем два рубля, один рубль это сто копеек, в двух рублях двести копеек, Боже ж мой, сколько же копеек в одном долларе? Сколько долларов, Бог даст, пришлет Шемарья еще? Благословенная страна эта Америка.
Мирьям гуляет с казаком, в России это можно, но в Америке нет казаков. Россия – страна печали, Америка – страна свободы, страна радости. Мендл больше не будет учителем, отцом богатого сына будет он.
Проходит не час и не два, только через три часа слышит Двойра стук подбитых гвоздями сапог Самешкина.
Уже вечер, но все еще стоит жара. Косые лучи солнца уже пожелтели, но оно еще не собирается уступить место ночи, очень медленно заходит сегодня солнце. Двойра потеет от жары, волнения и тысячи непривычных мыслей.
Но тут приходит Самешкин, и ей становится еще жарче. На нем тяжелая медвежья шапка, лохматая и кое-где потертая, поверх грязных холщовых штанов, заправленных в грубые сапоги, короткий полушубок. Однако он не потеет.
В ту минуту, когда Двойра увидела его, она почувствовала и его запах, а пахнет он самогоном. Придется ей с ним помучиться. Уговорить нетрезвого Самешкина это вам уже не шуточки.
По понедельникам в Дубно бывает свиной базар. Плохо, что Самешкин уже закончил там свои дела и ехать в Дубно ему теперь незачем, а подвода все-таки денег стоит.
Двойра подходит совсем близко к Самешкину и преграждает ему путь. Тот покачивается, только тяжелые его сапоги удерживают его на ногах. Счастье еще, что он не босой, думает Двойра с некоторым презрением.
Самешкин не узнает женщину, преградившую ему путь.
– К черту баб! – орет он и делает движение рукой, пытаясь не то уцепиться за нее, не то ударить.
– Это ж я! – храбро произносит Двойра. – В понедельник мы едем в Дубно!
– Бог в помощь! – кричит в ответ Самешкин. Он останавливается и опирается локтем о плечо Двойры. Она не шевелится, боясь, что он упадет.
Самешкин весит добрых семьдесят кило, и все эти семьдесят кило в его локте, а локоть этот на плече Двойры.
Еще никогда чужой мужчина не подходил к ней так близко. Ей страшно, но тут она вспоминает Мирьям и ее казака и думает о том, что она уже состарилась и что Мендл уже давно к ней не прикасался.
– Да, мой цыпленочек, – продолжает Самешкин, – в понедельник мы поедем в Дубно, а по дороге побалуемся.
– Тьфу на тебя, – говорит Двойра, – вот я пожалуюсь твоей жене, ты, может быть, пьян?
– Он не пьян, – отвечал Самешкин, – он только выпил. А зачем тебе в Дубно, если ты не хочешь спать с Самешкиным?
– Выправить документы, мы едем в Америку.
– Подвода будет стоить пятьдесят копеек, если ты не согласна, и тридцать, если ты с ним переспишь. Он сделает тебе ребеночка, и ты родишь его в Америке, подарочек от Самешкина.
Несмотря на жару, Двойру начинает бить дрожь.
И все же, немного помедлив, она говорит:
– Я не буду с тобой спать, но я плачу тебе тридцать пять копеек.
Самешкин внезапно выпрямляется и снимает свой локоть с плеча Двойры. Похоже, что он вдруг протрезвел.
– Тридцать пять копеек, – твердым голосом говорит он.
– В понедельник, в пять утра.
– В понедельник, в пять утра.
Самешкин заворачивает в свой двор, и Двойра медленно идет домой.
Солнце село. С запада налетает ветер, на горизонте собираются лиловые тучи, завтра будет дождь. Двойра думает: завтра будет дождь. Она вдруг ощущает боль в колене и приветствует ее как старого, привычного недруга. Старею, думает она. Женщины стареют быстрей, чем мужчины, Самешкину, например, столько же, сколько и ей, а то и того больше. Мирьям молода, она гуляет с казаком.
От слова «казак», которое она произнесла вслух, Двойре становится страшно. Как будто только теперь она осознала весь ужас этого проступка.
Дома она увидела дочь свою Мирьям и мужа своего Мендла. Они сидели за столом, отец и дочь, и молчали так упорно, что Двойра уже с порога поняла, как долго длится это молчание, уже привычное, устоявшееся.
– Я поговорила с Самешкиным, – прервала молчание Двойра. – В понедельник в пять утра я еду в Дубно насчет документов. Он хочет тридцать пять копеек.
А так как в ней сидит демон тщеславия, она добавляет:
– Так дешево он берет только с меня!
– Ты не можешь ехать одна, – возразил Мендл, в голосе его усталость, в сердце – страх. – Я поговорил с евреями, которые в этом кое-что понимают. Они говорят, я сам должен идти к уряднику.
– Ты – к уряднику?
Было и вправду нелегко представить себе Мендла Зингера в присутственном месте. Никогда в жизни он не говорил с урядником. Он начинал трястись, едва завидев полицейского. Он обходил за три версты людей в форме, лошадей и собак. И Мендл будет говорить с урядником?
– Мендл, оставь в покое вещи, в которых ты ничего не смыслишь и можешь только испортить, – сказала Двойра. – Я все устрою сама.
– Но все евреи, – возразил Мендл, – сказали мне, что я сам должен туда явиться.
– Ну тогда мы едем в понедельник вместе!
– А куда мы денем Менухима?
– Мирьям останется с ним!
Мендл взглянул на жену свою. Он попытался поймать ее взгляд, но она боязливо прикрыла глаза веками. Мирьям, разглядывавшая из своего угла стол, уловила взгляд отца, и сердце ее забилось сильнее. В понедельник у нее было назначено свидание. Свидание было у нее в понедельник. Каждый день в эту жаркую пору позднего лета у нее было свидание. Ее любовь расцвела поздно, среди спелых колосьев, и Мирьям старалась не думать о жатве. Она уже видела, что крестьяне готовятся к ней и точат на синих брусках свои серпы. Куда она пойдет, когда поля опустеют? Нужно ехать в Америку. Неясная мысль о свободе любви в Америке, среди высоких домов, которые могли спрятать еще лучше, чем колосья в поле, утешила ее, заставив забыть о приближении жатвы. Она уже наступила. Мирьям не могла терять время. Она любила Степана. Он останется здесь. Она любила мужчин, всех мужчин. Они налетали как ураган, их сильные руки были нежны и зажигали огонь в сердце. Мужчин звали Степан, Иван или Всеволод. В Америке мужчин было еще больше.
– Я не останусь одна дома, – сказала Мирьям, – я боюсь!
– Нет, – послышался голос Мендла, – ей нужно поставить в доме казака. Чтобы он ее охранял.
Мирьям покраснела. Ей казалось, что отец заметил это, хотя она стояла в углу, где тень. Ее покрасневшие щеки наверняка светились в темноте, лицо Мирьям пылало, как красная лампа. Она прикрыла его руками и разрыдалась.
– Иди во двор! – сказала Двойра. – Уже поздно, надо закрыть ставни!
Мирьям выбралась наружу, все еще прижав руки к лицу. Она немного постояла во дворе. На небе светились звезды, такие близкие и живые, точно они только и дожидались, когда Мирьям выйдет. Их сильное золотое сияние было частью великолепного, большого, свободного мира, это были маленькие зеркальца, в которых отражалось великолепие Америки.
Она подошла к окну, заглянула внутрь, пытаясь понять по выражению лиц родителей, что они говорят. Но ничего не разобрала. Она откинула железные крючки, придерживавшие раскрытые ставни, и захлопнула обе створки, как закрывают дверцы шкафа. Это напомнило ей гроб. Она похоронила своих родителей в их маленьком домишке. Ей не было их жаль. Мендл и Двойра были похоронены. Мир лежал перед ней, большой и живой. Там жили Степан, Иван и Всеволод. Там, по ту сторону океана, была Америка с ее высокими домами и с миллионами мужчин.
Когда она вернулась в дом, Мендл Зингер, отец ее, сказал:
– Даже ставни она не может закрыть, полчаса надо ей на это!
Он крякнул, поднялся и подошел к стене, где висела маленькая керосиновая лампа, темно-синяя, покрытая копотью, прикрепленная ржавой проволокой к овальному, покрытому трещинами зеркалу, в обязанности которого входило усиливать скудный свет лампы, к тому же бесплатно. Верхний край цилиндра возвышался над головой Мендла. Напрасно пытался он задуть лампу. Он встал на цыпочки и дунул раз, другой, но фитиль запылал только еще ярче.
Тем временем Двойра зажгла небольшую желтоватую свечу и поставила ее на сложенную из кирпича плиту. Мендл Зингер, кряхтя, взобрался на кресло и задул наконец лампу. Мирьям улеглась в своем углу рядом с Менухимом. Она хотела раздеться, только когда станет совсем темно. Затаив дыхание, плотно закрыв глаза, она ждала, пока отец закончит бормотать молитву. Сквозь круглую дырочку в ставне было видно сине-золотое сияние ночи. Она разделась и потрогала свои груди. Груди болели. Ее кожа жила своей жизнью, каждый ее кусочек хранил воспоминание о твердых, больших и горячих руках мужчин. Ее обоняние тоже имело свою память, оно с мучительной верностью удерживало в себе запах мужского пота, самогона и юфти. Она слышала храп родителей и тяжелое дыхание Менухима. И вот Мирьям, в ночной рубашке, босая, с перекинутыми на грудь тяжелыми косами, концы которых касались ее колен, поднялась, отодвинула засов и вышла в ночь. Ей показалось, что вся ночь вошла в нее, все золотые звезды вобрали в себя ее дыхание, но еще больше их сияло в небе. Квакали лягушки, трещали кузнечики, небо на северо-востоке окаймляла широкая серебряная полоса, в которой, казалось, уже зарождалось утро. Мирьям вспомнила пшеничное поле, свое брачное ложе. Она обошла вокруг дома. Там, вдалеке, виднелись высокие белые стены казармы. Несколько тусклых огоньков доносили свой свет до Мирьям. Там, в большом помещении, спали Степан, Иван, и Всеволод, и еще много других мужчин.
Следующий день была пятница. Надо было все приготовить к субботе: клецки, щуку и куриный бульон. Печь принялись топить уже в шесть часов утра. Когда широкая серебряная полоса стала розовой, Мирьям проскользнула в комнату. Она так и не заснула. Через дырочку в ставке она увидела, как загорелись первые лучи солнца. Отец и мать уже заворочались во сне. Наступило утро. Прошла суббота. Воскресенье Мирьям провела на пшеничном поле, со Степаном. Потом они пошли дальше за поле, в соседнюю деревню, там Мирьям пила водку. Целый день искали ее домашние. Пусть ищут! Жизнь была так полна, а лето так коротко, скоро будет жатва. В лесу она снова спала со Степаном. Завтра, в понедельник, отец поедет в Дубно выправлять документы.
В пять часов поднялся в понедельник Мендл Зингер. Он выпил чаю, помолился, потом быстро снял молитвенные ремешки [2]2
Коробочки со вложенными в них стихами Пятикнижия (филактерии) во время молитвы укрепляют ремешками на лбу и в левом предплечье.
[Закрыть]и пошел к Самешкину.
– Доброе утро! – еще издалека поздоровался он. Мендлу Зингеру показалось, что уже сейчас, до того, как он сел на подводу, начинаются официальные действия, а потому с Самешкиным следует вести себя, как с урядником.
– Я хочу ехать с твоей женой! – отвечал Самешкин. – Для своих лет она еще очень недурна, и грудь у нее большая.
– Поехали, – сказал Мендл.
Лошади заржали и взмахнули хвостами.
– Но! Пошли! – закричал Самешкин и щелкнул кнутом.
В одиннадцать часов пополудни приехали они в Дубно.
Мендлу велели подождать. Он прошел, держа шапку в руках, через большие ворота. Там стоял швейцар с саблей.
– Куда ты хочешь? – спросил он.
– Я хочу в Америку, куда мне идти?
– Как тебя зовут?
– Мендл Мехелович Зингер.
– Для чего ты едешь в Америку?
– Заработать денег, живу я плохо.
– Тогда иди в номер восемьдесят четыре, – сказал швейцар. – Там уже многие дожидаются.
Они сидели в большом сводчатом коридоре, выкрашенном ярко-желтой краской. Люди в синих мундирах стояли на страже у дверей. Вдоль стен тянулись коричневые скамьи, все они были заняты. Но как только входил новый посетитель, синие люди делали движение рукой, и сидевшие сдвигались плотнее, давая место новенькому. Здесь курили, плевались, лузгали тыквенные семечки и спали, похрапывая. День здесь не чувствовался. Сквозь матовое стекло расположенного далеко наверху окна можно было уловить лишь бледное отражение дня. Где-то тикали часы, но они шли как бы вне времени, в этих высоких коридорах время стояло. Иногда человек в синем мундире выкликал чье-то имя. Спящие тут же просыпались. Вызванный вставал, одергивал свое платье, пошатываясь, шел к высоким двустворчатым дверям и исчезал за одной из них, у которой вместо ручки была круглая белая нашлепка. Мендл стал думать, что ему надо сделать с этой нашлепкой, чтобы открыть дверь. Он встал. От долгого и неудобного сидения все тело затекло. Но едва только он поднялся, как человек в синем поспешил к нему.
– Сидай! – громко сказал синий человек. – Сядь!
Однако не оказалось уже места для Мендла Зингера на его скамье. Тогда он встал возле скамьи, прижался к стене, желая исчезнуть, стать таким же плоским, как она.
– Ты в номер восемьдесят четыре? – спросил синий человек.
– Да, – сказал Мендл. Он уже было решил, что его собираются сейчас же выбросить вон. Придется Двойре еще раз ехать сюда. Пятьдесят копеек да пятьдесят копеек будет рубль. Но синий человек не собирался выгонять Мендла из этого дома. Для него главное было, чтобы все посетители сидели на своих местах и он мог наблюдать за ними. Тот, кто встал, мог, чего доброго, и бомбу бросить.
Анархисты иногда и замаскироваться могут, подумал швейцар. Он знаком подозвал Мендла к себе, ощупал его и спросил, где его бумаги. Но так как все было в порядке, а место Мендла уже кто-то занял, человек в синем сказал:
– Эй, послушай! Видишь ту стеклянную дверь? Открой ее, номер восемьдесят четыре там.
– Что тебе тут надо? – закричал широкоплечий человек, сидевший за столом. Чиновник этот сидел прямо под портретом царя. Весь он состоял из усов, лысины, эполет и пуговиц. За своим огромным чернильным прибором из мрамора он был похож на раскрашенный бюст.
– Кто позволил тебе входить без доклада? Почему ты не представляешься? – загремел голос из-за чернильницы. Мендл Зингер низко поклонился бюсту. К такому приему он не был готов. Он согнулся, пропуская громы над своей головой. Ему хотелось стать совсем крошечным, сровняться с землей, будто в чистом поле во время грозы. Полы его длинного кафтана распахнулись, и чиновник увидел вытертые штаны Мендла Зингера и изношенные голенища его сапог. Это зрелище смягчило чиновника.
– Подойди ближе! – приказал он, и Мендл двинулся вперед вытянув шею, точно он собирался боднуть стол. Только увидав, что он стоит у края ковра, Мендл слегка приподнял голову. Чиновник улыбнулся. – Давай сюда бумаги! – сказал он.
Потом все стихло. Слышно было лишь тиканье часов. Сквозь жалюзи пробивался золотистый послеполуденный свет. Шелестели бумаги. Время от времени чиновник задумывался, глядя перед собой, и вдруг ловким движением хватал зазевавшуюся муху. Подержав ее немного в своем огромном кулаке, он осторожно разжал пальцы, оторвал ей сначала одно крылышко, потом другое, поглядел, как искалеченное насекомое ползет по столу, и вдруг сказал:
– Прошение, где прошение?
– Я писать не умею, ваше высокоблагородие! – оправдывался Мендл.
– Ах ты дурень! Я и сам знаю, что ты не умеешь писать! Я не спрашиваю, где твое свидетельство об окончании школы, мне нужно прошение. А для чего же мы держим тут писаря? А? На первом этаже, в третьем номере, а? Для чего государство содержит писаря? Да для тебя, осел ты эдакий, потому что ты писать не умеешь. Иди-ка ты в комнату номер три, напиши прошение. Скажи, что я тебя послал. Чтобы тебя там не заставляли ждать, а немедленно приняли. Потом придешь ко мне опять. Но только завтра! А завтра после обеда можешь, пожалуй, и домой возвращаться!
Еще раз поклонился Мендл. Он попятился к двери, не осмеливаясь повернуться к чиновнику спиной. Бесконечно долгим показался ему путь от стола к двери. Ему почудилось, что он идет так уже целый час. Наконец он приблизился к двери. Тут он быстро повернулся, схватился за шишечку, повернул ее налево, потом направо, потом еще раз поклонился. И вот он снова в коридоре.
В номере третьем сидел чиновник обычный, без эполет. Это была низенькая, душная комнатенка, множество людей толпилось у стола, где сидел чиновник и писал себе да писал, нетерпеливо стукая пером о донышко чернильницы. Писал он быстро, да все никак не мог остановиться. Приходили все новые и новые люди. И все-таки он заметил Мендла.
– Ваше высокоблагородие, меня прислал господин из номера восемьдесят четыре, – сказал Мендл.
– Подойди поближе! – приказал писарь.
Мендла Зингера пропустили вперед.
– Давай рубль за печать! – сказал писарь.
Мендл вытащил из своего синего носового платка рубль. Это был твердый, блестящий, новенький рубль. Но писарь не взял монету, он ждал, что ему дадут еще хотя бы пятьдесят копеек прибавки. Но Мендл не понял этого простого желания писаря.
Тут чиновник рассвирепел.
– Разве это бумаги? – закричал он. – Это ж труха! Они разваливаются прямо в руках.
И он, как бы ненарочно, разорвал один из документов. Тот распался на две части, а писарь схватился за гуммиарабик, чтобы склеить бумагу.
Мендл Зингер задрожал.
Гуммиарабик совсем высох, и писарь плюнул в пузырек и подышал на него. Но это не помогло. Тут ему что-то пришло в голову. По нему было видно, что ему что-то пришло в голову. Он открыл ящик стола, положил туда бумаги Мендла Зингера, закрыл ящик, вырвал из блокнота небольшой клочок зеленой бумаги, приложил к нему печать, подал Мендлу и сказал:
– Знаешь что? Приходи лучше завтра утром, в девять! Тут никого не будет. Мы с тобой спокойно покалякаем. А твои бумаги останутся здесь, у меня. Завтра заберешь их. Покажешь этот листок!
Мендл вышел на улицу. Там ждал Самешкин. Он сидел на камне, рядом со своими лошадьми. Солнце зашло, наступил вечер.
– Мы поедем завтра. Утром в девять часов мне велели прийти сюда снова, – сказал Мендл.
И пошел искать молитвенный дом, чтобы было где переночевать. Он купил хлеб, две луковицы, сунул их в карман, остановил по дороге какого-то еврея и спросил его, где находится молитвенный дом.
– Иди за мной, – сказал еврей.
По дороге Мендл поведал свою историю.
– У нас в молитвенном доме, – заметил еврей, – есть один человек, так он тебе может помочь в этом деле. Он уже многих отправил в Америку. Каптурака знаешь?
– Каптурака? Конечно, знаю! Это он переправил моего сына!
– А, старый клиент! – сказал Каптурак. В конце лета он сидел в Дубно и собирал клиентов, приходивших в молитвенные дома. – В тот раз ко мне приходила твоя жена. Твоего сына я помню. Как ему там живется, хорошо? У Каптурака рука счастливая.
Оказалось, что Каптурак может все уладить сам. Пока надо было заплатить по десять рублей с человека, задаток десять рублей. Десять рублей Мендл дать не мог. Но Каптурак тут же нашел выход. Он велел дать ему адрес молодого Зингера. Через четыре недели, сказал он, мы получим ответ и деньги, если сын действительно хочет, чтобы родители к нему приехали.
– Дай сюда свою зеленую бумажку, письмо из Америки и положись на меня! – продолжал Каптурак. Стоявшие вокруг евреи закивали головами. – Поезжай домой сегодня же. Через пару дней я загляну к вам. Положись на Каптурака!
Стоявшие тут же евреи повторили:
– Можешь положиться на Каптурака, он не подведет!
– Какое счастье, – сказал Мендл, – что я вас встретил!
Все пожали ему руку и пожелали счастливого возвращения. Он пошел назад на базарную площадь, где его ждал Самешкин. Самешкин как раз собирался ложиться спать.
– С евреями ладиться только черту впору! – сказал он. – Так мы все-таки едем домой!
И они поехали.
Самешкин привязал поводья к запястью, собираясь немного вздремнуть. Пока он дремал, лошади перепугались, увидев тень от огородного пугала, которое какой-то проказник вытащил с поля и поставил на краю дороги, и пустились вскачь. Подвода, казалось, летела не касаясь земли. Вот сейчас, подумал Мендл, она вспорхнет и улетит. Сердце его тоже пустилось в галоп. Ему почудилось, что оно сейчас выскочит из его груди и умчится вдаль. Самешкин вдруг громко выругался. Передние копыта лошадей еще касались дороги, но подвода уже летела в канаву, Самешкин упал на Мендла Зингера.
Они выбрались из канавы. Оглобля была сломана, одно колесо отскочило, в другом не хватало двух спиц. Придется провести ночь здесь, решили они, утром будет видно.
– Вот так начинается твое путешествие в Америку, – сказал Самешкин. – И что вы все ездите по свету! Черт носит вас с места на место. Вот мы, к примеру, живем, где родились, только если война начнется, так уж тогда поедем в Японию!
Мендл Зингер не ответил. Он сидел на обочине рядом с Самешкиным. В первый раз за свою жизнь сидел Мендл Зингер на голой земле рядом с крестьянином, и случилось это глухой ночью. Он смотрел на небо и звезды и думал: там, за ними, сам Бог. Все это Господь создал за семь дней, но если еврею вздумается поехать в Америку, так на это уйдут годы!
– Видишь, как красиво? – спросил Самешкин. – Скоро начнется жатва. Нынче год хороший. И если все пойдет так хорошо, как я думаю, осенью я куплю себе еще одну лошадку. Что-нибудь слышно о твоем сыне Ионе? Вот он в лошадях разбирается. Он-то не такой, как ты. Может, тебя твоя баба обманула?
– Все может быть, – ответил Мендл.
Он вдруг почувствовал какую-то легкость, все стало доступно для понимания, ночь освободила его от предрассудков. Он теснее прижался к Самешкину, точно тот был ему братом.
– Все может быть, – повторил он, – никчемный народ эти бабы.
Неожиданно Мендл всхлипнул. И заплакал Мендл, сидя глухой темной ночью рядом с Самешкиным.
Крестьянин прижал ладони к глазам, ему казалось, что он сам сейчас заплачет.
Немного погодя он положил руку на худые плечи Мендла и тихо сказал:
– Спи, еврей, тебе нужно выспаться! – И он еще долго сидел так, а Мендл Зингер спал, похрапывая во сне. Лягушки не умолкали до утра.