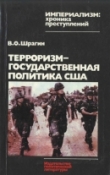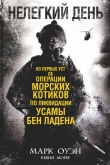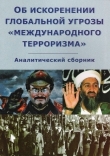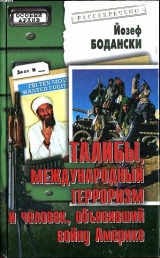
Текст книги "Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну Америке"
Автор книги: Йозеф Бодански
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Эти арабы могли быть оперативной группой, взорвавшей бомбу. А загадочный «Судзуки Самурай», который позже был обнаружен полицией, может пролить свет на местонахождение второго водителя– «крутильщика», в обязанности которого входило откручивать и закручивать кран водовоза. Во время взрыва он должен был находиться в водовозе, однако его останки не были обнаружены, а его семья упорно отказывается помогать расследованию – в частности, осмотреть найденные на месте взрыва одежду и обувь. Возможно, второй водитель, после того как поместил в водовоз немного взрывчатки в качестве ложного следа, в последнюю минуту скрылся на загадочном «Самурае».
Остальные участники обеих операций – во главе с Одехом и Фадхилом – накануне взрыва покинули свои посты: в аэропорту Найроби Фадхил, Одех и другие оперативники сели на рейс до Карачи. (Одех позже скажет, что он отправился в аэропорт вскоре после взрыва, пока весь Найроби пребывал в шоке.) В аэропорту, как вспоминал Одех, он, к своему удивлению, обнаружил, что в операции участвовали незнакомые ему террористы. У всех у них были поддельные паспорта и проездные документы. Никто не ожидал по прибытии в Пакистан никаких проблем. Однако по прибытии в Карачи Одех, летевший под своим конспиративным именем Мухаммад Садик Ховайда, был задержан сотрудниками аэропорта. Другие же шесть террористов, с такими же поддельными паспортами, благополучно прошли досмотр. Разъяренный Одех заявил служащим, что он – террорист, возвращающийся в свое убежище в Афганистане. Затем он попытался подкупить их. Но Одех был слишком уж заметной личностью – он был известен ЦРУ, которое специально попросило МВР о его аресте. У Исламабада не было выбора: отказать в просьбе Вашингтону значило бы признаться в поддержке терроризма, что повлекло бы за собой суровые санкции.
Согласно утверждениям пакистанских официальных лиц, последующие три дня Одех «встречался с экспертами МВР, давно занимавшимися афганскими и арабскими моджахедами». Показательно, что употреблено слово «встречался», а не «допрашивался». Исламабад официально признал, что Одех «спокойно и гордо заявил, что он обеспечивал техническую, инженерную и материальную поддержку взрыва грузовика 7 августа в Найроби». Нет никаких доказательств, что Одех рассказывал что-либо пакистанцам. «Признания», которые позже пакистанская госбезопасность предоставила Соединенным Штатам и которые просочились в американские средства массовой информации, – это лишь отчеты МВР о показаниях Одеха. Материал представляет собой смесь правды и своекорыстной дезинформации – например, обвинения бин Ладена в убийстве его наставника Аззама в 1989 году.
После выдачи его в Найроби Одех отказался подтверждать сведения пакистанцев и не признался американским следователям в причастности к взрыву. Американским официальным лицам так и не удалось самостоятельно подтвердить факты, приписываемые Одеху в пакистанском отчете о допросе. В Нью-Йорке Одех сказал своему первому адвокату, что пакистанцы добились от него показаний, лишив его пищи, воды и сна на три дня. Это может быть отговоркой, хотя методы допросов МВР известны своей «эффективностью». Но, похоже, в словах Одеха есть доля истины – а именно, он заявил своему адвокату, что один из следователей «сжалился над ним». «Этот парень сказал ему: мы собираемся использовать тебя – то есть твои признания, – чтобы избежать ядерных санкций со стороны американцев», – процитировал адвокат слова Одеха. Отправляясь в Найроби, Одех – жертва запутанной политики Исламабада – знал, что он уже не вернется.
ГЛАВА 9
ОСМЕЯТЬ ВРАГА
Для международного исламистского движения, в особенности для его высших руководителей, 1998 год стал поворотным моментом. Связанные растущим присутствием Запада и всепроникающей европеизацией, которая стала возможной благодаря спутниковому телевидению и Интернету, исламисты все же крепли, проведя несколько эффектных ударов и активно планируя провести еще несколько. Весной и летом 1998 года исламисты готовили ряд операций – от Кубка мира до Восточной Африки. Пакистанцы разворачивали военные действия, получив полномочия в Кашмире. Более того, исламисты обдумывали новые подходы к конфронтации консервативного режима на Аравийском полуострове. Эти активные действия были подтверждены массой выпущенных в течение года деклараций религиозного и идеологического характера. Подобные документы позволяли осмыслить эту разностороннюю деятельность в свете доминирующего направления, подчинившего себе мусульманский мир.
К середине марта 1998 года иракский кризис закончился. Тогда же бин Ладен и его соратники послали письмо с угрозами в посольство США в Исламабаде. Хотя письмо это и не имело особого религиозного значения, оно должно было знаменовать собой конец Февральского кризиса и возвращение исламистов к конфронтации с Соединенными Штатами и Западом в основном пункте конфликта – присутствия Запада в мусульманском мире.
Тегеран также представил новую сущность Среднего Востока и мусульманского мира в целом. В апреле 1998 года аятолла Хомейни поручил Наджафабади, министру разведки, и Мухсину Рафику Дусту, председателю Фонда угнетенных – главного инструмента секретного финансирования Ирана, – подготовку кампании международного терроризма, которая, в соответствии с новыми требованиями исламистского возрождения, могла бы с большим успехом противостоять США и Израилю, нежели другой исламский режим. Когда работа близилась к концу, Наджафабади созвал секретную встречу в здании разведки и безопасности в Дарадж. Среди присутствующих официальных лиц было несколько иранских офицеров разведки высшего ранга. Они обсудили дальнейшее развитие и новые методы в установлении новой, более обширной, террористическо-разведывательной инфрастуктуры. Для лучшего изучения вопроса всем организациям Ирана – исламистским центрам, посольствам Ирана, учебно-информационным центрам, торговым и туристическим корпорациям, а также культурным центрам при офисах иранских атташе – Наджафабади поручил вести наблюдения за ситуацией, выжидая наиболее подходящей для возобновления террористических действий. От них также требовалось быть готовыми к возможному использованию их в качестве прикрытия для какой-либо секретной операции.
Нота бин Ладена и совещание иранских разведчиков совпали со временем глубоких перемен в расстановке сил на Среднем Востоке, а именно возобновлением саудовско-иранских отношений. Эр-Рияд в конце концов, присоединился к политике конфронтации. Совокупность всеохватных действий в регионе, в частности, растущая военная мощь Ирана, исламистский радикализм и воинственность во всех арабских странах, политика администрации Клинтона в отношении Ирана и исламистского движения, – все это убедило династию аль-Саудов пересмотреть свои региональные позиции. После кризиса 1998 года Эр-Рияд не мог более пренебрегать движением в исламских кругах, и Дом аль-Сауда, учитывая еще и кризис престолонаследия, решил снизить угрозу, встретившись с истинным хозяином – Тегераном.
Поворотным моментом в этом процессе стал десятидневный визит в Эр-Рияд, в марте 1998 года, бывшего президента Ирана аятоллы Али Хашеми Рафсанджани, в настоящее время – председателя Экспедиционного Совета Ирана. Было официально объявлено об открытии новой эры в саудовско-иранских отношениях, основанной на общих позициях в региональной экономической политике, то есть цен на нефть. Движущей силой саудовской стороны являлся наследный принц Абдулла бин Абдул Азиз, целью которого было совместить необходимое Эр-Рияду присутствие войск США для защиты от стратегических устремлений Ирана и угрозы резкого распространения местной исламистской оппозиции. Сила последней и поддержка ее населением основывались на распространенной среди обывателей неприязни к американскому присутствию. Чтобы разрешить эти противоречивые тенденции Эр-Рияд должен был снизить зависимость от присутствия войск США и пойти на улучшение отношений с Ираном, что способствовало бы стабилизации внутренней обстановки.
Появление кронпринца Абдуллы на встрече глав ОИС в Тегеране в декабре 1997 года означало, что Саудовская Аравия стремится к восстановлению отношений с Ираном. Результатом визита кронпринца стало заключение ряда двусторонних отношений, таких как возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами; подписание контракта о промышленном сотрудничестве на сумму в 15 миллионов долларов; формирование объединенного экономического комитета для выработки стратегии в повышении цен на нефть. В начале марта 1998 года, во время короткого визита в Саудовскую Аравию министра иностранных дел Ирана Камаля Харази, возобновленные отношения получили формальное подтверждение. Харази получил аудиенцию у короля Фахда бин Абдул Азиза – подобной чести Эр-Рияд удостаивал только немногих своих союзников и представителей сверхдержав. Король передал свое официальное приглашение президенту Мухаммаду Хатами.
Но истинно поворотным моментом стал десятидневный визит в Саудовскую Аравию Хашеми Рафсанджани. Официально его визит совершался как хадж – паломничество к святыням Ислама, включая посещение главной мечети в Медине; там местный имам отчитал Хашеми Рафсанджани за его нападки на шиизм, но тот не придал этому значения, чтобы не оскорбить хозяев. Позднее этот имам был лишен сана саудовскими властями.
Критическое значение имели встречи Хашеми Рафсанджани с королем Фахдом, кронпринцем Абдуллой, министром оборбны принцем Султаном, министром внутренних дел принцем Найифом и принцем Турки – главой спецслужб, ответственных за антитерроризм и безопасность. Хашеми Рафсанджани провел беседы на самые разнообразные темы, включая обсуждение всех ключевых аспектов саудовско-иранских отношений, практического сотрудничества в прекращении длительного падения цен на нефть, некоторых региональных и глобальных разногласий.
Хашеми Рафсанджани удивил хозяев совершенно революционным предложением, сделанным от имени высших властей Тегерана. Исламская республика Иран давала официальное обещание прекратить террористическую и подрывную деятельность в отношении арабских стран, – в особенности, Саудовской Аравии, государств Персидского залива, Египта и Иордании – в обмен на то, что Эр-Рияд присоединится к кампании определения исламского будущего региона. Хашеми Рафсанджани поклялся, что Тегеран прекратит поддержку местных исламистских террористических организаций, как только правительства двух стран выработают надлежащую исламскую политику.
Хашеми Рафсанджани подчеркнул, что финансирование Тегераном подрывной деятельности исламистов не подразумевало деятельность, направленную против Дома аль-Сауда либо какого-нибудь другого правительства – исключая пренебрежение ими священной обязанностью джихада. Как только данные государства вновь начнут строить свою жизнь в соответствии с обязательствами, налагаемыми исламом, в частности, примут участие в освобождении аль-Кудс (Иерусалима), – что означает уничтожение Израиля, – у Ирана не останется причин поощрять исламистский терроризм и подрывную деятельность в отношении этих государств. Примечательно, что подобное заявление сделал и лидер «ХАМАС» шейх Яссин, во время своего торжественного турне по странам арабского мира.
Для вящей убедительности Хашеми Рафсанджани не только дал Саудовской Аравии полное официальное заверение относительно «решения и обещания» Ирана остановить финансирование терроризма, направленного против Саудовской Аравии, но также представил письмо президента Хатами, подтверждающее решение Тегерана «прекратить распространение революции, поддержку терроризма, подрывную деятельность на Среднем Востоке и дестабилизацию соседних государств». Единственное исключение делалось для организаций, сражающихся против Израиля, – таких как «ХАМАС», «Исламский джихад», «Хизбалла». Все они финансировались, технически обеспечивались и поддерживались Ираном. Саудовская Аравия, оказывающая текущую материальную и финансовую помощь «ХАМАС» и другим террористическим организациям палестинских исламистов, под это исключение подпадала.
В ходе дискуссий Хашеми Рафсанджани и лидеры Саудовской Аравии коснулись вопроса о взрывах в Хобаре. Избегая однозначного признания ответственности и причастности к этому Тегерана, Хашеми Рафсанджани сообщил принцу Наджифу и принцу Тюрки, что террористами руководило чувство отчаяния, вызванное сотрудничеством Саудовской Аравии с США и ее формальным миром с Израилем. Вопрос же о нахождении у власти Дома аль-Сауда отнюдь не ставился. Рафсанджани предложил, чтобы Эр-Рияд и Тегеран совместно изучили имеющиеся доказательства, дабы иметь гарантию, что в их оценке не допущено никаких двусмысленностей, которые могут ухудшить и без того деликатную ситуацию. В подтверждение того, что недомолвок не имеется, а также как доказательство своей «доброй воли», Эр-Рияд передал Ирану копию сведений о взрывах в Хобаре, имевшихся в распоряжении Саудовской Аравии. (Саудовская Аравия решительно отказалась поделиться этой информацией с США, несмотря на несколько персональных запросов, сделанных высшими официальными лицами во время посещения Эр-Рияда.).
«Прояснение» хобарского вопроса дало толчок к немедленному улучшению в сотрудничестве разведывательных и контрразведывательных служб Аравии и Ирана. В целях дальнейшего кооперирования министр внутренних дел Ирана Абдулла Нури посетил Саудовскую Аравию в начале апреля по приглашению принца Наджифа. Разрешив вопрос о Хобаре, заявил в Эр-Рияде принц Нури, правительства обеих стран «верят, что, восстановив дружеские связи между двумя главными державами региона, мы сможем обеспечить безопасность и спокойствие проживающих в этом регионе людей». Министр возвестил начало новой эры сотрудничества Эр-Рияда и Тегерана, когда «два министра внутренних дел смогут обсудить способы борьбы с наркотиками, с терроризмом; вопросы внутренней безопасности, передвижения граждан обеих стран, а также способы обмена информацией для более четкого выяснения ситуации».
Обновление дружеских связей было одобрено высшими властями Тегерана. Даже аятолла Хомейни выразил свое удовлетворение отношениями Ирана и Саудовской Аравии и призвал к «дальнейшему их развитию и сотрудничеству» двух сил региона. Главнейшую общую цель Ирана и Саудовской Аравии Тегеран определил как ослабление напряженности в отношениях для более слаженных действий в ожидаемой кампании по изгнанию из региона «Великого Дьявола» (США) и уничтожению его «незаконного отпрыска» – Израиля.
Эр-Рияд сделал ответный ход 24 мая 1998 года. Саудовская Аравия объявила о результатах расследований взрывов в Хобаре в июне 1996 года, при которых погибло 19 американских военнослужащих. Как заявил саудовский министр внутренних дел принц Наджиф кувейтской газете «аль-Рам аль-Амм», расследование окончательно доказало, что взрывы в Хобаре «были делом рук самой Саудовской Аравии…. Никакое иностранное вмешательство не имело здесь места». Принц Наджиф сказал также, что Эр-Рияд в настоящий момент отрицает любые намеки на причастность к акции Ирана и Сирии. Интервью принца Наджифа обошло вниманием многие вопросы, включая такие важные проблемы, как осведомленность Саудовской Аравии о том, кто был исполнителем операции, не говоря уже о том, был ли он арестован, подвергнут пыткам и, в соответствии с традиционным правосудием Саудовской Аравии, обезглавлен.
Заявление принца Наджифа имело исключительную важность. Недостоверность изложенных в нем сведений – более чем очевидно, что именно Иран и Сирия были организаторами и исполнителями террористической операции. Но как ключевое политико-стратегическое событие заверение принца Наджифа о непричастности иностранной силы ко взрывам в Хобаре явилось официальным освобождением Ирана от ответственности за террористические действия, направленные против Саудовской Аравии.
Официальные комментарии местных властей по поводу восстановления связей арабского и мусульманского государств содержали немало намеков, предвосхитивших будущие события. Например, Ясир Арафат сравнил свою позицию визави с Израилем с положением Исламских завоевателей, одержавших победу и над Аравийскими евреями, и над Крестоносцами. «Мы относимся к соглашению с тем же уважением, с каким пророк Магомет и Саладин относились к подписанному ими договору», – пояснил Арафат. Упомянутое им перемирие было заключено в момент ослабления войск, и, как только обстоятельства позволили разбить врага, перемирие было в одностороннем порядке нарушено. Арафат использует этот исторический пример, чтобы оправдать возможное нарушение подписанного перемирия с Израилем и возобновление войны, как только арабы будут в силах ее продолжать.
Лидеры исламистов пошли даже дальше в сопоставлении нынешней ситуации на Среднем Востоке со временем крестоносцев, когда весь мусульманский мир сплотился вокруг единого лидера (не арабского происхождения) – Саладина – чтобы разгромить крестоносцев и изгнать их из Иерусалима.
В середине мая в Иордании «Фронт Исламского Действия» (ФИД) выступил с заявлением, в котором подчеркивалось следующее: «Тайных заговорщиков сионистов и крестоносцев поддерживает то, что среди арабов нет единства и что арабы находятся под властью колониалистов». ФИД особенно подчеркнула всеисламский характер событий исторических и событий грядущих: «Положение Иерусалима и палестинского народа никогда не было проблемой только лишь палестинцев, оно имело значение для всей (мусульманской) нации. Ни Омар бин аль-Хаттаб, ни Салах аль-Дин аль-Аюби или Кутуз не были родом из Палестины. Но все они были мусульмане, и их исламская вера и обязательства перед Господом побудили их смести все препятствия, преграждающие путь к освобождению Палестины».
В соответствии с этим, в середине мая лидер «ХАМАС» шейх Яссин напомнил о значении всеисламского Фронта, созданного для уничтожения Израиля, и вновь сравнил перспективы этого союза с триумфом мусульман в войне с крестоносцами под предводительством Саладина. Как пояснил шейх Яссин, «на пути освобождения Палестины от Израильской оккупации мусульманская нация могла бы сыграть немалую роль. Кто изгнал крестоносцев из Палестины? Конечно, арабская нация, а в особенности Египет и Сирия. Объединившись, они образовались в значительную силу, которой и воспользовался Салах аль-Дин в битве с крестоносцами. Арабская исламская нация может сыграть эту роль и сегодня». Новая инициатива Ирана, направленная на подавление исламистского терроризма и подрывной деятельности в арабском мире, имела целью ускорить восстановление именно таких всеарабских связей, а возможно, и союза.
«Всемирному Исламскому Фронту» потребовалось совсем немного времени, чтобы выступить с авторитетным заявлением, подчеркивающим растущую важность израильской проблемы и, что даже более значимо, единый характер донесений всех исламистских группировок. 17 мая 1998 года это объединение выступило с обращением ко всем мусульманам, подстрекавшим их начать священную войну (джихад) против американцев и израильтян, «где бы они ни находились». В заявлении роль Фронта в мусульманском мире определялась как один из глубоких рвов, где соединятся усилия (мусульманской) Нации, чтобы исполнить долг, наложенный Господом, а именно, Джихад против атеистов среди израильских евреев и американских христиан. Особое значение придавалось поддержке действий исламистов против Израиля в пункте, именованном «Раны мечети аль-Акса». Фронт призывал к оказанию возможно большей помощи «сынам мусульманской Палестины и их благословенной интифаде, при посредстве которой они вновь сумели отказаться от реляционистских решений». Фронт был убежден, что, «несмотря на масштаб катастрофы, свет надежды становится реальностью, а надежда возрождается на крови мучеников, в боли страдальцев и в пулях, которыми стреляют во имя дела Господа».
Это заявление представило борьбу с Израилем в более широком контексте всемирного джихада против Соединенных Штатов: «Американские евреи и христиане используют Израиль, чтобы поставить мусульман на колени… Действия альянса евреев и крестоносцев, где предводительствуют США, становятся вызывающими… Соединенные Штаты, их правительство и парламент всегда стремились развратить Израиль и использовать его экономическую и военную мощь».
В соответствии с проарабскими тенденциями своей политики, администрация Клинтона приветствовала «умеренность» Тегерана и предприняла попытку возобновить отношения с Ираном. В результате Соединенные Штаты не только повысили возможность санкций со стороны европейцев, имеющих дела с Ираном, но и облегчили использование европейских «фронтов» для американских кампаний. Неудивительно, что даже наиболее консервативные арабские лидеры перестали бояться гнева Вашингтона после того, как они заключили сделку с Тегераном для снижения угрозы исламистского террора и присоединились к арабско-мусульманскому походу на современных крестоносцев во имя освобождения аль-Кудс (Иерусалима).
Между этими событиями, казалось бы, нет никакой связи, но, рассмотренные в совокупности, они представляли глубочайшую перемену в движении исламистских террористов – как среди финансирующих его государств, так и среди непосредственных исполнителей. Результаты данных перемен имели для бин Ладена и исламистской террористической элиты большое идеологическое значение, однако на практике сводились к нулю: не местные правители, а Соединенные Штаты были объявлены всеобщим врагом и, соответственно, мишенью терроризма. Арабско-мусульманские правительства, включая и династию аль-Саудов, рассматривались теперь как жертвы вмешательства и давления США. На взгляд исламистов, как только Соединенные Штаты и европеизация будут изгнаны из Сердца ислама, даже неправедные главы государств примкнут к мусульманской нации. Разница между бывшей и нынешней концепцией угрозы была очень небольшой. Но даже и она не была упущена из виду в Эр-Рияде; принц Тюрки вновь был отправлен для «урегулирования», чтобы стабилизировать положение правящей династии.
В вопросе поддержки движения «Талибан» Саудовская Аравия уступала только Пакистану. Инвестиции и фонды Саудовской Аравии обеспечили талибам приход к власти и помогли удержать ее. Саудовская политика поддержки талибов проистекала из намерений Эр-Рияда направить в безопасное русло исламистское рвение радикально настроенной молодежи – и пусть это будет, по возможности, дальше от Саудовской Аравии. Поддерживая распространение исламизма, династия аль-Саудов тем самым поддерживала и свою репутацию сторонников консервативного варианта исламизма, несмотря на нарушение некоторых из своих жестких моральных норм. На эти нарушения аль-Саудам приходилось идти, дабы удержаться у власти. Исламская революция в ее талибском варианте, с ее консервативнейшим исламистским фундаментом и арабской окраской, устраивала Эр-Рияд полностью. Близость Саудовской Аравии движению «Талибан» была тем более сильной, что основное ядро талибов составляли выходцы из Афганистана – выпускники пакистанских исламистских школ. Их наставники проходили выучку и получали сан в исламских институтах Саудовской Аравии. Оттуда они вынесли и установили в качестве основы обучения в Афганистане наиболее консервативный вариант исламской теологии и законности.
Поддержка Саудовской Аравией талибов была заявлена официально. «Как упомянул один из высших чиновников министерства юстиции [Саудовской Аравии], шейх Мохаммад бин Джубьер (нынешний председатель Консультативного совета), прозванный «распространителем учения ваххабитов в мусульманском мире», был ярым сторонником поддержки талибов», – заявил участник саудовской оппозиции Наваф Обаид.
Связь саудовского исламизма и талибов выразилась и в заявлении последних о поддержке основных требований саудовской исламистской оппозиции. Так, один из представителей высшего командования талибов потребовал «выведения всех войск США из Саудовской Аравии». На что последовал зловещий комментарий Навафа Обаида: «такое же требование высказали в королевстве фундаменталисты-ваххабиты как раз перед тем, как произошли взрывы в Эр-Рияде и Дахране. И если за этими актами действительно стоял господин бин Ладен, тем больше оснований страшиться терроризма, вдохновляемого талибами». Идеологические обязательства перед талибами означали для Эр-Рияда выделение щедрых субсидий ради уверенности в том, что ни талибы, ни другие визитеры арабского происхождения не повернут свое оружие против королевства.
В начале лета 1998 года Эр-Рияд совещается с Исламабадом по вопросу о том, каким образом удержать направленное против Саудовской Аравии революционное настроение Афганистана. Прагматичный Исламабад сделал вывод о непосредственной связи между тревогой Эр-Рияда по поводу исламистских волнений в Саудовской Аравии и подъемом движения «Талибан». В начале июня Эр-Рияд предпринимает первые решительные шаги. Принц Тюрки и Махмуд Сафар – саудовский хаджи и министр авкафа (религиозной собственности) – прибыли в Кандагар во главе делегации официальных религиозных деятелей и представителей разведслужб. Саудовская сторона предложила различные пути улучшения взаимоотношений, включая и возможную выдачу талибами бин Ладена вместе с группой саудовских «афганцев» в обмен на щедрую финансовую помощь Саудовской Аравии и признание суверенитета талибов Соединенными Штатами. Были разработаны и планы возможных совместных действий саудовских исламистов в Афганистане. Талибы не хотели и слышать о возможности выдачи кого бы то ни было; но, тем не менее, обе стороны решили продолжать переговоры, чтобы удостовериться, что арабские «афганцы» не представляют угрозы для Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. На всякий случай немного позже два представителя знатных саудовских семейств прибыли в ставку бин Ладена со значительной денежной суммой – «подарком» за «обещание» не проводить операций в Саудовской Аравии. При этом посланцы пояснили, что привезенные ими «дары» включают также и долю династии аль-Саудов.
Меньше месяца спустя грянул кризис. Салман аль-Умари, находящийся в Пакистане саудовский поверенный в делах Кабула, прибыл в Кандагар для встречи с высшими представителями власти талибов. Аль-Умари начал с жалобы, что около Джелалабада он попал под обстрел талибских отрядов. На что представители талибов заметили, что если бы они его действительно обстреляли, аль-Умари был бы уже мертв. Затем аль-Умари потребовал выдачи бин Ладена Соединенным Штатам; при этом он подчеркнул, что сама Саудовская Аравия к бин Ладену интереса не имеет. Талибский представитель осведомился, на каких основаниях эмиссар мусульман предполагает, что мусульманин будет выдан немусульманскому государству. Это стало началом горячей ссоры. «Вы являетесь послом Саудовской Аравии или Соединенных Штатов? – спросил представитель талибов. – Если вы посол Соединенных Штатов, то я имею честь быть послом бин Ладена».
Талибы немедленно уведомили Исламабад об очевидных крутых переменах в политике Эр-Рияда. Встревоженный Эр-Рияд заверил Исламабад, что политика Саудовской Аравии не изменилась, и предложил убедить в этом талибов. Во второй половине июля 1998 года при посредничестве Исламабада была организована встреча в Кандагаре, результатом которой явилась договоренность о широком взаимодействии Саудовской Аравии и талибов. Главными участниками встречи были принц Тюрки – начальник саудовской разведки – и лидеры талибов, а также офицеры МВР высшего ранга и представители Усамы бин Ладена. В соглашении оговаривалось, что ничьи требования, включая и американские, по выдаче людей и (или) сведений о террористической деятельности и лагерях рассматриваться не будут. Принц Тюрки обещал также щедрую финансовую и нефтяную помощь как афганским, так и пакистанским талибам. Для Исламабада переговоры с Эр-Риядом на высшем уровне были равнозначны официальному признанию Саудовской Аравией власти талибов в Афганистане. Русские источники сообщают, что вскоре после заключения соглашения из Саудовской Аравии и ОАЭ были переведены крупные суммы денег на Украину – плата за приобретение и быструю доставку вооружения для Пакистана и талибов. Именно эта партия вооружения сыграла решающую роль в быстром и успешном наступлении в начале августа 1998 года, результатом которого было утверждение власти талибов во всем Афганистане.
Затем, 7 августа 1998 года, две машины, начиненные взрывчаткой, разрушили здания посольств США в Найроби и Дар-эс-Саламе. Не следует обвинять бин Ладена в причастности к этим взрывам. Исламистские источники подчеркивают, что именно Афганистан является центральной базой в антиамериканской войне, но отрицают любую причастность, равно как и ответственность за взрывы в Восточной Африке. Хотя обращение «Всемирного исламского фронта» с призывом к джихаду против евреев и крестоносцев и фатвы были документами большой важности, они противоречили друг другу; несмотря на содержащийся в них недвусмысленный призыв к джихаду, ответственность за взрывы в Восточной Африке взяла на себя доселе неизвестная «Исламская армия освобождения святых мест». Исламистские лидеры были полны решимости «не допустить, чтобы Вашингтон выступил с требованием к движению [ «Талибан»] о выдаче бин Ладена, Завахири или обоих, если те открыто заявят о своей ответственности за два теракта». Но Исламабад не был намерен помогать Вашингтону в любом случае.
20 августа запущенные Военно-морским флотом США 75–80 крылатых ракет атаковали комплекс учебно-боевых лагерей в афганском районе Ховст. В соответствии с наблюдениями, которые велись с суши пакистанцами, афганцами и англичанами, 13 ракет поразили лагерь Марказ Халид бин Вахед; 10 ракет поразили лагерь Марказ Амир Муавиа, и еще пять – базу Джалаладдина Хакани. Остальные ракеты попали в близлежащие деревни. Как говорит-непосредственный свидетель события, «большое количество деревенских жителей было не столько убито шрапнелью, сколько погибло от осколков стекла и было погребено под обрушившимися домами». В этих лагерях находилось около 1200 боевиков контролируемого МВР движения «Харакат уль-Ансара» – пакистанцы, кашмирцы и афганцы; примерно 200 из них – афганские моджахеды, а основную массу составляли арабы. Потери среди них составили 26 убитых и 35 раненых. Погибло 14 афганцев, 8 пакистанцев, 3 египтянина и один гражданин Саудовской Аравии. (Если верить бин Ладену, жертв было 28–15 афганцев, 7 пакистанцев, 2 египтянина, 3 жителя Йемена и 1 – Саудовской Аравии.)
Неудивительно, что мулла Джалаладдин Хакани, под чьим непосредственным руководством находился район Ховст, высмеял заявление США о том, что воздушная атака нанесла лагерям тяжелый урон. «Лагеря в Заваре устояли перед двумя воздушными и одним наземным наступлением Красной Армии, и их невозможно захватить или уничтожить, несмотря на частые атаки с воздуха и обстрелы. Что могут сделать укрытому среди гор укрепленному лагерю 60–70 американских ракет дальнего действия с весьма неточным прицелом?».