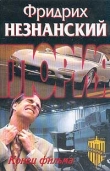Текст книги "Маска Лафатера"
Автор книги: Йенс Шпаршу
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Глава четырнадцатая
Если хотите, каждая жизнь – не что иное, как роман!
– Верно, – ошеломленно сказал я. – Я и сам всегда это говорю.
– Вот недавно опять прочла этакий роман. Так себе, ни то ни се.
Женщина, ехавшая со мною в купе в сторону Штутгарта, до упора повернула голову в мою сторону.
– Во всяком случае, когда он, главный герой, стал укротителем львов, она его бросила, эта Анна. Но не совсем. Она поехала-таки с цирком. Тайно. А у него появилась эта артистка, эта… Рамона, так, кажется, ее звали. Да, точно, Рамона. А потом Беновентура, якобы самый грозный лев… Впрочем, он и был грозным, просто никто об этом не знал. Возможно, еще и потому, что Рамона иногда его дразнила. Так, через решетку, понимаете? При том, что директор ей строго-настрого запретил. Строго-настрого! Ей приходилось все время сбрасывать вес, постоянно худеть, потому что… ее партнер уже успел порвать себе связку. В Аргентине! Ну так вот, Беновентура, как сказать… ну, в общем, руки вдруг не стало. Правда, всего лишь левой, но все равно.
Женщина уставилась на меня с негодованием.
– А потом, потом все всплыло-таки наружу. Например: Рамона вовсе его не спасала – это сделала Анна! В последний момент. А о Рамоне она узнала уже позднее; раньше-то она про это не знала. Но она все равно осталась с ним. Забота о нем оказалась для нее важнее!
Рассказчица вдумчиво кивнула.
– Да-да, забота о нем ее поглотила. Короче говоря, все как в жизни. Как в романе.
Сей вывод был увенчан минутой почтительного молчания.
– Ну а вам? Много сегодня предстоит работы? Сама-то я все последние годы пью только «Онко». Это единственный напиток, которым я действительно наслаждаюсь. Поверьте, он по-настоящему предохраняет желудок.
Я кивнул. Поспешу заметить, что даме я назвался представителем кофейной фирмы из Бремена. Думая о новой версии своего сценария, я вдруг захотел узнать, в каких ситуациях может оказаться человек, пустившийся в плавание под чужим флагом.
Во Франкфурте женщина с цирковым романом сошла с поезда. И только я собрался зарыться с головой в пальто, как со мной заговорил мужчина, должно быть слушавший нас все это время. Он оказался страховым агентом, и по различного рода причинам его занимали вопросы жизни вечной.
Когда подъезжали к Мангейму, наш разговор уже вступил в ту стадию, когда он, вооружившись калькулятором, принялся высчитывать мне, как долго, в теории, должен прожить застрахованный, чтобы свести свою страховку на нет.
Я сказал ему, что само понятие «страхование жизни» лично мне представляется дерзостью. Страховой агент, хоть раньше об этом и не задумывался, мнение мое полностью разделил.
Потом его вдруг озаботил вопрос, в какой компании я, как представитель фирмы, застрахован и к какой налоговой группе принадлежу.
Вопрос недурен! По идее, такое человек должен знать. Я же понятия не имел.
В данном случае свое нежелание вдаваться в подобные детали я мог без труда объяснить предубеждением против всякого рода агентов, к чему страховщик, надо сказать, отнесся по-человечески и с пониманием.
Расставаясь в зале Центрального штутгартского вокзала, мы даже пожали друг другу руки.
– Желаю вам удачи в вашей дальнейшей деятельности! – дружески напутствовал он меня.
Я пожелал ему того же самого и, глядя, как он, устало сутулясь, исчезает в толпе, на мгновение вдруг представил, что мы оба играем не свои роли.
Энслин – двойник Лафатера!
Главная мысль моего нового сценария, уложенная в одну фразу.
Стал ли он играть эту роль случайно, по причине внешнего сходства, или же в игру его втянули Гёте или Лихгенберг (последний, напомним, был ярым противником Лафатера!), возможно подавшие писцу такую идею, – это еще предстояло выяснить; оба варианта были великолепны, однако таили в себе массу подводных рифов.
С какой стати подобная мысль вообще пришла мне в голову? Тут несколько причин. Во-первых – тема двойничества. Это само по себе возбуждает. А в данном случае еще и подчеркивает колорит того времени, дает почувствовать атмосферу восемнадцатого столетия, когда истории о двойниках имели широкое хождение и являлись излюбленным предметом бесед. Помимо вышеперечисленного, такие сюжеты – что особенно важно для фильма – обладают неодолимой притягательностью. Наверное, потому, что всем нам в большей или меньшей степени знакомо это чувство – желание остаться неузнанным, сохранять инкогнито, присвоить чужую роль и, играя ее, воспарить на небосклон истории. Такое искушение понятно каждому.
А Энслину («…за тысячу миль от мест его обитания») подобная роль сама просится в руки.
Кроме того, я прочел отчет Лафатера о встрече его с императором Иосифом II.
26 июля 1777 г. эти двое повстречались в Вальдшуте, где кайзер, путешествовавший инкогнито под именем графа Волькенштейна, остановился на отдых; путь он держал в Париж, дабы навестить свою сестру Марию-Антуанетту.
Лафатер же перед этой встречей, переминаясь с ноги на ногу, втайне задается робким вопросом, сумеет ли он узнать самодержца с первого взгляда. Другими словами – ему предстоит подвергнуть испытанию возможности своей легендарной физиогномики! В его мозгу, словно шарики, перекатываются мысли, он строит и вновь отвергает намеченные планы, прикидывает, на каких чертах лица он в первую очередь «остановит взор», – все это описано весьма трогательно:
Первым делом я собирался изучить то переносицу, то брови, то разрез его глаз.
Однако поначалу его ждет небольшая заминка: вместо императора по ступеням спускается баслерский гравер и торговец предметами искусства господин фон Мехель, выступающий посланцем императора. Он отводит Лафатера наверх, в зал. Гам последний – разумеется! – с первого же взгляда узнает Иосифа II, хотя тот, как позднее Лафатер не забывает упомянуть в своем отчете, выглядит совсем иначе, нежели на портретах. Итак, испытание выдержано успешно! Что же говорит император?
Ба, да вы опасный человек; не знаю, стоит ли попадаться вам на глаза; вы смотрите людям в самое сердце; наверное, приближаясь к вам, следует поостеречься!
Таковы записи Лафатера. Хронология реальных событий.
А теперь вернемся к Энслину. Зачем ему становиться двойником своего работодателя? Какой в этом смысл?
Принимая во внимание всю совокупность идей физиогномики, смысл есть, и немалый: если Энслин, ни разу не будучи разоблачен, неделями, да что там – месяцами может разъезжать по городам, представляясь Лафатером, тем самым он глубоко ранит физиогномику, причем задевая ее самый чуткий нерв. Действия его в данном отдельно взятом случае доводят эту науку до абсурда! Человек, не имеющий ни малейшего понятия о физиогномике, успешно выступает в роли знаменитого физиономиста Лафатера! Если исходить из таких соображений, многое и впрямь говорит за то, чтобы представить все как спланированную акцию антифизиогномистов вроде Лихтенберга. Неразрывная, по утверждению Лафатера, связь между внутренним и внешним миром была бы у всех на глазах перечеркнута такой демонстрацией, а каноны физиогномики опровергнуты.
Как «рыба», по-моему, идеально! Распахиваются все двери и врата к тому, чего желал Хафкемайер, что он именовал «миром».
Итак, в каких ситуациях мог оказаться Энслин, взявшись за эту роль?
Для начала пара безобидных фокусов с чтениями лиц в домах горожан и на ежегодных ярмарках – наряду с глотателями огня, безголовыми русалками и прочими аттракционами.
Затем – поездки в почтовых экипажах. Энслин, заспанный, зажатый в тесный угол кареты, не прекращает пристальных наблюдений! Он изумляет попутчиков точнейшими диагнозами и пророчествами. У людей создается впечатление, что он смотрит – и не просто смотрит! – в самую сокровенную глубь их существа. На самом же деле ночью, в трактире, он просто подслушивал чужие беседы сквозь засаленные стены, заглядывал людям через плечо, когда те сидели над письмами, и т. д. Вот так он завоевывает титул кудесника. Кроме того, он постоянно пишет портреты. Пособием ему служит увесистый фолиант – «Физиогномические фрагменты». Теперь-то каждый осознает, кто оказался с ним рядом, в карете…
Позднее – опасность, но вместе с тем и маленькое торжество: Энслин встречает давно забытую возлюбленную Лафатера. Она узнает, что Иоганн Каспар в городе, тут же бросает хозяйство и дом, спешит увидеть его и… Как же он изменился за эти годы! Трагический момент, но при этом, как ни крути, – безусловно комедия положений.
Далее.
Немецкий герцогский двор. Длинные зеленые аллеи, уходящие в пустоту. Слева и справа статуи. Павильон. Маленькие, поросшие камышом прудики. Пара птиц исчезает в небе.
Огонь камина в красном салоне. Там за чашкой чаю собралось изысканное общество. Люди подробно обсуждают модное учение, многие слышали правдивые рассказы об успешном применении физиогномики и полны энтузиазма: новая, окутанная завесой тайны наука, привлекательна, а поскольку здесь присутствует сам мастер, тем паче хочется узнать побольше.
– Высокочтимый господин Лафатер, ответьте же нам, отчего конец каждой главы первого тома ваших знаменитых «Фрагментов» украшен… конской мордой?
Я и сам уже рылся в анналах, пытаясь найти ответ на данный вопрос, однако безуспешно.
Энслин по-лошадиному вытягивает лицо. Все заливаются смехом.
Краткое примечание: придворная дама с шелковым веером. Утонченная игра в прятки. Если она раскрывает веер прямо перед своим лицом, в поле зрения остается лишь пара темных глаз, тем сильнее привлекающая к себе внимание. И тогда один лишь ее взгляд говорит обо всем.
– Физиономии животных, – вспоминает в конце концов кто-то из присутствующих цитату из «Фрагментов», – не подвержены видимым искажениям!
Некоторые с пониманием кивают.
– Равно как и очевидному преображению, – добавляет другой, также цитируя книгу.
Теперь уже кивают все.
Восседающий на жердочке амазонский попугай, пару раз нервно встрепенувшись, сокрушенно прячет голову под крыло.
Кто-то берет лорнет и начинает читать оглавление второго тома «Фрагментов», иронически подчеркивая весьма своеобразную последовательность:
…XXII – Галерея князей и героев;
XXIII – Птицы;
XXIV – Военачальники, адмиралы;
XXV – Верблюды двугорбые и одногорбые;
XXVI – Верные, твердые характеры людей с отталкивающей внешностью;
XXVII – Собаки;
XXVIII – Мастера токарного дела;
XXIX – Иные мастера;
XXX – Мягкие, утонченные, верные, нежные характеры от самых обычных, заурядных людей до гениальных личностей;
XXXI – Медведи, ленивцы, дикие кабаны;
XXXII – Герои древности;
XXXIII – Дикие звери…
Он медленно опускает книгу, поднимая взгляд:
– Имеет ли сия чрезвычайно оригинальная последовательность некий особый, еще не постигнутый нами смысл? Вы часто бываете подвержены случайным оплошностям вроде этой? Или же – не поймите меня превратно – в типографии просто спутали очередность глав?
– Не он ли в свое время, – любезно интересуется один из министров, – издал те крайне патриотические песни швейцарцев? «Тиран, бессильной злобой захлебнись! / Свободным кто рожден, умрет свободным…»
Энслин оказывается в затруднительном положении.
Однако ему удается-таки вернуть разговор в русло физиогномики. Разумеется, и эта тема для него не безопасна!
Когда всплывает весьма специфический вопрос – о решающей взаимосвязи мочек ушей с темпераментом! – скудность собственных познаний и впрямь едва не ввергает его в беду, но тут на Энслина внезапно снисходит озарение.
– Господа, боюсь, я столь долго занимался меланхолично висящими ушами и тому подобными материями, что теперь уже едва ли смогу дать внятный ответ на этот животрепещущий вопрос.
Неплохо! Воспринимается как шутка светского острослова. А посему остается без внимания тот факт, что в этой маленькой лжи сокрыта глубокая, всегда остающаяся в силе истина: чем серьезнее мы чем-либо заняты, тем более затрудняемся рассказать об этом исчерпывающе, от «А» до «Я». Слишком много возникает разных «но», «хотя», «с другой стороны», принуждая в итоге к полному молчанию.
В репертуаре Энслина имеются даже такие нахально-бойкие высказывания, как «Не будь я господином Лафатером!» – ненарочитые, легкомысленные реплики, исподволь оставляющие ему пути к отступлению.
Став двойником, оказавшись на перепутье между ложью и истиной, Энслин в первую очередь осваивает искусство лжи.
Правило первое: «Я лгу».
Эта простая, откровенная фраза, которую Энслин произносит однажды вечером, глядя на свое полуслепое отражение, несет в себе тайный смысл. Но какой? Долго, очень долго размышляет он над этой фразой. Томясь в нерешительности, даже прибегает к помощи философской энциклопедии. И что же?
Под ключевым словом «Антимония лжецов» он вычитывает, что случай его вполне классический, известный со времен «Эпименида, уроженца острова Крит, VI век до рожд. Хр.». Право, утешительно знать, что и до тебя кому-то приходилось не легче. Выводы, разумеется, ошеломляют своей ясностью.
Вот он, тот заколдованный круг, в котором он вращается вместе со своим девизом: «Я лгу» является правдой лишь тогда, когда ты лжешь. Однако стоит начать говорить правду, именно эти твои слова превращаются в ложь.
Так что же он говорит, изрекая их? Правду?..
Ладно, это он пока оставляет.
Правило второе: практические навыки.
Хорошая ложь не должна быть наглой! Не должна быть до такой степени неуклюжей и беспомощной, чтобы могла обидеть твоего собеседника. Это было бы неприлично! Тогда собеседнику пришлось бы невольно стать твоим сообщником, если, конечно, сразу не закричать: «Довольно! Перестаньте! Или вы действительно считаете меня до такой степени глупцом?»
Итак, заметим: даже у лжи есть свои моральные устои!
Заботься о «внутренней» правде!
В отличие от добродетельного прозябания, что довольствуется вымаливанием неких «истин», ложь требует гораздо большего присутствия духа. Соблюдая верность «внутренней» правде, ты вынужден неизменно приводить все, что ни скажешь, в соответствие с изначально созданными тобою предпосылками. Учись этому на элементарных примерах!
Даже самому великому из храмов лжи в один прекрасный день суждено рухнуть, если ты без особой надобности набиваешь его битком.
Пояснение: увлекшись понятным стремлением набросать совершенную в своей точности картину лжи, ты рискуешь оказаться в роковой зависимости от мелочей, которые поглощают тебя. Притом каждая из них сама по себе является вполне правдоподобной, но будь осторожен: умножаясь сверх меры, мелочи эти могут тебя выдать, поскольку их смысл – создание по возможности полноценной и свободной от противоречий картины – тем самым выступит наружу в своей неприкрытой наготе.
Так вот, при всей любви к фальшивым деталям – рекомендуется воздержание! Избегай нездорового честолюбия! Прочь соблазн тщеславия: лги, но лишь когда вынужден…
Вот небольшой катехизис лгуна, который усваивает Энслин, умудренный опытом своего самозванства.
Разумеется, любая история с двойниками достигает апогея и одновременно финала именно в тот момент, когда оригинал и копия встречают друг друга. Итак, Энслин возвращается к прежним скромным обязанностям в доме Лафатера.
Он жаждет внести в свою игру последний завершающий штрих. Довольно с него комедий положений и всех этих фокусов – он хочет вырваться из плена собственного «я», стать полностью другим.
Листок с заметками для Энслина:
Великое отчаяние.
Безумная смелость. Украденное легкомыслие.
Немыслимые условия.
Кривое зеркало, пустое зеркало. Неистовая тьма.
Опустошенная надежда.
Бойкое вращение в повседневности.
А потом? – Еще неизвестно!!!
Его внезапный уход.
Скрежет зубовный и слезы. Проклятия, обращенные к небесам.
Далее следуют всевозможные сцены. Вот Лафатер проходит по коридорам и комнатам своего дома, а Энслин, прячась в тени, следует за ним, прилагая все силы, чтобы уловить и усвоить каждое его движение, скопировать их. (Ср. с фрагментом Лафатера «Обезьяны». Там речь идет – с отчетливым намеком на актеров – об орангутангах – обезьянах, наиболее схожих с людьми: орангутанг, дескать, «…подражает всем человеческим жестам, но не совершает никаких человеческих поступков».)
У Энслина, разумеется, все по-другому. Будучи секретарем, он ведает всей корреспонденцией Лафатера. А поскольку переписка Лафатера с научным и прочим миром является единым целым, – собственно говоря, она и есть его жизнь! – Энслин исподволь начинает управлять этой жизнью. Он пишет письма, и в этом смысле он «правая рука» Лафатера; уничтожая письма, он становится его головой. Постепенно он так овладевает его нутром, что от самого Лафатера вскоре остается не более чем пустая оболочка.
В итоге Энслин до такой степени возомнил себя Лафатером, что его самоубийство – по сути, не что иное, как «убийство» Лафатера, избавление от заблуждений и экзальтированности физиогномики.
Примерно так, в общих чертах, мне теперь представлялся фильм. Единственная проблема, не дающая покоя, – та незначительная деталь: неснятый башмак.
Я даже книги о старом оружии просматривал, но как мог человек, обутый в башмак, нажать на спусковой крючок ружья, оставалось для меня загадкой. Одного лишь крохотного фрагмента не хватало мне для целостности общей картины.
Глава пятнадцатая
Прежде чем продолжить путешествие, я должен был провести две встречи с читателями в пределах Штутгарта: предстояли лекция в Высшей Народной Школе и участие в литературном утреннике.
В школе я ограничился стандартной программой.
При входе в здание я изучил общий план мероприятий – посмотрел, что еще интересного в нем значится:
Китайская кухня – легко и просто для каждого.
(Сверху розовым фломастером кто-то приписал «& каждой!»).
Введение в черно-белую фотографию.
Коралловые рифы Карибских островов (с последующей дискуссией).
Я не переставал удивляться этим сбрендившим людям, всегда готовым самосовершенствоваться в чем угодно. Не знаете, что делать дальше? Вот, пожалуйста, курсы чего-нибудь к вашим услугам.
Более или менее прилично ориентируясь в тексте, я имел возможность заодно разглядеть публику поподробней.
Лафатер в поздние свои годы – так гласят записи – «обладал лицами», но не воспринимал каждого в отдельности, а значит, ни одного не видел. Все для него слилось в единственное общечеловеческое лицо. Немудрено. Симптом – как у алкоголиков: те под конец тоже видят лишь одно – белых мышей.
Каждое лицо противоречиво само по себе.
В этом я и сам убедился.
Например, ни одно из присутствовавших в зале восьми лиц (в тот вечер, включая меня, нас было всего девять) не давало ответа на вопрос, какие глубинные причины могли подвигнуть его обладателя к тому, чтобы провести долгие часы под сомнительным лозунгом «Кочевники расставаний».
Мужчина в зеленой куртке. Кто знает, быть может, втайне он считал себя кочевником будней. Только об этом никто еще не знал! Включая и его самого. Не потому ли он здесь? Или вон та молодая женщина в первом ряду – возможно, специалистка по экстравагантным расставаниям, пожелавшая вооружиться еще парочкой хороших идей?
Все это не было написано у них на лицах.
И на моем, разумеется, тоже, ничего не прочтешь!
«Милые мои! – думал я, в то время как мои губы машинально двигались, продолжая читать. – Знали бы вы, кто здесь перед вами стоит – кое-как замаскированное чудовище!.. – Небось не столько бы на меня смотрели, сколько косились на ближайшую дверь».
По окончании мероприятия меня повезли на машине в дом доцента ВНШ. Доцент обитал на окраине, в Фильдерштадт. Постепенно до меня стало доходить, во что я влип. В приглашении от ВНШ я поначалу оставил эту мелочь без внимания: «…мы исходим из того, что Вы предпочтете домашний уют бездушному комфорту отеля. Кроме того, это поможет нам сэкономить на расходах».
Другими словами, это означало вот что: выступление я закончил, но никакого «снятия грима» не предвидится. Едем дальше.
Сидевший за рулем доцент между тем рассказывал, кто из моих коллег по писательскому цеху ранее бывал у него в гостях. Время от времени я устало кивал. Один раз довольно резким поворотом руля он перестроился на левую полосу движения. Вскоре я увидел почему. Со стороны въезда на автобан, держась плотной цепочкой, на черную как ночь трассу внезапно вынырнуло множество совершенно одинаковых машин. Их появление будило ассоциации с фантастическими фильмами.
– На «Мерседесе» смена закончилась, – пояснил доцент. – Одни служебные автомобили.
– Да, – сказал я. – Вот он – современный человек.
Тем и ограничился мой интеллектуальный вклад в беседу до конца поездки.
Ну, наконец-то: район частных домов. Мы прибыли. Дом словно крепость. Весь в зелени, ярко освещен.
– Кстати, вы ничего не имеете против собак?
– Нет… – вздохнул я. Мне вдруг жутко захотелось провести ночь на каком-нибудь заброшенном вокзале.
– Ну, тогда все в порядке.
Вышеупомянутая псина, чья демоническая морда во мгновение ока возникла в боковом окне, против меня тоже ничего не имела. Совсем напротив. Я понял это по тому, с каким интересом животное, стоило мне сделать попытку выйти из машины, принялось обнюхивать интимную часть моей фигуры. Пес был неизвестной мне породы, очень большой, очень мохнатый. Даже морда заросла так густо, так что мои строгие взгляды не находили своего адресата. Когда же мне с грехом пополам все же удалось вылезти и выпрямиться, со стороны собаки последовали радостные, любвеобильные попытки заключить меня в объятия, которые я, оберегая свое светлое пальто, отражал весьма ретиво. Тем не менее облизан я был с головы до пят.
– Видите, как он радуется?
Да, я это видел, черт побери.
Собака, явившаяся, очевидно, по собственной инициативе, была отконвоирована доцентом с места событий, что-то невнятно бурча, выражая полное непонимание и откровенно протестуя. Тем временем у открытой входной двери меня ожидала жена доцента.
– Я услышала, как вы подъезжали! – крикнула она в темноту сада. Заподозрив, что таким образом со мной фактически перешли на «ты», я догадался, до какой степени все здесь будет ужасно.
В доме отчетливо пахло псиной. Но был тут и другой запах – шел он от самого парадного входа, через все комнаты вплоть до туалета для гостей, где я мыл руки: высушенные цветы! Жена доцента явно испытывала особое пристрастие к ним. Немой, прорвавшийся в тяге к флористике крик души несчастной, сосланной в провинцию домохозяйки?
Я основательно высушил руки. От них пахло лавандой.
Хозяйка оказалась очень приветливой. У нее еще оставались дела на кухне – то была открытая американская кухня, отделенная от гостиной первого этажа одной лишь стойкой, – и она спросила, не хотел бы я для начала позвонить домой.
Неплохая идея.
Но вместо номера Эллен – спохватился я лишь тогда, когда включился автоответчик, – я по ошибке набрал свой собственный. Послушал себя. Просто не мог оторваться от звука собственного голоса. Дождавшись, пока отпищит сигнал, начал говорить.
– Привет, как дела?.. Что ж, я рад. У меня тоже.
(Говорить свободно было нельзя. Я находился в кабинете доцента, и дверь была приоткрыта.)
– Где я? В Фильдерштадт, – просипел я сдавленным голосом и понял вдруг, что вынужден бороться с подступившими слезами. В этот момент снаружи, как нельзя более кстати, залаял пес… – Счастливо! Еще позвоню. Я люблю тебя!
Я бережно опустил трубку на рычаг, сделал глубокий вдох и вернулся в комнату.
– Там все в порядке? – спросила жена доцента.
– Да, лучше не бывает.
Доцент тем временем тоже вернулся в дом и погрузился в глубокое кресло буйволовой кожи. Его высокие колени, обтянутые брюками из кордовой ткани и сейчас в согнутом состоянии доходившие примерно до уровня лопаток, как бы вопрошающе вонзались в пространство комнаты. Он набил себе трубку. Все это уж больно отдавало перспективой «уютного вечера». На всякий случай я зевнул. На столе – сырное печенье, белое вино. Скучные, вымученные разговоры ни о чем.
Незадолго до полуночи хозяйка показала мне наконец мою комнату. Это была «комната Нади». Взрослая дочь уехала на год в Торонто работать компаньонкой.
Комната без сухих цветов. Зато все стены сплошь увешаны плакатами с художественных выставок ранних девяностых. Ладно, это еще куда ни шло.
Оставшись наконец один, я сел за узкий письменный стол и долго созерцал фотографию лошади. Затем осторожно прислонился лбом к покрывавшему стол холодному стеклу. Я сам себе казался багажом, отправленным не по адресу.
Итак, на будущее: впредь все приглашения детально изучать под лупой! В случае обнаружения словосочетаний вроде «домашний уют», «неформальная обстановка» и прочих, включать сигнал тревоги № 1! Принимать приглашения только при условии гарантированного проживания в как можно более современном и желательно безликом отеле. В крайности согласен также на мягкую, успокаивающую музыку в лифтах и отвечающий всем мыслимым потребностям мини-бар!
Ночью я проснулся. Сначала даже не сообразил, где я. Так темно… Потом мелькнуло: я попал в руки похитителей. Они держат меня в заложниках на третьем этаже частного дома. Внизу собака – следит, чтобы я не сбежал. Вот почему я – что самое прискорбное – опасаюсь даже выйти в туалет. Может, собака и весь дом патрулирует? Точно! Пес притаился за дверью, только и ждет, что я сделаю неверный шаг… Но такой радости я ему не доставлю! Лучше уж в туалет не ходить.
Часы пробили дважды. Затаив дыхание, вслушиваюсь в чуждую мне тишину. Вспоминаю, что ребенком периодически мочился в постель. Но все равно делаю вид, будто сплю, и через некоторое время действительно засыпаю…
– Не так громко, Борис! У нас же гости.
Пробудился – и моментально понял, где нахожусь.
Собака тоже вскоре напомнила о себе. Кстати, отзывался пес – если вообще отзывался – на кличку Аякс. За завтраком он обнюхивает мои ботинки. Что бы я ни говорил, собака поднимала голову и, в изумлении разинув пасть, недоверчиво внимала мне. Я немного побаивался этого пса…
Стоп! Очень важный пункт, идеально вписывающийся в сценарий!
Общий набросок. Сцена следующая: Энслин, изображающий Лафатера, попадает в какое-то захолустье, например, в горную деревушку. Много лет назад здесь гостил и сам Лафатер. Местные жители – простые, милые сельские обитатели, ничего не замечают. Другое дело – собака!
Уговоры не помогают: «Но, Аякс, ведь это же господин Лафатер!»
А упрямый пес знай себе рычит. По-прежнему не доверяет. Его не убеждают уговоры хозяев. А они не верят ему. Вот так все просто. Между тем в Энслине просыпается неуверенность.
Пес это чувствует и начинает злобно лаять. Он скалит на Энслина свои клыки.
Они смотрят друг другу в глаза.
Ну, давай же! Выговорись, думает Энслин.
В конце концов пса запирают в наказание.
«Даже не пойму, что с ним, – извиняется хозяйка, в то время как ее муж что есть силы тащит собаку прочь. – Обычно он совсем другой».
«Ну что вы, добрая женщина. Ничего страшного. Бедное создание», – снисходительно отвечает Энслин, усмехаясь вслед псу, к которому он вдруг проникается горячей симпатией.
Полная напряжения сцена – сейчас его разоблачат, мы затаили дыхание! Но разоблачение все же не происходит…
После завтрака последовало то, о чем доцент минувшим вечером упоминал как о «маленьком сюрпризе».
– Борис, не хотел бы ты что-нибудь сыграть нашему гостю?
Мальчик, наверное, лет десяти или одиннадцати, склонил голову. Из-под темной копны волос он смотрел вверх, на меня – в этот краткий миг мы поняли друг друга, мы были единственными, кто знал, что здесь происходит. Вздохнув, Борис вышел и со вздохом же вернулся в комнату со своей виолончелью.
Пока я внимал этому небольшому домашнему концерту, мать мальчика притопывала мыском ноги, кивала или незаметно покачивала головой в такт звучавшей музыке. Отец же тем временем поглядывал на меня.
Я сидел, утонув в кресле, вооруженный приветливой, кривой улыбочкой. Пока мальчик усердно играл, мне вдруг вспомнился один эпизод на тему «Воспитание детей» из Гесснеровской биографии Лафатера, который я также хотел использовать в сценарии фильма.
Однажды Лафатер пробрался в детскую, опрокинул там перечницу, расшвырял песок и чай, выдвинул ящики, набил их смятой бумагой, разбросал по столу грязные чулки, наполнил чашки клейстером – и, завершив свое непотребство, с довольным видом оглядел картину содеянного и большими корявыми буквами вывел на черной шиферной доске: БЕСПОРЯДОК.
А потом спрятался в углу.
Ничего не подозревавшие дети вошли в комнату – в ужасе всплеснули они маленькими ручками, воздев их над кудрявыми головками. Лафатер же торчал в темном углу и, ликуя, любовался плодами своих педагогических трудов.
Эпизод маленький, но немаловажный.
Литературный утренник начинался в 11.00 в Барочном зале замка, неподалеку от Штутгарта; проходил он под пышным девизом «Поэт в диалоге». Зал постепенно заполнялся людьми. Толстенькие ангелочки на голубом небосводе потолка щедро забрасывали место действия розами.
Беседой руководила молоденькая редакторша с радио, фрау доктор Гейстер.
В маленькой соседней комнате она вкратце объяснила нам – моему компаньону и мне – общие правила игры: каждый из нас должен был зачитать текст, потом обсудить его с ней. Отбор авторов проводился по принципу контраста, в связи с чем организаторы рассчитывали на жаркую дискуссию.
– Вы не против, если я на минутку оставлю вас одних? – осторожно спросила ведущая; ей еще нужно было позаботиться о технике. При этом она посмотрела на нас так, будто мы два боксера, готовые ринуться друг на друга, стоит лишь остаться без присмотра.
Однако мы мирно допили свой кофе и даже разделили апельсин, после чего еще раз тихо просмотрели свои тексты. Моего компаньона интересовал вопрос, будет ли нам возмещена полная стоимость билетов первого класса. Но этого не знал и я.
На чтении же выяснилось, что мой собеседник на самом деле был герметиком.
Я обалдел. Сейчас, на трибуне, создавалось впечатление, что этот человек просто не в состоянии связать двух слов. Стихотворение, как модераторша перед этим призналась публике, «вечно на грани немоты». В последующих стихах, соответственно, также шла речь о поэте, не сочинявшем стихи. Тема, судя по всему, была весьма актуальной и явно продаваемой. Один из текстов назывался «Прибой IV» и гласил примерно следующее:
– Гренландские заросли в спешке. Тишина. Сильная рябь, резеда. Большое и голубое растет над равниной на.
Хитрость этого и других стихотворений заключалась в том, что из всех своих текстов творец с позором изгнал букву «М»! Маньяк, мать, мармелад и прочие подобные слова следовало либо писать по-другому, либо обходить вовсе. Мне это понравилось! Да и поэт, этот неприметный фокусник, тоже мне нравился. Ведь только что совершенно нормально болтали – а теперь это.
Герметик позволил фрау доктор Гейстер расшифровать тексты для публики. При этом, тяжело приподняв голову и напряженно сузив веки, он внимательно, глядя поверх аудитории, разглядывал дальнюю стену зала. За всем этим, как нам теперь объяснили, стояла «теория упущенных слов». К сожалению, оставалось неясным, что именно все это должно означать, и прежде всего, почему поэт пренебрег именно буквой «М». Услышав этот вопрос, он невольно вздрогнул, будто, задав его, фрау доктор Гейстер затронула очень, очень больную тему. Заметив это, она оставила «М» в покое и стала пытать его дальше. А вот что словосочетание «над равниной на», как я с самого начала и предполагал, в той или иной степени подразумевает «равнину дна», он подтвердил безоговорочно.