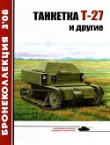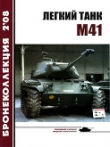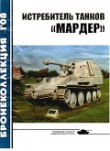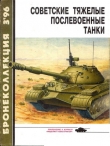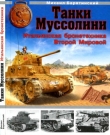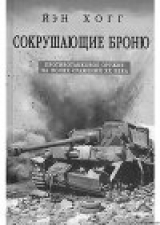
Текст книги "СОКРУШАЮЩИЕ БРОНЮ - ПРОТИВОТАНКОВОЕ ОРУЖИЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ XX ВЕКА"
Автор книги: Йэн Хогг
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Глава третья
ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА
Самое первое решение, которое приходит человеку в голову, когда он сталкивается с каким-нибудь новым оружием, это направить на него самую большую пушку, если, конечно, она в тот момент окажется под рукой. А вот этого-то как раз немцы в 1916 г. сделать и не могли, поскольку никто, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не выводил орудия на передовые позиции. Между тем только пушки позволяли с уверенностью уничтожать первые танки. Таким образом, немцам не осталось ничего иного, как скорее поставить на поток производство бронебойных пуль и противотанковых ружей «Маузер». Когда танки стали более частыми гостями на полях сражений, им пришлось иметь дело с пушками, а такое столкновение обычно кончалось для экипажа танка весьма печально. Стандартная немецкая полевая пушка с ее 77-мм снарядом могла уничтожить танк с первого выстрела. Причем наводчику не надо было утруждать себя выбором какого-то особо уязвимого места – ударяясь о броню, снаряд детонировал, а тогдашние танки строились без учета возможности их столкновения с артиллерийским противодействием. Вследствие этого, несомненно, родилась и максима наводчиков – целиться в центр видимой массы.
Однако скоро танковые экипажи набрались опыта и выработали свою собственную тактику. Они стремились окатить прислугу орудия пулеметными очередями так, чтобы уж если не уничтожить стрелков сразу, то хотя бы задержать выстрел до того момента, когда они сами сумеют дать прицельный залп из главного танкового вооружения или же отступить на более безопасную позицию. Правила дисциплины не способствовали проявлению инициативы в том плане, чтобы прислуга без соответствующего приказа осмелилась перекатить пушку на другое место и выстрелить оттуда, кроме того, на поле находилось полным-полно и других солдат противника, которые могли счесть маневрирующих пушкарей хорошей мишенью, в общем, передислокацией артиллерийского орудия расчет рисковал навредить себе еще больше.
И вот, учитывая все эти факторы, люди стали приходить к мысли, что необходимо разработать специализированное орудие для противотанковой борьбы. Оно должно было быть легким, что позволило бы без лишнего труда быстро перемещать пушку силами прислуги. При тогдашней танковой броне не было особой нужды в крупном калибре ствола и тяжелой боеголовке снаряда. Предпочтительными малые габариты казались еще и потому, что это позволило бы прислуге маскировать пушку и, находясь в засаде, ожидать, когда танк приблизится и сделается удобной мишенью.
Хотя готового орудия для подобных целей тогда не существовало, оказалось, что есть нужные боеприпасы, а именно снаряды для 37-мм роторной пушки Гочкиса. Ее разработали в восьмидесятые годы XIX века, моряки применяли это орудие для поражения живой силы на палубах неприятельских судов, а сухопутные силы – при обороне крепостей. По принципу действия она напоминала более знаменитое «орудие Гатлинга» – многоствольный пулемет, приводимый в движение ручкой, – однако стреляла довольно эффективными осколочно-фугасными гранатами малого калибра. В общем, взяв снаряд за основу, подполковник немецкой армии баварец Фишер приступил к разработке маленькой пушки, которая вела бы огонь одиночными выстрелами и могла быть легко перемещаема по линии фронта. Получившееся изделие весило 80 кг, имело полуавтоматический затвор, который самостоятельно открывался после производства выстрела и позволял вложить в камору следующий снаряд, что при наличии хорошо подготовленного расчета из двух человек давало возможность достигнуть скорострельности до 35 выстрелов в минуту; орудие можно было устанавливать на пулеметный станок-треногу. Армейская комиссия по испытаниям вооружения «дала добро» орудию и приступила к усовершенствованию боеприпасов. В итоге немцам удалось разработать новый снаряд, нарастить скорость, что позволяло пробивать 16-мм броневой лист никелевой стали, то есть изделие имело куда лучшие характеристики, чем это требовалось тогда для поражения любого союзнического танка. Немцы построили около пятнадцати таких пушек и отправили их на фронт для полевых испытаний, завершившихся вполне успешно. В результате был заключен контракт на выпуск 2000 единиц данного вида продукции, при этом первым из них предстояло сойти со сборочных линий в январе 1919 г. Однако в ноябре 1918 г. враждебные действия приостановились, и ни одна пушка, помимо опытных образцов, в действующие части не попала.
Между тем разработки шли и в других местах. Фирмы Круппа и «Рейнметалл» -основные производители немецких пушек – тоже обратились к решению задачи. Дела у «Круппа» шли медленно и вяло, однако «Рейнметалл» произвела изделие, повсеместно считающееся первой в истории специализированной противотанковой пушкой – 37-мм панцерабверканоне. За основу был взят тот же самый боеприпас, что и у Фишера, однако орудие получило приземистый колесный лафет, на котором устанавливался 37-мм ствол и имелось сиденье для стрелка. Он сидел на нем как бы верхом на станине позади пушки и осуществлял наводку через выдававшийся высоко вверх прицел, тогда как помощник, встав на колено, оперировал затвором и производил заряжание. Специалисты «Рейнметалл» поработали и над боеприпасом и в итоге получили снаряд, вылетавший из ствола со скоростью 650 м в секунду, способный поразить 21 мм брони. В общем и целом изделие весило 135 кг, что позволяло легко выводить его на позицию вручную силами расчета, состоявшего из двух человек. Разработки завершились, и армия решила спустить заказ на производство орудия трем фирмам: «Крупп», «Рейнметалл» и третьей компании – «Хеншель». Контракт подписали 29 октября 1918 г., однако одного взгляда на дату хватает, чтобы с полным основанием предположить: никакой продукции, за исключением опытных образцов, так и не было выпущено.
37-мм снаряд приглянулся и французам, что, в общем-то, совсем не удивительно, поскольку они и изобрели его. Какое-то время они применяли маленькие «окопные пушки», стрелявшие одиночным 37-мм снарядом, которые, собственно говоря, оставались практически бесполезными, если не считать того, что несколько поднимали боевой дух пехоты на передовой. Но вот для пушки нашлась подходящая работа, и французы быстро приспособили ее в качестве противотанкового орудия. Вместе с тем, поскольку материальную часть немецких «танковых войск» в то время можно было сосчитать на пальцах двух, а то и одной руки, практической пользы от пушки было опять-таки мало. Аналогичное оружие применяла и австро-венгерская армия, которая тоже пробовала на зуб «противотанковое направление», однако ввиду почти полного отсутствия танков на восточных фронтах особо большого практического опыта в области применения средств противотанковой защиты там так никто и не накопил. В общем, когда Первая мировая война отгремела в 1918 г., существовало немало теорий противотанкового дела, но очень мало реальной основы под ними – проверенного в боях опыта противодействия бронетехнике.
В двадцатые годы XX столетия танковые доктрины занимали умы многих людей: ежемесячно появлялись какие-то новые теории, которые анализировались, обсуждались, выбрасывались в корзину, освобождая место новым идеям, а поскольку почти все эти теории по сути своей предусматривали применение танковых флотов, затоплявших собою поля сражений и выплескивавшихся прибойной волной за линии рубежей обороны противника, проблема противодействия таким армадам, конечно же, исследовалась и изучалась. Еще в 1920 г. британцы придумали вращающийся станок для 18-фунт. (83,8-мм) полевой пушки, который можно было перевозить на передке орудия, а в случае необходимости сбрасывать на землю. Затем расчет закатывал орудие на платформу, чтобы колеса сели на ровную поверхность, и с помощью втулки в середине станка монтировал на нем орудие. Таким образом, появлялась возможность быстро и без труда разворачивать пушку в направлении приближающегося танка. Идея работала, по сути дела, это был единственный способ для пушки с ограниченным углом горизонтальной наводки выполнять боевую работу по рассеянным и движущимся мишеням. Однако, убедившись в действенности концепции, ее благополучно положили на полку – не хватало денег для внедрения изделия в производство и выпуска его в массовом порядке.
Недостаток средств делал особенно привлекательными менее крупные пушки, которые в то же время обладали способностями поражать любые современные танки. Более того, особенно в Соединенном Королевстве, существовала кажущаяся на первый взгляд вполне обоснованной тенденция вооружать одними и теми же орудиями как танки, так и противотанковую артиллерию. Так выходило дешевле. Сторонники данной концепции выдвигали веский аргумент: у этих пушек будет один и тот же враг – неприятельские танки, а одна пушка на двух работах – это заведомая экономия денег. Однако данное соображение означало, что генераторы идей танковой войны заботились более всего о том, чтобы сделать танк самым действенным противотанковым оружием, а следовательно, изначальная идея, вызвавшая к жизни танк как таковой (получить средство сопровождения пехоты, способное уничтожать препятствия и помогать ей в выполнении ее задач), предавалась забвению. Однако первый аргумент выглядел убедительным и в итоге сделался основополагающим в Соединенном Королевстве.
Одной из весьма привлекательных маленьких пушек оказалась 20-мм «Эрликон». Она появилась на свет как авиационная пушка Беккера, разработанная в Германии в период Первой мировой войны в качестве вооружения для дирижаблей «Цеппелин» и бомбардировщиков «Гота», однако выпуск не успел достигнуть большого объема, когда война закончилась. Патенты и права затем купила швейцарская фирма «Зеебах», конструкторы которой установили пушку на колесный лафет и представили как противотанковое оружие. В 1923 г., однако, компания обанкротилась и ее «руины» перекупила машиностроительная фирма «Эрликон», которая изучила доставшуюся ей конструкцию и предложила ее вниманию армий нескольких стран. Хотя специалисты и пробовали пушку, готовность приобрести выражали немногие, по причине, прежде всего, думается, того, что никто не видел смысла в том, чтобы применять полностью автоматическое оружие против танков. Повредить тогдашний танк можно было и одним выстрелом, так к чему же выпускать по нему залп из десяти или пятнадцати снарядов? К чему класть столько яиц в пудинг? Не разумнее ли экономить драгоценные боеприпасы? Кроме того, было не ясно, сколько еще 20-мм пушка будет оставаться достойным противником танков, поскольку на смену тонкостенным машинам шли новые поколения, оснащенные более толстым бронированием. Так или иначе, в качестве противотанкового оружия пушка «Эрликона» не продавалась, что, возможно, пошло ей только на пользу, поскольку «Эрликон» «нашел себя» как зенитка и авиационная пушка. Разработанные для «Эрликона» боеприпасы привлекали некоторых разработчиков противотанковых ружей, правда, снова 20-мм калибр казался, с одной стороны, несколько чрезмерным для индивидуального оружия, тогда как по меркам артиллерии он был, напротив, слишком маленьким.
В общем, конструкторы решили подняться на ступеньку-другую повыше и сосредоточились на калибре 37 мм. Как уже говорилось, пионерами этого калибра еще в 1880-е годы были Гочкис и Максим. Причиной такой любви к 37 мм стала и подписанная в Санкт-Петербурге на исходе XIX столетия конвенция, поставившая вне закона все разрывные боеголовки весом ниже 400 г. Самой меньшей из боеголовок массой выше этой планки и являлся как раз 37-мм снаряд, а поскольку оба изобретателя нуждались в наиболее легком патроне для своих станковых пулеметов, они на нем и остановились. Гочкис создал роторную «пушку», а Максим знаменитый «помпом», и 37-мм калибр стал общепризнанным. Однако боеприпасы обоих этих «старых мастеров» для современной войны уже не годились, а посему, сохранив калибр, мастера новые удлинили патрон и сделали его более мощным.
Похоже, первыми оказались русские. В ходе Первой мировой войны они выпускали так называемую 37-мм пушку Розенберга, представлявшую собой небольшое орудие на колесах с маленьким щитом, расположенным очень близко к дульному срезу, и потому, вероятно, весьма нелюбимую расчетами, поскольку при такой компоновке артиллеристам при выстреле доставалась изрядная часть взрывной волны. Во время этой войны объем продукции не достиг сколь-либо серьезных размеров, однако после коммунистической революции изделие поставили на поток, так что к началу тридцатых годов в распоряжении армии имелось несколько тысяч таких орудий. Другой малоизвестной русской конструкцией была 37-мм пушка Маклена с затвором, работавшим автоматически по принципу отвода газов, с магазином на пять снарядов весом 480 г, которые покидали ствол со скоростью 650 м в секунду. Она имела колесный лафет со щитом, напоминала внешне полевую пушку и несла службу по крайней мере до 1930 г. Это изделие, выпускавшееся хотя и в меньших масштабах, чем пушка Розенберга, являлось, вероятно, лучшим противотанковым орудием своего времени, хотя мало кто за пределами СССР когда-либо слышал о ней.
Наверное, наиболее важными 37-мм орудиями можно назвать два из них, построенные в середине тридцатых годов XX столетия фирмами «Бофорс» в Швеции и «Рейнметалл» в Германии, поскольку они наиболее широко применялись, копировались и приобретались по лицензии. «Бофорс» построила несколько экспериментальных моделей, прежде чем добилась нужного результата. Одной из пробных моделей было совершенно нетипичное оружие, имевшее два ствола: один, 81-мм, для оказания поддержки пехоте осколочно-фугасными гранатами и второй, установленный над первым и пользующийся тем же противооткатным механизмом, 37-мм, стреляющий соответственно противотанковой «болванкой». Однако оригинальность не пошла изделию на пользу, и к 1934 г. на «Бофорс» пришли к новой конструкции – ствол калибра 45 мм на двухколесном лафете с раздвижными станинами и установленным под наклоном щитом. Пушка стреляла 700-граммовым снарядом со скоростью 800 м в секунду, что позволяло пробивать 20-мм бронирование с расстояния 1000 м. Более чем достаточно, принимая во внимание тогдашние танки. Оружие практически тотчас же приняли на вооружение Швеция, Дания и Финляндия, многие страны тоже поспешили приобрести его. Не осталась в стороне и британская армия в Египте, которая применяла эти пушки в североафриканской пустыне в 1941-1942 гг.; в Дании и Польше купили лицензию на производство, а более поздние японская и советская конструкции дают право предположить, что при разработке их создателей вдохновляла шведская «Бофорс», хотя никто и никогда в обоих случаях не отдавал дани признательности этой «музе».
Учитывая жесткие условия Версальского договора (1919 г.), положившего конец Первой мировой войне, «Рейнметаллу» приходилось действовать не в столь благоприятной атмосфере. Численность стволов и их калибр были строго ограничены. Тем не менее можно с уверенностью предположить, что работа над 37-мм пушками началась еще в двадцатые годы. К 1930 г. появились опытные образцы, а проведенные испытания указали на то, что необходимо будет улучшить. В 1933 г. началась разработка нового изделия, которая завершилась к 1936 г. появлением 3,7-см противотанковой пушки (панцерабверканоне) 36, известной под аббревиатурой РаК 36. Лафет имел колеса с надувными шинами и щит, конструкция обеспечивала угол горизонтальной наводки в 60° без необходимости передвигать станины – очень важная в тактическом смысле особенность. РаК 36 стреляла бронебойным снарядом массой 680 г с начальной скоростью 762 м в секунду, что позволяло пробить 48-мм бронирование с расстояния 500 м. Некоторое количество орудий отправилось в Испанию в составе легиона «Кондор», представлявшего собой немецкий экспедиционный корпус, посланный Гитлером на помощь националистским инсургентам во время гражданской войны 1936-1939 гг., где изделия прошли проверку боем против современных советских танков, поставляемых СССР республиканцам. Успешность РаК 36 говорит сама за себя – в период с 1937 по 1940 г. советская армия приобрела несколько сотен таких пушек. Для немецкой армии было выпущено более 20 000 единиц, и они оставались в строю вплоть до 1945 г., хотя к тому времени их оригинальные боеприпасы более уже не соответствовали требованиям и пушки приходилось применять по-иному. Как? Это мы увидим ниже.
Помимо двух только что названных пользователей нужно назвать Чехословакию, Эстонию, Финляндию, Грецию, Японию, Испанию и Турцию, которые покупали РаК 36, а также Нидерланды и США, где ее копировали. По всей видимости, это наиболее распространенная и широко применявшаяся противотанковая пушка в период до 1945 г. включительно.
Несмотря на очевидную привлекательность 37-мм калибра, имелись у него и конкуренты. Фирма Гочкиса во Франции выпускала довольно эффективное 25-мм орудие на колесном станке, называвшееся «канон лежер де 25 анти-шар» SA-L модель 1934 (т.е. 25-мм легкая противотанковая пушка образца 1934 г.) и стрелявшее 320-граммовым бронебойным снарядом, покидавшим ствол со скоростью 950 м в секунду и пробивавшим 40-мм бронирование с расстояния 500 м; изделие нашло применение также в Финляндии, Польше, Испании и – хотя и в меньшей степени – в Соединенном Королевстве. Французское военное руководство решило между тем, что 34 SA вполне подходит как вооружение для пехотных батальонов (пушка весила всего 496 кг, что позволяло легко передислоцировать ее вручную), для дивизионных противотанковых полков требуется что-то посолиднее, а потому вдохновила оружейников из арсенала Пюто на разработку 47-мм «канон де 47 анти-шар» SA модель 1937. Получилось грозное противотанковое оружие, стрелявшее 1,725-кг (3,8-фунт.) бронебойным снарядом со скоростью 855 м в секунду и поражавшее 70-мм бронирование с расстояния 800 м, очень разумно скомпонованное изделие с низко сидящим стволом и раздвижным хоботом лафета, обеспечивавшим 68° горизонтальной наводки, при этом весившее 1070 кг. Однако, как происходило со многими французскими вооружениями в тот период, выпуск шел низкими темпами, так что, когда немецкая армия в мае 1940 г. обрушилась на Францию, защитники ее располагали всего-навсего 1120 такими орудиями. Хотя само по себе число кажется довольно внушительным, разделив его на 94 дивизии, получим всего 12 стволов на дивизию.
Британцы изучали различное противотанковое оружие, которое разрабатывали конструкторы по всему свету, и наконец остановились на собственном варианте, заказав компании «Виккерс-Армстронг» пушку, которую военные хотели использовать и как танковую. Последнее условие должно было неминуемо отразиться на размерах изделия, поскольку его приходилось бы устанавливать в танковых башнях, а они в тот период времени особым простором не отличались. Словом, решением стала 2-фунт. пушка калибра 40 мм. Версия 2-фунт. противотанкового скорострельного* орудия (Ордненс, QF, 2-фунт.) для применения пехотой являлась, наверно, наиболее роскошной из существовавших. Она устанавливалась на колесном лафете с тремя станинами, которые раздвигались, образуя устойчивый трехногий станок. Колеса отрывались от земли, и за счет применения двухскоростного механизма пушка могла очень быстро и точно наводиться по горизонтали на цель, вращаясь на все 360°, полуавтоматический затвор позволял поддерживать высокий темп огня, при этом – поскольку орудие оснащалось великолепным оптическим прицелом – даже в условиях плохой видимости. Что же касается технических характеристик, то 2-фунт. противотанковая пушка стреляла 1,08-кг (2,38-фунт.) бронебойным снарядом со скоростью 792 м в секунду и пробивала 42-мм бронирование под углом 30° на дистанции 915 м (1000 ярдов).
Единственная сложность заключалась в массе, которая составляла 832 кг, что почти вдвое превосходило вес немецкой РаК 36 и 25-мм пушки Гочкиса, при практически одинаковой бронепробиваемости. Для трех или даже четырех нагруженных снаряжением пехотинцев это было, пожалуй, тяжеловато, и в 1938 г. ответственность за противотанковую оборону переложили с пехоты на Королевскую артиллерию, которая располагала необходимой живой силой и тактическая доктрина которой предусматривала больший процент механизации.
Хотя двухфунтовка в 1938 г. могла справиться практически с любым танком-современником, находились люди, предполагавшие возможное появление в ближайшем будущем более мощной бронетехники, и вот в том же году командование британской артиллерии заказало 6-фунт. пушку калибра 57 мм. Сконструированный прототип прошел испытания, однако финансовые ограничения вынуждали военных тратиться на оружие сегодняшнего, а не завтрашнего дня, вследствие чего 6-фунт. пушке пришлось ждать своего часа.
У тех же, кто не был столь стеснен в средствах, проблема обновления тоже решалась не так легко, как могло бы показаться. В 1938 г. немецкая армия потребовала наследницу своей 37-мм пушке, в ответ на что «Рейнметалл» представила 5-см РаК 38. Она стала первой противотанковой пушкой, которая выводила подобное вооружение за рамки категории «толкают двое», превращая его в настоящее – в буквальном смысле «полновесное» – артиллерийское орудие, каковым и стали в дальнейшем все противотанковые пушки. 5-см РаК 38 имела традиционную конструкцию, оснащалась эффективным дульным тормозом, лафетом с раздвижным хоботом и двумя колесами на надувных шинах и весила 986 кг. РаК 38 казалась слишком большой и тяжелой по привычным для того времени стандартам, однако вела огонь мощным 2,25-кг бронебойным выстрелом (АР) со скоростью 825 м в секунду, что позволяло пробивать 60-
• Термин «скорострельное» не подразумевает какого-то особенно высокого темпа огня. Это дань давней традиции. Он применялся в Великобритании ко всем орудиям, оснащенным противооткатным механизмом, что избавляло расчеты от необходимости выкатывать пушку на позицию после производства выстрела и потому давало возможность сразу же перезаряжать его. – Прим. пер.
мм бронирование с расстояния 1000 м. Что еще очень важно, так это то, что боеголовка снаряда не просто пробивала броню, но и обладала способностью нанести серьезный ущерб всему и всем находящимся внутри машины.
Тут, пожалуй, и наступает момент повнимательнее присмотреться к тому, какие боеприпасы применялись тогда для противодействия бронетехнике. В 1938 г., если не считать одного-другого тщательно охраняемого покровами секретности эксцентрического изобретения, имелось всего два вида общепризнанных боеголовок, способных поразить бронирование: бронебойный выстрел (АР) и бронебойный снаряд. У обоих была длинная биография, уходящая корнями в семидесятые годы XIX века, когда появились облаченные в стальные доспехи боевые корабли. Бронебойный выстрел представлял собой стальную боеголовку, обычно с особо закаленным наконечником и более мягким, но прочным основанием. Это сочетание особо важно: сильно закаленный наконечник служил идеальным средством для «прокалывания» отверстия в броневой плите, однако его жесткость неминуемо подразумевала и значительную степень ломкости (так сказать, экстремальным примером для наглядности тут может послужить стекло), а поскольку снаряд очень редко встречался с броней под углом в «чистые» 90°, при прохождении листа боеголовка испытывала неравномерное и довольно сильное боковое давление. Поэтому основание должно было быть менее ломким и способным выдержать боковое давление. Только так, в сущности, неломкая основа боеголовки могла добавить силы закаленному наконечнику. Он «надкусывал» броню, выступая в роли кернера, а кинетическая энергия давала возможность боеголовке проходить дальше через толщу листа. Ущерб находящимся в танке наносился за счет осколков, отслаивавшихся от внутреннего слоя брони, а также за счет возможного разрушения боеголовки к моменту, когда она преодолевала преграду.
Бронебойный снаряд, со своей стороны, имел аналогичный закаленный сердечник, однако неглубоко просверливался со стороны донышка, заполнялся взрывчатым веществом и запечатывался запалом. При встрече с преградой происходило следующее: острие пробивало броню, затем под воздействием резкого снижения скорости срабатывал детонатор, после чего с коротким интервалом, во время которого боеголовка прокладывала себе путь через броню, заряд взрывался внутри танка (в его заброневом объеме), раня или убивая экипаж.
Неоспоримое преимущество выстрела перед снарядом заключалось в большей массе первого при одинаковом калибре, что позволяло «сплошной» боеголовке наносить более сильный удар по бронированию, что гарантировало более высокий процент вероятности его пробития. Недостаток же выстрела состоял в его сравнительно меньшей (по сравнению со снарядом) способности наносить ущерб танковому экипажу, которому угрожали лишь осколки металла.
В отличие от выстрела, снаряд мог уничтожить или тяжело ранить членов экипажа в результате взрыва в заброневом объеме машины. Однако при меньшей массе и, соответственно, меньшей энергии он рисковал так и не пробить бронирование в тех случаях, когда это с успехом удавалось выстрелу того же калибра. Производство бронебойного снаряда было более сложным, требовало точного срабатывания взрывателя, чтобы взрыв заряда происходил непременно после преодоления бронирования, кроме того, такая боеголовка, ввиду наличия внутри нее полости, оказывалась менее устойчивой перед боковыми нагрузками, что порой приводило к тому, что детонатор вылетал из снаряда, как пробка из бутылки с шампанским, еще до того, как успевал сделать свое дело. Существовала и еще одна проблема – где взять взрывчатку, достаточно инертную для того, чтобы она оказалась нечувствительной к сильнейшему удару при встрече с броней, но при этом была бы готовой сработать от детонатора, в то же время, принимая во внимание тот факт, что на заряд приходилось не более 4 процентов массы снаряда, возникал естественный вопрос, а стоит ли вообще все это такой возни?
В ту эпоху, когда бронебойные снаряды не знали иной цели, кроме боевых кораблей, подобные сложности в основном себя оправдывали: достаточно вспомнить, что снаряд 16-дюйм. (406-мм) пушки весил 1000 кг, при этом даже такой низкий процент взрывчатого вещества давал удовлетворительные результаты. Однако при значительно меньшем калибре противотанковых пушек хитроумно сработанные бронебойные снаряды казались некоторым военным какой-то уж чрезмерной роскошью. И вот тогда, когда многие армии на континенте все же отваживались на разработку бронебойных снарядов, британцы решили, что обойдутся одними бронебойными выстрелами. Вместе с тем, чем бы ни стреляла пушка, выстрелом или снарядом, для поражения танка требовалась очень высокая скорость полета боеголовки, что позволяло увеличить кинетическую энергию, а заодно и сократить время ее нахождения в полете, чтобы движущаяся мишень не успела переместиться. Для достижения скорости требовался мощный патрон и длинный ствол, а потому попытки увеличить эффективность орудия неизбежно приводили к росту его размеров.
Именно это и происходило во время Второй мировой войны. «Рейнметалл» несколько замешкалась с вводом в серию 5-см РаК 38, а потому в кампаниях в Польше и во Франции немцы обходились 37-мм РаК 36. Когда же РаК 38 наконец появилась в действующих частях, уже близился к концу 1940 г. Однако РаК 36 вполне хватало для польской бронетехники в 1939 г., поскольку всю ее представляли легкие танки и танкетки, равно как, впрочем, и для противодействия большинству британских и французских танков в 1940 г. Однако же не всех. К тому времени британцы и французы обзавелись уже отдельными моделями хорошо бронированных танков, а именно британской «Матильдой» II и французским «Char В» (букв, танком В), так что расчетам немецких 37-мм противотанковых пушек пришлось пережить несколько неприятных моментов, наблюдая, как боеголовки их орудий отскакивают от вражеских танков, точно орехи от стенки. Особенно тяжело пришлось немцам под Аррасом 21 мая 1940 г., когда англо-французская ударная группа, наскоро сколоченная из британской 1-й армейской танковой бригады (оснащенной танками «Матильда» с их 78-мм броней)*, французской 3-й легкой механизированной дивизии (с танками SOMUA 35, имевшими 40-мм бронирование) и батальона Даремского легкого пехотного полка**, ворвалась в боевые
• • На самом деле в контратаке под Аррасом приняли участие два батальона Даремского легкопехотного
полка (ДЛП) – 6-й и 8-й. Оба они принадлежали к 151-й пехотной бригаде (бригадира Джона Атертона Черчилля) 50-й (Нортумберлендской) дивизии генерал-майора Джиффарда Ле Кена Мартеля. Общее руководство боевыми действиями союзников в районе Арраса осуществлял британский генерал-майор Гарольд Эдмунд Фрэнклин, командовавший «Фрэнкфорс» -группировкой, в которую помимо его собственной 5-й пехотной дивизии входили 50-я пехотная дивизия и 1-я армейская танковая бригада. Первоначально планировалось, что в контрударе вместе с
порядки 7-й танковой дивизии генерала Роммеля, расколола ее надвое, потрепала два немецких стрелковых полка и вызвала панику в рядах соседней дивизии СС, обратив ее в бегство*, Роммель сумел организовать оборону и, видя, что от противотанковых пушек толка мало, потребовал от командования бездействовавшего в сторонке зенитного полка развернуть свои 88-мм орудия FlaK 18 против союзнических танков, что позволило немцам остановить прорыв. Повсеместно принято считать, что то был первый случай применения 88-мм зениток против бронетехники, однако, в похожей ситуации в подобном качестве использовал их легион «Кондор» и гораздо раньше – во время гражданской войны в Испании (о чем уже упоминалось выше). В том, первом случае они вели огонь осколочно-фугасными гранатами – обычными боеприпасами зенитных орудий. Однако инцидент подвергся разбору и изучению, вследствие чего вторичной задачей 88-мм пушки стала считаться противотанковая борьба, с каковой целью орудие оснастили прицелом для ведения огня прямой наводкой и разработали бронебойный снаряд. Именно благодаря наличию этого боеприпаса и удалось 21 мая 1940 г. остановить «Матильды».
Не успела еще 5-см РаК 36 пойти в серийное производство, а немецкая армия уже искала более мощное вооружение. Так, в 1939 г. она спустила промышленникам требование на разработку 75-мм противотанковой пушки. Концерн Круппа и «Рейнметалл» пошли каждый своим путем. «Рейнметалл» – самым простым. Разработчики взяли за основу 5-см РаК 38 и создали на ее базе 7,5-см РаК 40, представлявшую собой в общем и целом более крупную версию РаК 38. Изделие весило 1500 кг и стреляло 6,8-кг бронебойным снарядом со скоростью 792 м в секунду, что позволяло поражать 116-мм бронирование с расстояния 100 м. После нескольких