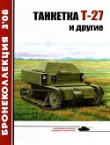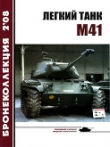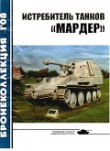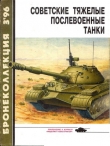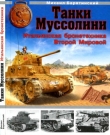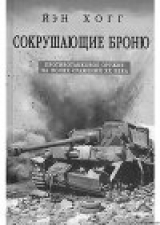
Текст книги "СОКРУШАЮЩИЕ БРОНЮ - ПРОТИВОТАНКОВОЕ ОРУЖИЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ XX ВЕКА"
Автор книги: Йэн Хогг
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Британцы тоже отдавали должное твердости и плотности вольфрама, однако считали задачу изготовления сужающегося ствола трудноразрешимой и потому не стали терять времени на изыскания. Когда же сбежавший от немцев чешский оружейник явился к военным в Британии с такой идеей, ему, образно выражаясь, нахлестали по щекам и выставили с высокомерным напутствием. «Сей прибор годится для чего угодно, только не для применения в военных целях», – заявили в Министерстве вооружений, даже и не зная, что запущенные в производство фирмой «Рейнметалл» пушки с сужающимися стволами уже действуют в североафриканской пустыне.
В общем, британцы взяли небольшой сердечник из того же вольфрама и нарастили его до нужного калибра за счет легкого сплава. Так появился снаряд для 57-мм пушки, весивший менее 4 фунт. (1,81 кг) и вылетавший из ствола со скоростью 1076 м в секунду. На малых дистанциях боеголовка показала отличные результаты, однако на более далеких расстояниях сказывался недостаток массы, и показатели резко снижались. Трудно было бы ожидать чего-либо другого: тут весь вопрос в «несущей мощности», которую специалисты в области баллистики часто подкрепляют вот таким наглядным примером: «Допустим, я брошу в вас шариком для пинг-понга и биллиардным шаром, при учете того, что скорость будет одинакова. Какой из них поразит вас с большим эффектом?» Ударную энергию составляют масса и скорость, следовательно, при равном ускорении более тяжелый снаряд будет действовать с большим разрушающим эффектом. Таким образом, как только оснащенная вольфрамовым сердечником боеголовка, «бронебойный композитный стержень» (Armour Piercing Composite Rigid – APCR, по-русски БПС), или бронебойный подкалиберный снаряд с сердечником сравнивался по скорости с обычным стальным, бронепробиваемость БПС значительно понижалась. Подкалиберный снаряд с сердечником (APCR) терял скорость просто потому, что ему не хватало массы для создания «махового эффекта», поддерживающего скорость более тяжелого снаряда.
К тому времени, как в начале 1943 г. бронебойный подкалиберный снаряд с сердечником (APCR) поступил на вооружение, британцы захватили и даже испытали образцы немецких 28-мм орудий с сужающимся стволом. Эксперты не стали отрицать разумности решения, однако перспектива внедрения сужавшихся стволов при производстве артсистем в Соединенном Королевстве во время войны, когда все производственные мощности работали на пределе, а возможности для экспериментирования были весьма ограничены, представлялась довольно призрачной. Примерно в то же время двое ученых из Научно-исследовательского Центра вооружений в Форт-Холстед в графстве Кент вспомнили о докладе французского конструктора Эдгара Брандта, который тот сделал еще перед войной в попытке повысить дальность огня устаревшей французской 75-ммполевой пушки. Брандт взял боеголовку меньшего калибра, снабдил ее более легкими по весу «воротничками» так, чтобы снаряд подходил к 75-мм стволу, и произвел выстрел. Вся боеголовка обладала меньшей массой, чем обычный 75-мм снаряд, и потому покинула дуло с большей скоростью, в то время как оболочка была сконструирована так, чтобы отделяться от сердцевины по выходе из ствола. В результате меньший снаряд летел с более высокой скоростью, чем обычный 75-мм, и преодолевал большее расстояние. Брандт начал развивать идею, однако поражение Франции привело к прекращению исследований в данном направлении. Двое британских ученых, Л. Перматтер и СУ. Коппок, не преследовали цели повышения дальности огня как таковой, однако понимали ценность приобретения в скорости, а потому приступили к изготовлению боеголовки с вольфрамовым сердечником, помещенной в более легкий
«башмак», соответствующий по диаметру стволу Башмак, оболочка или поддон, был сконструирован довольно хитроумно. Он начинал разламываться уже по мере прохождения снаряда через ствол, однако крошился и разлетался в разные стороны только по выходе боеголовки оттуда под влиянием момента вращения, после чего вольфрамовый сердечник устремлялся к цели с очень высокой скоростью. Проведя несколько проб с 20-мм стволом, разработчики воплотили свои изыскания в «подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном» (Armour Piercing Discarding Sabot -APDS) для 6-фунт. пушки. Снаряженный, он весил 3,25 фунт. (1,47 кг), достигал начальной скорости полета в 1234 м в секунду и пробивал 146-мм броневой лист на дистанции 1000 ярдов (915 м). В действующие части APDS поступил в июне 1944 г., как раз к началу боев в Нормандии.
Очень кстати для британцев, поскольку к 1944 г. танкостроители шагнули далеко вперед по сравнению с уровнем 1939 г. Танковое бронирование стало куда более толстым (немецкий «Тигр» II имел 100-мм лобовую броню корпуса и 150-мм – башни, тогда как «Ягдтигр» – 250-мм лобовую и 150-мм – башни), значительно улучшилось и вооружение машин. «Тигр» II оснащался 88-мм пушкой, способной вывести из строя любой танк с расстояния свыше 1500 м, а «Ягдтигр» – 128-мм пушкой, пробивавшей 200 мм брони на дистанции 1000 м. Показателей этих немцам пришлось добиваться без применения вольфрама, поскольку союзническая блокада фактически лишила их притока вольфрамовой руды, так что в 1943 г. все запасы ценного материала были отданы на изготовку производственного оборудования и с применением вольфрама для изготовления боеприпасов пришлось покончить.
Британия подобных трудностей не испытывала, а посему продолжала разработку APDS для 17-фунт. (76,2-мм) противотанковой пушки, в то время как американцы приступили к работе над APCR и APDS, предназначенных для 76,2-мм (3-дюйм.) и 90-мм (3,54-дюйм.) орудий.
К тому времени военные специалисты на практике изучили слабые места танков. Стрелков учили целиться в «центр видимой массы» объекта, а не умничать и выбирать какие-то особые места, между тем опытный и хорошо знающий орудие, прицел и боеприпасы наводчик мог обычно с более близкого расстояния выбрать некую наиболее подходящую точку, при условии, что цель оказывалась достаточно любезной для того, чтобы позволить ему сделать это. Если танки шли в лобовую, то особенно выбирать не приходилось, однако, когда выдавалась возможность выстрелить в борт или в корму, тут предоставлялся некий «простор для творчества». Лучшим выбором служил, конечно, моторный отсек, поскольку борта и корма отличались, как правило, более слабой защитой: одного снаряда могло хватить, чтобы лишить танк подвижности. Однако и потерявший ход танк продолжал представлять опасность – башня вращалась, и орудие продолжало стрелять, – вместе с тем он становился лучшей мишенью, тогда можно было надеяться вторым выстрелом в корпус вывести из строя экипаж осколками или же вызвать детонацию боеукладки, что приводило к взрыву всей машины. На выбор, стрелок мог прицелиться под башню. Любое попадание в эту уязвимую область могло при вести к ее заклиниванию. После того как она переставала вращаться, в дело могли вступить пехотинцы, которые, подкравшись с безопасных направлений, получали возможность заложить подрывной заряд. Или же артиллерист мог сделать третий выстрел и прикончить машину.
Немецкие солдаты на Восточном фронте открыли для себя уязвимость советского Т-34 в области башенного погона и разработали почти самоубийственную тактику, которая, как правило, срабатывала, хотя пехотинец и шел на очень большой риск. Солдаты заготавливали подрывной заряд, состоявший часто из связки гранат, дожидались, когда танк проследует мимо, запрыгивали на крышку моторного отсека и подсовывали связку под башню, выступавшую и как бы нависавшую над корпусом сзади. Взрыв в таких случаях всегда приводил как минимум к заклиниванию башни, а при более удачных обстоятельствах даже сдвигал ее с погона и уничтожал экипаж.
Если же командир танка открывал люк для лучшего обзора – а так поступали многие, -он становился особенно уязвимым. После первых высадок британцев в Италии в июле 1943 г. сержант Эванс из Дорсетширского полка командовал взводом, дислоцированным на основной дороге в месте, где та пролегала через пролом в горе. Когда появился взвод немецких бронемашин и головной автомобиль поравнялся с позицией Эванса, тот выпрямился и пропихнул гранату в открытую башню, уничтожив экипаж. Машина, естественно, встала и заблокировала дорогу, а потому оставшимся немецким бронеавтомобилям пришлось отступить. Так Эванс заработал наградную планку к своей Военной медали.
Конечно же, гусеницы всегда были уязвимы перед минами, артиллерийскими снарядами и подрывными зарядами, хотя иногда из-за довольно большого расстояния между траками и катками подрывной заряд взрывался, не причиняя особо сильного вреда. Артиллеристы редко метили в гусеницы, прежде всего потому, что танки обычно находились в таком положении, что траки их не слишком хорошо просматривались. Однако, если стрелок все же бил по ходовой части и при этом промахивался по механизмам, снаряд неизбежного попадал в корпус и пробивал его, так что какой-то результат такая стрельба все равно давала.
Между тем, как уже говорилось выше, избрав целью гусеницы или катки, атакующий лишал танк подвижности, но и после этого он продолжал оставаться опасным, так что приходилось продолжать бой, чтобы заставить замолчать вооружение.
Кроме артиллерийского огня, мин и гранат использовались и другие средства, в том числе пламя, поскольку танк нес в себе горючее и боеприпасы. Если оно добиралось до того или до другого, последствия бывали обычно весьма легко предсказуемыми. Тут нельзя сбрасывать со счетов и психологический эффект – трудно не утратить душевное спокойствие, сидя в стальном ящике, перед угрозой струи жидкого огня. Между тем, принимая во внимание то, что танки были сконструированы с умом, а их топливо и боеукладка тщательно защищались, при условии, что экипаж сохранял выдержку, пламя вряд ли могло привести к фатальным результатам. Горящая жидкость часто сгорала и стекала на землю, и, если водитель продолжал движение, а стрелок бил по источнику огня, для танка имелись все шансы выйти победителем из схватки. При известной вязкости горючей жидкости была велика вероятность того, что она, попав на гусеницы и катки, вызовет возгорание резины, что, однако, тоже не послужит условием немедленного выхода танка из строя.
Во многих посвященных боевому искусству текстах рекомендуется бросать зажигательные гранаты на крышку моторного отсека в расчете на то, что это вызовет воспламенение системы подачи топлива, однако зажигательные гранаты не находили обычно широкого применения (если не считать недоброй памяти британской гранаты № 76, о которой мы тут говорить не будем) и часто взрывались на крышке двигателя без малейшего вреда для последнего. Не обходят наставления вниманием и бутылки, начиненные воспламеняющимися жидкостями, – «коктейли Молотова». В служебном руководстве «Борьба с танками и методы их уничтожения. Брошюра по обучению личного состава № 42», изданном в августе 1940 г., говорится: «Бомбы следует бросать на жалюзи и вентиляционные отверстия, чтобы горящая жидкость проникала в танк и сделала его непригодным для жизнедеятельности экипажа или же привела к возгоранию машины… Не следует подчиняться первому импульсу просто метнуть снаряд в танк. Лучше всего бросать бомбу с навеса, в том случае, если нельзя сделать это из окна здания или с какой-то другой, расположенной над танком, позиции…»
Газ также относился к перечню вооружений, которые часто упоминались в период с 1938 по 1940 г. И снова, если экипаж не поддавался панике и надевал маски, он не подвергался особой опасности, поскольку самому танку газ никакого вреда принести не мог. Самая большая сложность для атакующего заключалась прежде всего в том, чтобы газ попал внутрь танка. Тут немцы опять проявили находчивость: помимо боеприпасов с бронебойными сердечниками для 7,92-мм противотанкового ружья имелись и такие пули, которые содержали в себе маленькие капсулы со слезоточивым газом. Предположительно – никто так и не обнаружил официального подтверждения целей этой немецкой инновации – задача состояла в том, чтобы пуля, преодолев бронирование, высвободила газ внутри танка и, вызвав приступы кашля и слезы у экипажа, заставила его потерять контроль над машиной на достаточно долгий период времени, который позволил бы какому-то по-настоящему смертоносному оружию сказать свое решающее слово. Если затея действительно состояла в этом, то надо сказать, что она провалилась, ибо никто никогда не докладывал о том, что стал объектом действия слезоточивого газа после попадания в боевое отделение танка немецкой противотанковой пули. Образчики данного вида боеприпасов достались союзникам только в 1941 г., когда при исследовании трофеев и выяснилось наличие в пуле капсулы с газом.
Противотанковые заграждения продолжали оставаться модными и в 1944 г. Они служили двум целям: первое, довольно крупное препятствие побуждало командира танка попытаться прорваться где-то в другом месте, найти более легкий путь, где машину могли ожидать засады с противотанковыми пушками или тому подобным вооружением; не слишком большое препятствие, вне сомнения, замедляло продвижение танков и часто вело к тому, что при преодолении его машина подставляла наиболее уязвимое «брюхо». Хватало одного прицельного выстрела, чтобы поразить танк, перебирающийся через завал из бревен или камней.
Война закончилась в 1945 г., и союзники осознали, что им остро не хватает противотанкового оружия. Существовавшие противотанковые орудия позволяли справляться с имевшейся в наличие у немецкого противника бронетехникой, но им было бы не под силу эффективно поражать защищенные лучшим бронированием и обладавшие лучшей маневренностью советские танки нового поколения. Противотанковые пушки, находившиеся в процессе разработки на момент завершения войны, оказались на деле чудовищами, применять которые в реальном бою стало бы едва ли возможным. Надежда возлагалась на новые «поросли» танков – на то, что они выправят баланс, – однако даже в 1949 г. находилось немало специалистов, считавших, что пушка стала сильнее танка, а посему дни последнего на полях сражений сочтены. Вторжение в Южную Корею в 1950 г. наступило на горло этой песне, а также подтвердило мнение, которое многие американские солдаты не устали озвучивать еще с лета 1944 г., а именно то, что стандартная 2,36-дюйм. (60-мм) базука как средство противотанковой защиты более себя не оправдывает. В спешке бросились завершать разработку запланированного 3,5-дюйм. (89-мм) гранатомета, так что в 1951 г. на фронт в Корее пришла «супербазука».
По мнению многих, выходом могли бы послужить безоткатные орудия (RCL). Обычные противотанковые пушки стали слишком громоздкими, что затрудняло их тактическое применение, в то время как безоткатное орудие того же калибра было намного легче, что обеспечивало войска подвижным крупнокалиберным вооружением. Конечно, скоростные характеристики таких орудий не шли ни в какое сравнение с обычными пушками, так что APDS и другие боеголовки, использовавшие для поражения цели кинетическую энергию, оказывались совершенно бесполезными. Однако конструкторы уже сполна убедились в возможностях кумулятивных зарядов и хорошо разобрались в технологии их действия. Между тем британцы разработали боеприпасы совершенно нового типа, которые они назвали бронебойно-фугасными снарядами, или снарядами высокой взрывной мощности с деформируемой головной частью – HESH (High Explosive Squash-Head).nponje говоря, смысл состоял в том, чтобы с помощью пластифицированного взрывчатого вещества произвести взрыв и оторвать часть внутренней стороны бронирования вовнутрь танка. Такие осколки могли бы уничтожить всё и вся внутри боевого отделения. Как и кумулятивный заряд, HESH не зависел от скорости. Хватало того, что он попадал в броню танка и «прилипал» к ней, так сказать, независимо от «способа доставки».
Таким образом, орудия RCL и боеприпасы HESH становились естественными партнерами, как, впрочем, и полевая артиллерия, которая могла пользоваться ими для самообороны, и, собственно, танки, способные применять данные боеприпасы для атаки. Американцы переняли у британцев идею, нарекли снаряды «взрывчатыми пластифицированными» (НЕ/Р – HE/Plastic), хотя явно продолжали отдавать предпочтение кумулятивным зарядам.
Проходившее после войны изучение немецких экспериментальных объектов, допросы персонала и прочие меры выявили ряд любопытных для союзнических изыскателей фактов. Воображение публики приковывали ракеты Фау-2 и тому подобные грандиозные проекты в области вооружений, в то время как специалистов в большей степени интересовали разработки не столь широкого масштаба: так, например, три реактивных снаряда Х-7 (или «Роткеппхен», букв, «красная шапочка»), «Штайнбок» и «Пфайфенкопф» («горный козел» и «головка курительной трубки»). Все они разрабатывались как противотанковое вооружение, а Х-7, вне сомнения, являлась предтечей противотанковых ракет. Мы еще вернемся к ним и поговорим о них позднее подробнее в соответствующем разделе, здесь же скажем лишь, что ученые оценили перспективы находок и принялись проводить исследования в плане дальнейшей разработки. Между тем в Британии особого интереса в официальных кругах подобные проекты не вызывали и все изыскания протекали, так сказать, на уровне приватной инициативы. В США реакцию тоже можно назвать вялой. А вот во Франции, напротив, отнеслись к данному направлению с полнейшим интересом – в 1948 г. официальная группа специалистов приступила к разработкам, а в 1955 г. первые противотанковые снаряды поступили на вооружение, чтобы быть проверенными в условиях реального боя израильтянами в 1956 г. во время Синайской кампании. В 1954 г. американцы приобрели прототипы, тотчас же осознали, какую промашку допустили, не проявив должной заинтересованности с самого начала, и приступили к разработкам. Австралийцы, пораженные полнейшим равнодушием британского военного официоза, в 1951 г. учредили свою собственную программу и к 1956 г. получили результат. Советы зашевелились примерно в то же время (точную дату установить не представляется возможным) и в начале шестидесятых годов наладили производство своих реактивных противотанковых снарядов, и, соответственно, в 1967 г. египтяне уже применяли их против израильтян. С тех пор военные не выпускали процесс из-под контроля, и новые образцы данного оружия периодически поступали в войска разных стран.
Реактивные снаряды (или ракеты) имели два преимущества: во-первых, они позволяли вести более или менее точный огонь, а во-вторых, обладали способностью нести более крупную боеголовку, т.е. могли поражать цель значительно более мощным зарядом, чем пушка, выведенная на примерно одинаковую позицию на поле боя. Имелись, разумеется, и недостатки: в первую очередь то, что называют «демаскировкой позиции при выстреле» (громкий взрыв и вспышка в момент запуска реактивного снаряда), хотя в той или иной степени подобное свойство присуще почти всем видам противотанкового вооружения. Не стоит забывать о тихоходности ракеты, в процессе полета которой стрелку приходилось, стоя на одном месте, плотно сжав зубы, чтобы они не стучали от страха, направлять снаряд, вне зависимости от того, что противник ведет огонь по его позиции. Ну и, конечно, никак нельзя пройти мимо поразительно высокой стоимости изделий, достигающей в некоторых случаях $15000 за единицу, что ведет к тому, что подготовку личного состава приходится проводить не с настоящими ракетами, а с муляжами и «игровыми автоматами». Однако, если уж начинать считать деньги, то баланс будет в пользу ракет – в конце концов, $15000 не так уж много в сравнении с более чем миллионом долларов, в которые обходится танк. Другие недостатки тоже можно свести к минимуму за счет более тщательной подготовки личного состава.
«Малкара», австралийский реактивный снаряд, можно считать уникальным в плане применения в нем боеголовки HESH. Массивная ракета несла мощный пластифицированный заряд, попадание которого в цель гарантировало превращение в груду обломков любого танка. В остальных же случаях в качестве универсальной боеголовки служил кумулятивный заряд, размеры ее – и соответственно поражающая способность – могли достигать внушительных параметров. Так, например, ракета MILAN позволяла пробить гомогенный броневой лист метровой толщины. Реактивный снаряд или ракета заставлял экипажи танков содрогаться от страха, а следовательно, приходила пора сказать свое слово специалистам в области танкового бронирования.
Однако не успели они еще сделать шаг в этом направлении, как появилась другая угроза. В шестидесятые годы Советы, твердо убежденные в необходимости выжать максимум скорости из орудия, пошли на необычное нововведение – вооружили танк гладкоствольной пушкой. В основу данной идеи легло то соображение, что вращение снаряда в нарезном канале ствола поглощает значительную долю энергии движущего заряда. Снизив трение – попросту удалив нарезку, – можно было претворить значительную часть энергии сгорания заряда в скорость боеголовки. Тут, разумеется, возникала одна сложность – стрельба продолговатым, или «стреловидным», снарядом из гладкоствольной пушки приводила к серьезному рассеиванию огня, ведь именно для преодоления этого недостатка некогда и изобрели нарезной канал. Между тем с тех пор в баллистике и аэродинамике тоже произошли некоторые подвижки, а потому ответом стало внедрение стабилизатора. На практике все оказалось не так просто, как ожидали советские ученые и военные: первое испытание провалилось, и пришлось все же прибегнуть к возвращению нарезки на небольшом участке канала, чтобы «закрутить» снаряд, хотя в основе своей ствол остался гладким. После необходимых усовершенствований все пошло как надо.
Впрочем, успех означал, что придется выпускать новые боеголовки. Гладкоствольная пушка оказалась идеальной для применения кумулятивных зарядов, поскольку для последних всегда было предпочтительнее отсутствие стабилизации вращением. Заставить работать без вращательного момента APDS (БПС с отделяющимся поддоном) оказалось куда более сложной задачей, однако в процессе ее решения удалось найти еще одно интересное решение, которое состояло во внедрении длинной, оснащенной стабилизатором суббоеголовки (содержавшей, разумеется, вольфрамовый сердечник), вокруг которой находилась оболочка, или поддон, размера, соответствующего диаметру канала ствола. Длинным снаряд приходилось делать для обеспечения стабилизации и, соответственно, точности, однако за счет длины изделия добавлялся и недостающий сердечнику вес. Такой ход принес вполне приемлемый результат, поскольку при значительном ослаблении трения появлялась возможность применять более мощные снаряды (или, точнее, выстрелы), а достигаемой скорости оказалось более чем достаточно. Дополнительный выигрыш состоял в том, что возрастание массы при сохранении существующего диаметра вело к увеличению силы воздействия снаряда (выстрела) при ударе сердечника на остающийся прежним по размерам участок поражаемой брони, что повышало бронепробиваемость.
Не прошло и десяти лет, как все страны, в армиях которых имелись танки, взяли на вооружение оснащенные стабилизатором снаряды, названные у британцев APFSDS (Armour-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot – «бронебойный подкалиберный стабилизируемый в полете снаряд с отделяющимся поддоном»), причем даже и в тех случаях, когда орудия остались прежними – нарезными. При сохранении нарезного канала на поддоне снаряда применялся скользящий уплотнительный манжет, который запирал высвобождающиеся при сгорании заряда газы и вращался в соответствии с нарезкой канала, не сообщая сколь-либо значительного вращательного момента снабженной стабилизатором суббоеголовке или самому подкалиберному выстрелу.
Практически тогда же, в семидесятые годы XX столетия, в качестве материала для изготовления сердечника на смену карбиду вольфрама пришел обедненный уран. Обедненный уран является отходом ядерной индустрии: он практически не представляет опасности как радиоактивное вещество, обладая при этом плотностью, близкой к той, что свойственна карбиду вольфрама, при этом отличаясь более высокими физическими параметрами. Он также пирофоричен, таким образом, крошечные, как пылинки, его частички, откалывающиеся при ударе о броню, имеют тенденцию к самовозгоранию. Такой сердечник сигнализирует о достигнутом попадании яркой вспышкой, при этом рядом воспламеняется все, что только способно легко загораться.
Наступило время, когда танкостроители стали все упорнее требовать от специалистов по бронированию найти решение новых проблем, порождаемых появлением реактивных снарядов и новых снарядных боеголовок. С их внедрением существовавшая стальная броня отчаянно устаревала перед лицом новых вооружений. Вместе с тем и разработчики бронирования не сидели сложа руки. Еще в 1945 г. британцы изучали методы, позволившие бы справиться с разрушительным эффектом кумулятивных зарядов путем внедрения в броню прослойки поглощающих тепло химических материалов, однако сложности конструктивного характера при изготовлении фактически двухслойного корпуса, пространство между слоями которого надо было заполнять кристаллами, находились вне возможностей промышленности.
В начале семидесятых, однако, британцы осуществили переход к «Чобемской броне» («Chobham Агтоиг»), названной так в честь исследовательского учреждения, где она была создана. Вообще-то, точный состав «Чобемского бронирования» по сей день является тайной, однако оно не уникально – немало образцов, так сказать, «сложного» бронирования уже обсуждалось в печати, – а потому нетрудно представить то, что лежит в основе вышеупомянутого принципа. Короче говоря, это в основе своей стальное бронирование, в котором присутствуют добавки вроде вольфрамовых стержней и блоков, слои пластика и керамических материалов. Сердечник APFSDS врезается в сталь и наталкивается на вкрапление вольфрама, которое обладает достаточной прочностью, чтобы заставить его изменить направление движения, даже смять и раскрошить боеголовку, которая в результате потеряет значительную часть массы и утратит энергию.
Кумулятивный заряд пробьет сталь, но тепло будет поглощено пластиком, после чего струя расплавленного металла и газа будет остановлена керамическим слоем. Ну, и так далее. Как считали специалисты в области бронирования, боеголовка любого типа будет остановлена сочетанием тех или иных препятствий.
Спустя совсем небольшое время после этого израильтяне изобрели взрывающуюся реактивную броню (ERA – Explosive Reactive Armour), этакий «активный» тип бронирования, который как бы атаковал атакующий его снаряд или ракету. Метод состоял в том, чтобы покрывать танк или, по крайней мере, наиболее уязвимые участки специальными металлическими контейнерами, содержащими четко рассчитанное количество взрывчатого вещества. От удара боеголовки или же под влиянием реактивной струи кумулятивного заряда взрывчатка детонировала, происходил взрыв, который сбивал поток энергии кумулятивного заряда, заставлял отклоняться или же разрушал боеголовку «кинетического» снаряда (т.е. обычного калиберного или подкалиберного бронебойного выстрела). В восьмидесятые ERA взяли на вооружение практически все крупные державы. Хотя такой метод защиты не получил еще всесторонней проверки в условиях реального боя, российские танкисты в боях в Чечне в 1994 г. обнаружили, что реактивная броня при взрыве наносит немало вреда самим танкам, поскольку, хотя угрожающая машине боеголовка при этом и обезвреживается, попутно выходит из строя радиооборудование. Другой повод для споров – это то, каким образом поведет себя ERA при детонации над танком (FAE – fuel/air explosive) – «воздушно-горючего взрывчатого вещества».
Специалисты по броне свое слово сказали, теперь наступил черед разработчиков боеприпасов, и они обратили внимание на аспекты, которые прежде оставались без должного внимания – верхняя поверхность танков. Конечно, и раньше бронетехника становилась мишенью для атак с воздуха, но конструкторы танков почему-то никогда не принимали этого в расчет – они словно бы исходили из того, что превосходство в небе должно было находиться именно на стороне их армии. В восьмидесятые годы ведущая шведская компания по производству вооружений, «Бофорс», создала пехотный реактивный снаряд (или ракету), запрограммированный с расчетом того, чтобы лететь по навесной траектории и наносить кумулятивным зарядом удар по крыше танковой башни, обладавшей наиболее тонким покрытием, которое было сложно сделать более толстым по причине того, что там располагались люки, перископы и тому подобное важное оборудование. Выражение «атака сверху» стало модным в восьмидесятые, когда появились и некоторые другие системы, разработанные с учетом этого слабого места бронетехники. Самонаводящаяся SAD ARM (Seek And Destroy ARMor), что буквально переводится как «найти и уничтожить танк», представляла собой созданную американцами боеголовку, которую можно было выстреливать из орудия или же из пусковой установки реактивных снарядов и которая затем спускалась с парашютом, наводимая на цель с помощью оптического видоискателя. С его помощью бомба сканировала участок местности под собой, обнаруживала танк, нацеливалась на него, а затем выпускала версию кумулятивного заряда прямо в башню. Вот на этом стороны как бы и замерли, с подозрением ожидая хода от соперника.
Есть, конечно, и иной путь борьбы с танковой угрозой помимо вышеописанных соревнований, путь этот можно, наверное, назвать «стратегической опцией»: в один из первых дней разразившегося конфликта выпустить серию баллистических ракет по танкостроительным заводам противника, по арсеналам и местам сосредоточения такой техники, лишив неприятеля резервов, ремонтной базы и производственных мощностей для выпуска новой продукции. После этого у врага остались бы только те танки, которыми он располагал в действующих частях и которые, как мы уже видели, можно было бы уничтожать всеми вышеперечисленными средствами. Когда все неприятельские танки были бы так или иначе выведены из строя, новые машины было бы просто неоткуда взять. Все звучит до смешного просто, однако в такой возможности немало логики. У большинства стран есть не более двух или трех центров производства танков. В конце концов, это довольно непростое дело, для которого требуется тяжелое и дорогостоящее оборудование, и сама экономика страны определяет количество заводов, где можно поддерживать поток выпуска данного вида продукции. То же самое можно сказать и в отношении ремонта и восстановления техники – и это также весьма тонкое дело, как правило, предприятия концентрируются в одном-двух местах. Таким образом, полудюжиной ракет можно, по всей видимости, нанести такой ущерб танковой индустрии, что производство на несколько месяцев просто остановится. В короткое время будет просто невозможно запустить в работу новые заводы и ремонтные предприятия. Таким образом, «стратегическую опцию» тоже не следует сбрасывать со счетов.