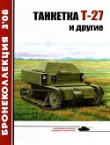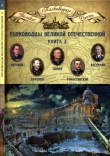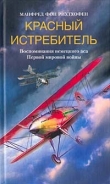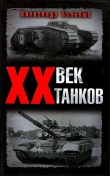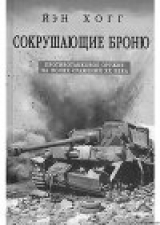
Текст книги "СОКРУШАЮЩИЕ БРОНЮ - ПРОТИВОТАНКОВОЕ ОРУЖИЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ XX ВЕКА"
Автор книги: Йэн Хогг
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Людям в девяностые годы XX века трудно представить себе взгляд на вещи, который сложился у английского народа под влиянием событий 1940 г. То, что в ретроспективе представляется просто смешным, тогда совсем таковым не казалось. Нигде, кроме как в артикулах Военного руководства №42, так сильно не отражается горячечное состояние, охватившее тогдашние умы: «Охоту на танки следует рассматривать как своего рода спорт -болыпуюигру, в которой люди загоняют зверя. Однако, напомним, игру опасную, которая не будет простым развлечением даже для умелого охотника, охоту в которой охотник может оказаться один на один с тигром и которая требует умения выслеживать и обескураживать противника, нападая из засады».
Надо сказать, что в 1940 г. среди британского населения имелось не так уж много бывалых охотников на тигров, однако, по мнению авторов наставления, это совсем не так важно. Главное, что «каждый солдат и каждый боец внутренних войск метрополии должен пройти обучение приемам охоты на танки, усвоить правила обращения со специализированным противотанковым оружием. Уроки Испании и Финляндии подтверждают, что танки могут уничтожаться людьми, обладающими отвагой, находчивостью и решимостью сделать это».
«Уроки Испании» лихорадочно пропагандировались по всем частям внутренней стражи метрополии силами воспитанников школы инструкторов, созданной в Остерли-Парк под Лондоном и наводненной бывшими бойцами интернациональных бригад, большинству из которых было не занимать красноречия, однако, как правило, сильно не хватало реального боевого опыта. Тем не менее некоторые пункты наставления представлялись вполне разумными, но при этом другие напоминали выдержки из правил игр для очень непослушных детей младшего и среднего школьного возраста, как, скажем, идеи организации команд охотников на танки.
Команда должна была состоять из четырех человек, вооруженных рельсом (хотя в брошюре почему-то не объяснялось, откуда его взять), одеялом, ведром с бензином и коробкой спичек. Такой команде предстояло занять место где-нибудь за углом дома на проезжей улице, на которой предположительно появятся вражеские танки. Далее двое брали рельс, обернутый с одного конца в одеяло, и сходу вгоняли его в подвеску танку так, чтобы заклинить ведущее колесо и гусеницу. Номер третий в расчете выплескивал на одеяло бензин, а номеру четвертому оставалось лишь бросить на одеяло горящую спичку.
На случай, если не удастся обзавестись рельсом, не получится раздобыть ведерко бензина и спички, предусматривался и другой вариант: боец занимает позицию на втором этаже дома с молотком в одной и гранатой в другой руке. Когда внизу покажется вражеский танк, боец спрыгнет на него сверху и начнет колотить молотком в люк башни. Когда же командир танка высунется из башни, чтобы посмотреть, кто это может стучать, боец даст ему по голове молотком, бросит в открытый люк гранату и захлопнет его.
Вот таким приемам противотанковой обороны обучали добровольцев. А как же насчет «специализированного противотанкового оружия», о котором говорилось в руководстве? Под этим понятием подразумевались противотанковые ружья (правда, только для армии), разнообразные гранаты и огненные ловушки.
Самой простой из гранат являлась, безусловно, «ручная граната ударного действия», называемая так в народе (за неимением официального наименования), впоследствии получившая все-таки обозначение №73 и известная еще как «термосная граната» по причине того, что размерами и формой она очень напоминала термос емкостью в одну пинту (570 г). Она представляла собой металлический контейнер с тринитротолуолом и ударным взрывателем, предназначенный для метания в танк. Взрыв мог серьезно повредить легкий танк. Под неброской вывеской «граната №74» скрывалась нелюбимая всеми «бомба-липучка» – стеклянный шар с нитроглицерином в чрезвычайно «цепкой» оболочке. На прикрепленной к шару рукоятке имелись рычаг и чека наподобие тех, что встречаются на обычных гранатах, а два металлических полушария вокруг липкого шара позволяли складывать оружие в ящики и безопасно транспортировать. При применении гранаты надо было выдернуть одну чеку, которая освобождала металлические полушария, а потом вторую, отпиравшую запальный механизм. Затем боец – если, конечно, у него доставало на то храбрости – подбегал к танку, прижимал клеящуюся поверхность к броне корпуса, отпускал рычаг и быстренько ретировался. Иной вариант – возможно, более разумный – боец просто бросал гранату в танк. Детонация пинты глицерина происходила в обоих случаях. Единственное, о чем надо было заботиться, это о том, чтобы при броске клейкая поверхность не вошла в соприкосновение с одеждой или же той или иной деталью снаряжения.
Граната №75, или «Хокинс», представляла собой небольшую мину – контейнер с прямыми углами длиной около 150 мм и шириной около 75 мм. В нем содержалось всего немногим более 450 г взрывчатого вещества, наверху имелась пластина, куда полагалось вставить химический воспламенитель. Мину надо было подбросить под танковую гусеницу. Когда траки вдавливали пластину, та разрушала воспламенитель, кислота входила в контакт с чувствительной химической субстанцией и происходила детонация заряда. Размеры гранаты, позволявшие ей помещаться под рельсами железнодорожного полотна, давали возможность применять ее и для вывода из строя железнодорожных линий.
И наконец, граната №76, или же «самовоспламеняющаяся фосфорная» бомба (SIP – Self-Igniting Phosphorus). Создателей ее, несомненно, вдохновляли идеи, положенные в основу конструкции «коктейля Молотова». Короче говоря, граната №76 представляла собой бутылку из-под пива емкостью в полпинты (т.е. менее 300 г), где вместо привычного безобидного напитка находилась смесь из бензина, бензола, воды и белого фосфора с куском латексного каучука. Изделие запечатывалось обычной пробкой. Не было ни чеки, ни предохранителя, словом – ничего, надо было только бросить бомбу – и все. Попав в нечто твердое, стекло разбивалось, фосфор вступал в реакцию с кислородом и воспламенял всю жидкость. В результате горения каучук плавился, что позволяло горящей субстанции долго держаться на броне танка.
Все это, конечно, оружие ближнего боя. Чтобы с успехом применить его, приходилось подбираться к танку на расстояние в несколько метров. Лучше всего было бы спрятаться в окопе или в яме, дождаться, пока танк прогрохочет мимо (или даже проедет сверху), затем высунуться и швырнуть гранату в корму, где бронирование бывало обычно тоньше и где находился моторный отсек, представлявший относительно уязвимую мишень.
Несомненно, если бы дело дошло до вторжения, британцам пришлось бы применить все эти средства и, безусловно, не без частичного успеха, поскольку спустя год, когда немецкая армия вторглась в СССР, советские солдаты использовали против Панцерваффе те же приемы и методы. А еще через несколько лет немцам самим пришлось пропагандировать их в тщетной попытке остановить бронированные орды советской бронетехники, текущей на Запад. Правда, немцы тяготели к более сложному вооружению. Вместо липких бомб они предпочитали магнитные мины с кумулятивным зарядом. Три магнита позволяли прилепить оружие к броне танка, а при условии удачно выбранного участка корпуса кумулятивный заряд позволял пробить любое бронирование. В отсутствие таковых мин немцы брали несколько гранатных боеголовок, привязывали их вокруг одной ручной гранаты и швыряли «взрывоопасный букет», который, если он попадал под нависающий выступ башни Т-34, позволял сильно повредить поворотный механизм. При этом требовалось все то же основное условие – ждать в окопе или в яме, когда танк проедет мимо, а затем применять оружие. Боевой журнал 101-го стрелкового полка 18-й танковой дивизии вермахта иллюстрирует такое применение следующим рассказом:
«Русские танки снова атакуют. KB прокатился по нашему противотанковому заграждению и завяз… Унтер-офицер Вебер вскочил на ноги, за ним последовал обер-ефрейтор Кюне. Они побежали к русскому танку несмотря на то что тот поливал их пулеметным огнем до тех пор, пока они не оказались в «мертвой зоне» – т.е. на не простреливаемом из пулемета участке. Чтобы усилить мощность взрыва, они связали вместе несколько гранат. Первым связку бросил Вебер, затем Кюне. Потом они упали на землю. Кюне был серьезно ранен в предплечье, но все же удалось заклинить механизм башни KB, так что танкисты больше не могли наводить вооружение.
Лейтенант Кройтер взобрался на танк и запихнул ручную гранату прямо в ствол орудия, затем спрыгнул и покатился по земле. Раздался гром – в дуле взорвалась граната, а в следующий момент детонировал снаряд в затворной камере. Взрывом, по всей видимости, разорвало затворную часть орудия в башне, поскольку люк распахнулся. Обер-ефрейтор Кляйн весьма находчиво и ловко метнул подрывной заряд с 8 метров прямо в люк… башню отбросило на 3 метра в сторону…»
Самым эффективным средством борьбы с немецкими танками в Англии стали бы, по всей вероятности, огненные ловушки, устроенные в некоторых наиболее подходивших для этого местах. На участках дорог, где проезжая часть оказывалась бы ниже уровня обочин или же там, где по сторонам находились какие-то препятствия, с одной стороны устанавливались резервуары с горючей жидкостью, трубы от которых шли на поверхность дороги. В некоторых случаях ставились механические насосы для подкачки горючего, состоявшего на 25 процентов из бензина и на 75 процентов из газового масла. Военное руководство дает совершенно точные указания: «Горючее должно поступать из расчета 2 галлона (т.е. около 9 литров) на квадратный фут (0,093 кв. м) в час. Чтобы покрыть участок дороги длиной 50 футов и шириной 20 футов (15x6 м), требуется 200 галлонов на каждые 6 минут горения. Для достижения интенсивного пламени достаточно высоты напора горючего всего в несколько футов и применение насоса необязательно».
Еще более эффективными стали бы «петардные огненные ловушки» настолько же простые, сколь и жестокие. Для создания такой ловушки требовалась вкопанная у дороги 182-литровая (40 галлонов) бочка смеси из бензина и масла с небольшим зарядом пироксилинового пороха. Детонация производилась путем замыкания электроцепи с тем расчетом, чтобы бочка взлетела вверх и обрушилась на танк, разорвалась и «высвободила» содержимое, которое затем предстояло поджечь выстрелом из ракетницы или же фосфорной гранатой.
Когда страх перед немецким вторжением в Англию пошел на убыль, начала набирать обороты война в Северной Африке, где наконец настал черед мины заявить о себе. На пустынных, лишь фрагментарно нетанкодоступных просторах не представлялось возможным обеспечить прикрытие позиции по всему протяжению линии фронта, а потому в дело, вступали саперы, ставившие на различных участках минные заграждения, чтобы «канализировать» наступающую бронетехнику – вынудить ее наступать на направлениях, прикрываемых противотанковыми пушками. Такой подход позволял обороняющимся замедлить наступление и выиграть время для переброски подкреплений. Поскольку обе стороны охотно прибегали к минированию, что делалось нередко в спешке, минные поля иногда «терялись» на однообразном ландшафте. Бывало, что местонахождение того или другого минного поля вдруг совершенно неожиданно обнаруживали вовсе не те, против кого оно ставилось, а те, кто его ставил, точнее, их товарищи.
Мина – эффективное противотанковое оружие с одним недостатком. Если танку противостоит пушка, или реактивный снаряд, или просто человек с гранатой, после того как орудие выстрелило, после того как ракета покинула ПУ, а граната закувыркалась в воздухе, экипажу мало что остается сделать. Можно, конечно, попытаться уничтожить источник угрозы до выстрела (броска) или применить дымовую завесу, однако – повторимся – после того, как прицельный выстрел произведен, танковый экипаж бессилен что-либо изменить и ему остается лишь полагаться на мощь брони. С миной все иначе. Она лежит и дремлет, ожидая появления танка, однако при наличии мастерства и удачи танкисты могут обнаружить ее, обезвредить и выиграть поединок. Существует и еще одна особенность, характерная только для мин: они – то оружие, об опасности которого неприятеля можно предупредить. Те, кто ставит минное поле, обносят его проволокой и пишут плакаты: «DANGER MINEFIELD)) (осторожно, минное поле) или «ACHTUNG, MINEN» (внимание, мины), рисуя под надписью выразительные черепа со скрещенными костями.
Можно спросить, конечно, какой же смысл в том, чтобы не только предупреждать неприятеля об опасности, но и показывать ему расположение минного поля. Ответ может быть двояким: во-первых, за счет этого о наличии мин получают предупреждение и свои, ведь каждому солдату не выдашь карту, во-вторых, никто не запрещает обманывать противника, а несколько мотков проволоки с плакатами стоят дешевле тысячи мин, не говоря уже о времени и силах, затрачиваемых на их установку. Враг не может быть уверен, что перед ним, пока не проверит весь участок – а вдруг соперник замыслил двойной блеф? Мины, а иногда и просто угроза их применения, дают весомый психологический эффект. Первыми в ход пошли те мины, которые создавались в тридцатые годы и представляли собой контейнеры со взрывчатым веществом, оснащенные взрывателем нажимного действия. Поначалу единственным способом обнаруживать такие мины служило прощупывание почвы куском негнущейся проволоки или штыком – приходилось продвигаться ползком, тщательно вглядываясь в поверхность на предмет обнаружения каких-нибудь следов деятельности противника. Длительный и кропотливый процесс, требующий трех или четырех человек, чтобы проложить путь танку. Танкисты не обезвреживали мины, а лишь маркировали их, оставляя разминирования экипажу следующего дальше танка. Членам команды того, второго экипажа приходилось удалять землю, обнаруживать мину, вставлять предохранитель и вынимать ее из почвы. Другим предстояло пометить очищенный участок белыми лентами или кусками материи.
Конечно же, те, кто устанавливал мины, предпринимали усилия, чтобы осложнить их обнаружение и обезвреживание. Одним словом, в ход шли всякие ухищрения и ловушки. Мины прятались глубже, использовались действовавшие по иному принципу взрыватели -реагировавшие на натяжение. Сапер удалял почву, обезвреживал взрыватель, верхневолочка шла к другой мине, положенной сверху. Сапер, вынимал ее, приводя в действие детонатор второй, и взлетал на воздух. Немецкие «теллермине» («мины-тарелки») даже выпускались со специальным углублением внизу и специальным запалом-ловушкой. Пока мина лежала в земле, ничего не происходило, однако любая попытка извлечь ее из лунки вызывала взрыв.
Солдаты стали умнее. Они находили мину, привязывали к ней веревку, отходили в сторонку, где прятались либо за деревом, либо в простом окопчике для индивидуальной защиты, так что ловушка срабатывала, но никого не убивала. Спустя какое-то время кто-нибудь проделывал привычную процедуру: находил мину, привязывал веревку, обнаруживал удобный окопчик, забирался в него и… напарывался на «услужливо», как раз по такому случаю, кем-то там и установленную противопехотную мину. Так как каждая сторона изощрялась в стремлении перехитрить другую, процесс разминирования становился все более рискованным.
К середине 1941 г. положение, однако, стало улучшаться. Польская армия занялась разработкой миноискателя еще в начале 1939 г. Процесс создания не удалось закончить к началу войны, однако чертежи и модели попали в Соединенное Королевство, где работы продолжились, и в итоге польский миноискатель стал стандартным вооружением саперов и прародителем сегодняшних металлоискателей. В основе принципа лежало соображение, что металл корпуса мины вызовет искажение магнитного поля, реакцией на это будут электрические колебания, а в конкретно описываемом случае – звуковой сигнал в наушниках.
Приспособление значительно упростило жизнь саперов, которым не приходилось больше ползать по земле – достаточно было «прозвонить» грунт перед собой и поставить маркер там, где прибор подавал сигнал. Конечно, само разминирование осталось технически прежним, но быстрота обнаружения мины, значительно ускорила процесс. Однако иногда требовалась еще большая скорость. Если представлялась вдруг возможность атаковать, военным не хотелось ждать четыре или пять часов, пока отряды саперов «просканируют» землю и очистят ее от мин. Как прочистить колею, для танков или для пехоты максимально быстро?
Как и во многих других случаях, прежде чем решение было найдено, прошли годы. На заре двадцатых британская армия установила впереди танка Мк V громадный каток, так что машина шла и толкала его перед собой, очищая колею от мин, которые взрывались под тяжестью приспособления. Сооружение, однако же, отличалось заметным несовершенством, каждый раз каток выбивало из крепежной рамы и его приходилось водворять на место, чтобы продолжить процесс. Получалось вроде бы даже, что ползком со штыком в руках выходит быстрее.
В 1937 г., однако, к идее вернулись и оснастили танк прыгающими катками, установленными перед гусеницами. При детонации мины такой каток просто подпрыгивал, а потом опускался вниз и продолжал путь как ни в чем не бывало. Приспособление окрестили «съемным противоминным Катковым устройством» (AMRA – Anti-Mine Roller Attachment), которое производилось в разных версиях для установки на те или иные британские танки. И в итоге оно стало появляться в североафриканской пустыне, чтобы шаг за шагом очищать проходы для бронетехники союзников в немецких минных полях.
В 1937 г. шли эксперименты с рядом сельскохозяйственных плугов, точнее, их ножей, которые ставились на поддерживаемую катками раму впереди танка. Как надеялись изобретатели, такой плуг позволит машине вспахивать землю у себя на пути и выкапывать мины. В принципе устройство действовало, однако ни один тогдашний танк не обладал достаточной мощностью, необходимой для того, чтобы толкать перед собой плуг с десятью ножами. В 1942 г. идея вновь стала выглядеть привлекательной и опять военные принялись импровизировать со всевозможными комбинациями ножей. А в мягких почвах пустыни приспособления работали, к тому же танки нарастили силы и справлялись с «пахотой», однако устройство продолжало оставаться лишь ограниченно эффективным.
Немецкие военные прознали о польском миноискателе и стали применять деревянные, стеклянные и даже керамические мины, которые не оказывали воздействия на магнитное поле устройства, что опять несколько усложнило обнаружение и дезактивацию минных заграждений. В отсутствие какого-либо нового средства приходилось возвращаться к старым методам. Но вот один инженер из южноафриканской армии нашел-таки подходящее решение. Он установил перед танком раму с валом, вращение которого обеспечивал двигатель машины, и оснастил вал множеством цепей, которые били по земле как некая могучая молотилка, не оставляя без внимания ни одного крошечного участка. Ни одна мина не оставалась нечувствительной к такого рода воздействию, а потому все они взрывались, и максимальный вред, который причинялся при этом устройству, ограничивался полным или частичным обрывом той или иной из цепей, что, однако, тоже случалось не часто. Так появился «танковый цеп», или – строго по-научному – бойковый трал, которому, однако, пришлось пережить некоторый период совершенствования, прежде чем он достиг вершины своего конструктивного развития. Прежде всего вал получил собственный отдельный двигатель, который устанавливался под бронированным «капотом» вне корпуса танка. Теперь собственный мотор танка занимался обычной работой – приводил в движение машину без отвлечения немалой части усилия на молочение. Устанавливаемый на самые разные танки, «цеп» в итоге прижился на «Шермане», в тандеме с которым и продолжал «молотить» немецкие минные поля до самого конца войны.
Немцы тоже экспериментировали с различными приборами для «траления мин», или минными заградителями, в основном с роликовыми устройствами, устанавливаемыми на всевозможных моделях танков. Однако ни один из них так и не был поставлен на вооружение. Нельзя вместе с тем не упомянуть о некоторых оригинальных идеях. Так, скажем, в 1939 г. проходил испытания радиоуправляемый мини-танк, волочивший за собой приспособление из оснащенных «шипами» катков. Но направление мысли конструкторов вдруг изменилось, и эксперименты закончились созданием радиоуправляемого робота с электромотором и зарядом взрывчатки, предназначенного для уничтожения полевых фортификаций вроде дотов. О задачах по разминированию конструкторы по тем или иным причинам забыли.
Более претенциозным был «Крупп-Роймер-S» (от нем. глагола raumen – очищать). Устройство представляло собой огромный 130-тонный бронированный ящик на четырех катках диаметром 2,7 м. Усилие каждой паре колес сообщал отдельный двигатель «Майбах», колея у катков была разная, чтобы воздействовать одновременно на большую площадь поверхности. Ни одна из противотанковых мин не могла причинить вреда гиганту. Однако и сам он создавал ряд сложностей в эксплуатации, начать хотя бы с того, что машину приходилось как-то доставлять в заданный район, а не каждый мост мог выдержать 130-тонного монстра. В общем, конструкторы все еще «воевали» с ним на момент окончания боевых действий в Европе, когда союзники обнаружили один-единственный опытный образец на полигоне концерна Круппа.
На протяжении войны особого прогресса в технологии изготовления мин не наблюдалось, если не считать замены металлических корпусов на корпуса из иных материалов, изменения форм изделий – перехода от «тарелки» к вытянутым и более тонким конструкциям, что обеспечивало большую вероятность наезда на мину танком и позволяло ей вернее поражать цели. Более или менее новый тренд в разработке мин возник, когда близился к концу 1944 г. Тогда в Германии инженер по фамилии Шардин принялся экспериментировать с кумулятивными зарядами. К тому времени оружейники уже разобрались, что для большей эффективности кумулятивному заряду требуется некоторое небольшое расстояние, или отступ, который бы позволил реактивной струе набрать оптимальную скорость (обычно от двух до трех диаметров боеголовки). Шардин стал искать способ применить крупный заряд так, чтобы у струи была возможность достигнуть оптимального ускорения прежде, чем она ударит в броню танка.
Если сделать диаметр заряда очень большим, то можно говорить о метрах, которые струя покроет до встречи с целью, не утрачивая при этом способности поразить бронирование.
В процессе исследований Шардин придал взрывчатому веществу форму мелкого, но широкого блюда 300 мм в поперечнике и проложил его толстой стальной пластиной, чтобы взрывом ею выстрелило с большой скоростью с расстояния 50 м в танк «Пантера». В результате в лобовом листе брони «Пантеры» появилась тридцатисантиметровая дыра, боевому отделению машины тоже был нанесен значительный урон. Шардин назвал свое изобретение «миной на обочине». Вместо того чтобы закапывать мину в землю в ожидании, что танк на нее наедет, изобретатель установил ее около дороги и привел в действие, когда танк проезжал мимо. Однако к тому времени, когда Шардин добился наконец желаемого результата, война закончилась.
После войны долгое время не появлялось ничего нового. Некоторые экспериментаторы «играли в игрушки» Шардина, однако ни у кого не получалось достигнуть таких же впечатляющих показателей поражения бронирования, и в итоге принцип применили для противопехотных мин. Они представляли собой заряд в виде вогнутого «блюда», нашпигованного несколькими сотнями металлических осколков, которые после взрыва разлетались во все стороны, раня и убивая людей. Некоторые читатели, наверное, уже догадались, что речь идет о так называемой мине Клеймора, которую впервые опробовали американские солдаты во Вьетнаме в шестидесятые годы XX века. Больше всего военных занимали, однако, не конструкционные особенности мин, а процесс постановки заграждений. По мере того как холодная война набирала обороты, угроза вторжения советской бронетехники принимала все более гипертрофированные формы в умах руководителей НАТО, и проблема состояла в том, как сделать так, чтобы минное поле оказалось на маршруте танков противника и смогло остановить их продвижение. Засеять минами целую полосу земли, тянущуюся через всю Германию, в мирное время возможным не представлялось, а это значит, что пришлось бы проделывать нечто подобное тогда, когда кости были бы уже, что называется, брошены. Принимая во внимание ограниченные временные рамки, существовавшая система минирования – просто рота-другая саперов с лопатками в руках – не годилась. Посему началась работа над автоматизацией и существенным убыстрением процесса. А поскольку страны Варшавского договора опасались примерно того же, что и государства НАТО, только с другой стороны, и те и другие вступили в своеобразное соревнование.
Найденное решение оказалось у состязающихся довольно схожим – прицеп позади грузовика с минами, в прицепе нечто вроде желоба, по которому солдаты в кузове спускают мины. Трейлер оснащался плужным лемехом, проделывавшим борозды в земле, в которые и попадал полезный груз. В желобе существовал специальный механизм для приведения взрывателя в боевое положение, а другие приспособления снизу засыпали мину и разравнивали землю над ней. При наличии хорошо подготовленного отряда саперов на грузовике британский миноукладчик позволял за час поставить 600 мин, которые были уже, конечно, не привычными круглыми контейнерами времен Второй мировой, а продолговатыми минами «нового поколения». Еще во время войны люди поняли, что вытянутая мина вернее поражает танк, при способности нести больше взрывчатого вещества, чем дискообразная, и простоте в обращении. Качество взрывчатых веществ достигло предельной точки. Во время войны детонации 5 кг взрывчатки под гусеницей танка хватало для того, чтобы вывести его из строя надолго, если не навсегда. Однако танки стали более крупными и прочными, и в итоге 5-кг заряд вызывал лишь повреждение гусеницы, каковое довольно быстро устранялось. Решение лежало в двух плоскостях -увеличить массу мины и количество взрывчатого вещества в ней, а также в буквальном смысле изменить точку приложения усилия. Вместо того чтобы ударять в гусеницу (наиболее естественное применение, поскольку детонировала мина вследствие наезда на нее), избрать мишенью «брюхо» – наиболее тонкое место, причем на некоторых машинах очень слабо бронированное. Успешная атака днища привела бы к серьезным разрушениям в боевом отделении и ранению или даже гибели экипажа.
Проблема заключалась в том, что ввиду специфики танка он обычно обладал значительным дорожным зазором, иными словами, днище находилось на солидном расстоянии от поверхности, по которой он проезжал. При таком «раскладе сил», даже если несколько килограммов взрывчатки и ударят в «брюхо» машины, то скорее всего просто напугают экипаж, да и только. Увеличить мину до размеров, когда она смогла бы произвести должный эффект только за счет силы взрыва, означало бы получить изделие, которое будет довольно непросто устанавливать. Потому представлялось оптимальным добиться некоего «эффекта выстрела», достигнуть которого можно было бы за счет кумулятивного заряда, поражавшего днище танка реактивной струей.
Один из недостатков кумулятивного заряда состоит в том, что создаваемая им струя довольно тонкого диаметра, а значит, нельзя исключать вариант, когда она, ударив в днище танка, пробьет его и пройдет вверх через крышу башни, не задев никаких жизненно важных узлов машины. Если же сделать кумулятивный заряд более плоским, можно добиться более широкой реактивной струи при взрыве, хотя и при низшем коэффициенте поражающей способности. При учете относительно малой толщины днища танка можно было позволить себе пойти на снижение показателя бронепробиваемости. И вот в процессе разработки всплыла идея «пластинчатого» заряда Шардина, внедрение ее дало бы широкую пробоину и, как следствие, серьезные разрушения. Правда, и тут имелся один недостаток. Поскольку мина пряталась в земле, на лицевой стороне во время взрыва оказывалось довольно много грунта и пыли, которые имели тенденцию снижать поражающий эффект. Решить проблему удалось за счет внедрения небольшого «очищающего заряда», который срабатывал за несколько микросекунд до основного и прочищал главному взрыву путь, удаляя с него лишний грунт.
Главная сложность в вопросе поражения «брюха» состоит в правильном выборе момента. Если цель атаки – гусеница, то тут все ясно: взрыватель срабатывает тогда, когда давление достигает критической точки, то есть в нужное время. Но как произвести взрыв мины, если она находится в 0,5 м от поверхности днища и в добром метре от любой из гусениц? На помощь пришли взрыватели разного типа, скажем, «антенный», который торчал из земли и срабатывал тогда, когда его пригибал корпус танка, или «гидравлический», представлявший собой два резиновых шланга с жидкостью по обеим сторонам мины. В данном случае взрыватель срабатывал тогда, когда танк раздавливал шланги, наехав на них гусеницами с двух сторон так, что сама мина оказывалась между ними (если же танк наезжал на шланг только одной гусеницей, мина не взрывалась, поскольку отсутствовала гарантия попадания заряда в днище). Другие системы менее широко известны. Существовали акустические детонаторы, срабатывавшие от создаваемого танком шума, от вибрации почвы или же реагировавшие на магнитное поле танка или на тепловую волну от моторного отделения.
Коль скоро вспомнили об идеях «пластинчатого заряда» Шардина, нет ничего удивительного, что в фокусе внимания оказалась и его «мина на обочине», пылившаяся на полках вплоть до семидесятых годов XX века. В 1980 г. французы получили изделие под названием MICAH {Mine, Anti-Char, Action Horizontal, или противотанковая мина горизонтального действия), представлявшее собой цилиндрическую мину на станке в виде треноги и с пластиной Шардина на «рабочем конце». Как утверждалось в то время, мина позволяла поразить 70-мм бронирование с расстояния 40 м, хотя многие думали, что тут налицо некое галльское лукавство и в действительности MICAH, вероятно, обладала способностью пробить вдвое более толстый лист брони. Выстрел осуществлялся дистанционно с помощью электрического сигнала, или же взрыватель подсоединялся к электронному датчику обнаружения объекта, опознававшему танк и автоматически производившему детонацию в нужное время.