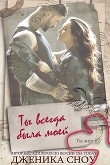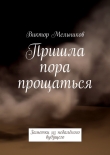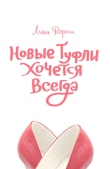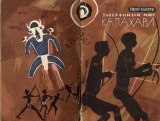
Текст книги "Затерянный мир Калахари"
Автор книги: Йен Бьерре
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Таинственное племя бергдамов
Племя бергдамов, которое населяло гору Брандберг, – это одна из многих неразгаданных тайн Юго-Западной Африки. Кто они? Остатки жившего здесь в давние времена народа или рабы, привезенные с севера Африки? Мы как-то поехали в резервацию бергдамов, километрах в тридцати к северу от Брандберга, набрать воды в колодце. Резервация находится у реки Уга, в которой с прошлого дождливого сезона еще осталось немного стоячей воды. В резервации в жалких хижинах из травы посреди пыльной равнины живет человек тридцать. Берг-дамы держат несколько коз и засевают кукурузой небольшие участки на берегах реки. Мы видели этих печальных, апатичных людей. Они сидели в тени возле хижин, дополняя картину всеобщего упадка. Дети бегали голышом, на взрослых были лохмотья.
Бергдамы называют себя «черными людьми». Цвет их кожи и в самом деле темнее, чем у остальных африканских племен, хотя трудно судить о природном цвете их тела – так они грязны. Бергдамы испытывают почти религиозный страх перед водой, а у некоторых из них вообще запрещается мыться, поскольку вода якобы опасна и приносит несчастье.
Даже члены одной и той же группы бергдамов очень отличаются друг от друга: одни высоки и худы, другие низкорослы и полны, у каждого свой, не похожий на другие овал лица. Поэтому их едва ли можно назвать чистой расой. Если говорить о какой-то общей для большинства бергдамов отличительной особенности, то это, пожалуй, крупные черты лица и низкий лоб.
Откуда происходят бергдамы, неизвестно. Они забыли свой родной язык и разговаривают на одном из диалектов языка готтентотов, очевидно, навязанном им, поскольку они долгое время были рабами готтентотов и работали на них. Правда, у бергдамов есть «заимствованные» слова, схожие со словами языка суданских негров. Поскольку последние также обладают очень темной кожей, было высказано предположение, что готтентоты привезли с собой бергдамов в Юго-Западную Африку с севера и что за сотый лет они смешались со многими другими африканскими расами. По другой точке зрения, бергдамы – это потомки южноафриканского народа, веками бывшего в порабощении у готтентотов и гереро. Те бергдамы, которые не хотели терять независимость, были вынуждены жить как бушмены и поселялись в самых отдаленных районах, в горах, где существовали за счет охоты и собирательства.
Сто лет назад благодаря усилиям миссионеров бергдамам было отведено несколько резерваций, в которых они могли жить спокойно. Резервации скоро стали слишком тесными, бергдамы расселились по всей Юго-Западной Африке, став пастухами и батраками. Они зарекомендовали себя хорошими и надежными работниками, но все же долгие годы рабства не прошли бесследно. Те немногие бергдамы, которые остались в резервациях и в горах, живут в примитивных хижинах из сучьев и травы. Редко в одном месте скапливается больше десятка таких хижин, напоминающих издали растрепанные стога сена. Бергдамы готовят пищу на кострах у хижин. Часто в селении бывает еще общий костер, где постоянно поддерживается священный огонь. Возле этого костра разрешается сидеть только взрослым мужчинам.
В мире верований бергдамов священный огонь играет большую роль. Если он осквернен присутствием женщин или детей, то племя постигнет несчастье. Новый священный огонь должны зажигать старейшие мужчины племени, выполняя при этом необходимые обряды, которые обеспечивают удачу на охоте. Эти обряды священного огня, несомненно, уходят корнями в глубокое прошлое.
У бергдамов нет вождей, нет сколь-нибудь соблюдаемых законов племени, может быть, потому, что они никогда не пользовались свободой достаточно долго, чтобы создать свою социальную систему. Суровость условий их жизни и притеснения не оставляли им времени на размышления о правах человека или моральной справедливости. Однако у тех бергдамов, которые живут в самых отдаленных уголках, сохранилось поклонение Камабу.
Это бог, от которого зависит вся жизнь бергдамов, он распоряжается солнцем и дождем. От Камаба зависит, будет охота удачной или нет. Камаб – хозяин жизни и смерти. Лекаря племени приглашают к заболевшему бергдаму как человека, который представляет бога Камаба. Если лекарь решает, что Камаб хочет взять жизнь больного, то беднягу оставляют на произвол судьбы, не оказывая ему никакой помощи. Та же участь ждет стариков и слабых, которые не в состоянии добывать себе пищу. Все они принадлежат Камабу. Мертвых хоронят как можно скорее, потому что, как и многие другие народы, стоящие на низкой ступени развития, бергдамы боятся мести мертвецов. Они даже гроб всегда заваливают тяжелыми камнями. Правда, умершие могут получить место у вечного священного огня Камаба на небе, где они, вообще говоря, будут жить почти так же, как на земле. Но живые боятся, что мертвецы наверху соскучатся по своим родственникам и напустят на них болезнь, чтобы они умерли и тоже оказались в небесной обители.
Эту опасность стремится отвести лекарь, и он каждый раз решает, заболел ли человек по воле Камаба или по желанию своих умерших родственников. Человеческое мясо – любимая пища богов, поэтому Камаб призывает людей в страну умерших, поэтому в древних могилах и лежат одни скелеты: кости обглодали обитатели небес.
Бергдамы, которые живут в заброшенных уголках, и сейчас одеваются в шкуры. Мужчины иногда носят в ушах стальные или медные серьги, свое единственное украшение, а женщины увешаны самыми разнообразными «драгоценностями»; наибольшей популярностью у них пользуются ожерелья из скорлупы страусовых яиц, но многие носят кожаные браслеты – признак достатка. После каждой особенно удачной охоты муж дарит жене браслет из кожи убитого животного.
При встрече с бергдамами в первую очередь бросается в глаза ослепительная белизна их зубов. Это одно из немногих местных племен, которые очень внимательно следят за зубами. Для того чтобы зубы были белые, бергдамы постоянно жуют небольшой комочек кожи. У них есть даже зубные щетки, вырезанные из дерева. Но бергдамы едят грубую пищу, и зубы у них быстро изнашиваются. Сточившиеся зубы у стариков иногда вырывают очень жестоким способом. «Зубной врач» садится перед пациентом с заостренной палочкой в одной руке и с камнем в другой. Он вдавливает палочку в десну под зуб, сильно ударяет по ней камнем – и зуб выбит. Как тут не понять тех, кто жует кожу, чтобы сохранить зубы чистыми и здоровыми и избежать тяжелого испытания!
Похожие на татуировку шрамы на телах бергдамов, следы «медицинской помощи», оказываемой лекарями, – это вторая черта внешности бергдамов, которая бросается в глаза. Когда к заболевшему приглашают врачевателя, в его честь готовят щедрое угощение. В первую очередь лекарю предстоит решить, не Камаб ли наслал болезнь. Угощение как раз и рассчитано на то, чтобы задобрить «медика». Но если, несмотря на угощение, он все-таки приходит к выводу, что болезнь послана богом, все покидают больного, и он умирает в одиночестве.
Глава миссии в Окахандже доктор X. Вебер, рассказавший мне об этом, говорил, что он сам был свидетелем таких трагедий. Бергдамы настолько привыкли к этой традиции, что воспринимают ее как нечто само собой разумеющееся и, когда, состарившись, уже не могут заботиться о себе, покоряются уготованной им участи.
Если же лекарь сочтет, что виновники болезни – умершие родственники пациента, начинается лечение. Массируя больного, лекарь сгоняет болезнь в какую-либо часть тела, а потом выжигает ее горящей головней. Так на теле бергдамов появляются шрамы. Иногда лекарь высасывает и выплевывает болезнь в скорлупу страусового яйца на тлеющие угли. Болезнь гибнет. Такой обряд встречается у многих первобытных племен. В горах Новой Гвинеи я видел, как папуасский лекарь врачевал больного точно так же.
Бергдамы, как и бушмены, быстро приспосабливаются к природным условиям: если нельзя добыть мяса, они питаются корнями растений, ягодами, насекомыми, медом диких пчел. В дождливый сезон, когда охотиться невозможно, они едят термитов, которых в это время очень много. Бергдамы разводят огонь, и когда на него слетаются термиты, их ловят и складывают в кожаные мешочки. Потом из сухих термитов варят суп. По ночам бергдамы без большого труда ловят кузнечиков, малоподвижных из-за холода. Поджаренные кузнечики очень питательны и вкусны.
Большая роль магии в бергдамских обрядах наряду с австралоидным типом лица и оставшимися от каменного века образом жизни и методами охоты заставляют ученых полагать, что бергдамы – древний, самобытный народ. Бергдамские юноши и девушки проходят через церемонию посвящения. Для девушек этот обряд начинается с развитием грудных желез. Им запрещают есть пищу, которую едят замужние женщины. Чтобы создать у девушек «иммунитет», им делают своего рода «прививку»: кусочки запретной пищи растираются в порошок, которым заполняются надрезы под грудями. Девушка может есть запрещенную пищу только после того, как заживут ранки. Первая менструация служит поводом для праздничного пира, для которого закалывают козу. Девушку обвешивают украшениями, и старшие женщины учат ее обязанностям жены и матери. Ей советуют избегать родственников мужского пола и проводить время только в обществе взрослых женщин племени, так как теперь она считается созревшей для брака.
Посвящение юношей производится в три этапа с годовыми перерывами между ними. Как только набирается достаточно большая группа подростков, они вместе отправляются на охоту. Тем временем в селении режут и потрошат козу. Ее вычищенные кишки и мочевой пузырь надувают, а потом разрезают на кусочки, которые по возвращении юношей вкладывают им в волосы. Молодые охотники не едят ничего. Все добытое ими в первый день съедают взрослые. На второй день они снова охотятся, но на этот раз им разрешают есть вместе со всеми. Лишь после двойного повторения этого обряда юноши считаются взрослыми и могут сидеть с мужчинами вокруг священного огня.
Свадебных церемоний у бергдамов нет, но при рождении ребенка выполняются некоторые ритуалы. Как правило, ребенок получает имя в тот момент, когда рассекается пуповина. Отец поджаривает кусок мяса, а стекающий с него жир втирает в свое тело. Затем чешуйки жирной грязи аккуратно собираются в небольшой кожаный мешочек, который в дальнейшем служит ребенку амулетом. Прикрепляя этот кожаный мешочек к шее ребенка, отец плюет ему на грудь, растирает плевок и несколько раз повторяет его имя. Рождение двойни нежелательно, считается противоестественным, и одного близнеца, как и у бушменов, хоронят заживо.
Берг да мы живут такими племенами только в глухих уголках Юго-Западной Африки. Большинство бергдамов поглощает цивилизация или ассимилируют другие народы. Недалеко время, когда этому народу придет конец, потому что для бергдамской женщины считается особой честью родить ребенка от мужчины другого народа. Этот загадочный народ, появившийся из неведомой страны, местонахождение которой не известно до сих пор, скоро исчезнет, не оставив после себя никаких следов.
Глава восьмаяОкаменелый лес
Мы решили объехать вокруг горы Брандберг. В пустыне Намиб, у южного склона горы, нам встретилось очень интересное растение, своего рода живой доисторический гигантский ящер, динозавр флоры. Перед нами было одно из самых удивительных растений мира – Wellwitschia Mirabilis, похожее на дерево, которое спряталось под землю. Оно растет вниз! Его корень, напоминающий ствол дерева, может проникать на двадцатиметровую глубину. Это растение добывает животворную влагу из речушек и ручейков, протекающих глубоко под поверхностью пустыни. Прячась под землей, дерево защищается от песчаных бурь и сильной жары. Это самое долголетнее растение на земле. Диаметр его подземного ствола достигает одного метра, а период между цветениями доходит до двадцати лет.
Удивительное первобытное растение почему-то сохранилось только в этом районе мира. Возвышающаяся над поверхностью земли часть растения очень уродлива: всего два листа, которые достигают двух-трех метров в длину.
Больше листьев не бывает, а эти два со временем распадаются на длинные ленты. Именно из-за этих лент, похожих на высохшие щупальца, а по цвету напоминающих древесную кору, растение получило прозвище «осьминога пустыни».
Очевидно, оно получает часть необходимой ему влаги из туманов, которые плывут над пустыней от побережья Атлантического океана. Это подтверждается тем, что в нескольких сотнях километров от берега океана, где проходит граница распространения туманов, кончаются и Weltwitschia Mirabilis. Название растению дал один австрийский ботаник, обнаруживший его около ста лет назад. Это было величайшее открытие века в области ботаники. Растение взято под особую защиту: за уничтожение одного экземпляра полагается штраф в пятьсот фунтов стерлингов или тюремное заключение на два года. Weltwitschia Mirabilis произрастает только в пустыне Намиб и чуть дальше к северу, на малоисследованном плоскогорье Каоко, за Берегом Скелетов. Это фантастическое растение, как и Белая дама горы Брандберг, – предмет национальной гордости: оно также изображено на почтовых марках Юго-Западной Африки.
На Брандберге можно найти и другие ботанические редкости. Руднер рассказывал, что во время прошлой экспедиции они обнаружили растения по крайней мере семи неизвестных видов и что в ущельях горы растут такие деревья, которые встречаются только в Абиссинии. Уж не появились ли они здесь вместе с Белой дамой?
А теперь – от живых растений к мертвым, в окаменелый лес. Покинув лагерь у Брандберга, археологи направились дальше на юго-восток, к горам Эронго, а Франсуа и я повернули к северо-востоку, на Цумеб и Гротфонтейн. Впереди Калахари! На раскинувшейся вокруг золотистой равнине мирно паслись огромные стада южноафриканских газелей прыгунов. Завидев нашу машину, они как по команде поднимали головы и смотрели на нас, а затем стремительно разбегались, образуя большой круг, в центре которого оказывались мы. Время от времени какая-нибудь газель перепрыгивала через своих соседок. Издали стадо в несколько сот голов напоминало вытканный на равнине ковер. Выдержав безопасную дистанцию, газели снова начинали пастись, но теперь за нами внимательно следил вожак, молодой самец. Изредка встречались большие стада зебр. Они с оглушительным топотом бежали рядом с машиной и постоянно пытались пересечь нам дорогу. Здесь не заповедник, это животные древней, нетронутой Африки.
Колея на песке привела нас на сто километров к северу, к ферме Аурус, одиноко стоящей на границе пустыни Намиб, где лежит окаменелый лес. Да, именно лежит. Сто или двести миллионов лет назад пустыня была покрыта гигантскими деревьями. Очевидно, пронеслось какое-то стихийное бедствие, и лес был повален (судя по тому, что все стволы лежат в направлении с юго-запада на северо-восток). Мы обмерили несколько стволов. Они были до двадцати метров в длину и больше метра в диаметре. Эта местность безлюдна, и лес обнаружили только в 1947 году, когда сюда приехал фермер, которому этот участок был отведен под пастбище для скота. Он сначала решил, что кто-то повалил деревья, и удивился, откуда они взялись на этом бесплодном участке. Рассмотрев их поближе, он увидел, что стволы были из камня! Сейчас весь участок с окаменелым лесом, около пяти километров в окружности, обнесен забором и охраняется.
Почему все эти деревья упали в одном направлении? Может быть, здесь пронесся небывалой силы тайфун или причиной послужил оползень, вызванный вулканической деятельностью? Деревья, наверное, оказались под слоем сухого песка или пепла и превратились в окаменелости. Если бы в почве было хоть немного влаги, то вместо стволов здесь уже давно лежал бы каменный уголь. С течением времени, в юрский период, они постепенно покрылись толстым слоем грунта, а когда климат изменился, порода и песок постепенно выветрились и окаменелые деревья снова увидели солнце. Многие стволы так хорошо сохранились, что можно различить все детали их строения: годичные кольца, волокна, наросты и даже ходы, проточенные насекомыми! Некоторые из ранних колец толще, другие тоньше – свидетельство того, что каких-нибудь двести миллионов лет назад в пустыне Намиб дождливые годы сменялись засушливыми.
Глава девятаяВ заповеднике
В Африке, кроме водопада Виктория и пирамид самое сильное впечатление производит невероятное множество диких животных, скапливающихся в дождливый сезон в Этоша-Пан: сотни тысяч зебр, тысячи антилоп гну (Connochaetes gnu), антилоп скакунов, или горных скакунов (Antidorcas euchora), серн (Rupicapra rupicapra), куду, или винторогих антилоп (Strepsiceros strepsiceros), крупных африканских антилоп (Alcelaphus caama), стада жирафов и слонов, львы, гиены, шакалы. Заповедник Этоша-Пан на северо-западе Юго-Западной Африки – один из крупнейших в мире. Он простирается от равнины, в центре которой находится Этоша-Пан, до труднодоступного плоскогорья Каоко, превосходящего по территории Шотландию. Животные стекаются сюда, потому что в этом районе в некоторые сезоны легче находить пищу.

Два больших слона прошли мимо нас в эалесенную лощину
В Конго, Кении, Южно-Африканском Союзе (в Национальном Крюгерском парке) трава на пастбищах есть постоянно, и животным не приходится бродить в поисках пищи и воды. Но тут другое дело: когда наступает дождливый сезон, гигантские стада движутся с плоскогорья Каоко в Этоша-Пан, который в это время года похож на плодородный рай земной. Этоша-Пан – это высохшее озеро с абсолютно плоским дном, сто тридцать километров в длину и семьдесят в ширину, расположенное на высоте одного километра над уровнем моря. Только во время сильных ливней озеро наполняется водой до краев: обычно же воды в нем бывает всего несколько дюймов, да и та постепенно испаряется или впитывается землей. Очень немногим удалось увидеть это великое множество животных на Этоша-Пан, потому что въезд в заповедник в дождливый сезон (с середины ноября по май) закрывается из-за бездорожья и свирепствующей здесь малярии.
В Гротфонтейн, последний город перед Калахари, мы ехали по южной части заповедника. На дне почти совсем высохшего озера и на его берегах спокойно паслись животные, но дождливый сезон еще не наступил, и стада были сравнительно невелики. Освещенное солнцем молочно-белое дно озера ослепительно сверкало в дрожащем раскаленном воздухе, и казалось, будто стадо зебр парит над землей.
Делаем остановку на один день в Окауквее, у южной оконечности Этоша-Пан. Окауквей – это одинокий полицейский пост, дом егеря, охраняющего заповедник, площадка для палаток и нескольких хижин для приезжих. Де ла Ба, местный егерь, рассказывает, что перед началом прошлого дождливого сезона он насчитал в одном только стаде больше восьми тысяч зебр и антилоп гну.
Да, Этоша-Пан – замечательное убежище для животных. Но что сталось с людьми, которые здесь жили? Всего несколько лет назад бушмены племени хейкум, охотясь на этих равнинах, находили себе пропитание, но потом охоту запретили. Так был сделан выбор. Животных предпочли бушменам. Запрещение охотиться было равносильно смертному приговору. В других районах, куда менее богатых дичью, бушменам пришлось совсем плохо, они вымирали. В хижинах из ржавого железа близ Окауквея осталась всего горстка бушменов. Они по субботам пляшут для увеселения туристов и получают за это по нескольку сигарет. Вольная жизнь охотников кончилась. Они забывают свою древнюю культуру. А неподалеку от хибарок бушменов на свободе гуляют львы… Победили животные.

Охотник племени хейкум
Хейкум – не чистые бушмены. Они появились от смешения готтентотов с одним из уже исчезнувших бушменских племен. Они говорят на диалекте готтентотского языка, но живут точно так же, как бушмены Калахари, охотясь и собирая пищу. Двадцать лет назад в этой части страны было больше тысячи бушменов племени хейкум, а теперь последние оставшиеся в живых представители его апатично сидят у порогов своих похожих на консервные банки хижин и ждут очередного пайка.
Я записал на магнитофонную пленку несколько бесед бушменов хейкум. Мне перевели их содержание. Женщины вспоминали молодость и сбор мелкого дикого лука (уинтниэс) в конце дождливого сезона, а мужчины – те времена, когда они охотились в Этоша-Пан. Я видел, как при этом в их тусклых глазах сверкнул живой огонек, и, хотя я не понимал языка, в интонациях их голоса мне явственно послышалась грусть. Старики знают, что хорошая жизнь не вернется и что Этоша-Пан теперь рай только для животных.
Если турист, оказавшийся в Юго-Западной Африке, захочет увидеть целое семейство львов за обедом, то ему надо лишь послать в Окауквей радиограмму с просьбой зарезервировать за ним на субботний вечер место у озерка, куда львы ходят на водопой. В западной части Этоша-Пан, в Леонбрунне, живет недалеко от воды львиная семья. С наступлением туристского сезона де ла Ба каждую субботу во второй половине дня подстреливает зебру или антилопу гну и до захода солнца кладет тушу на берег у самой воды. Проходит немного времени, и все семейство, шесть-семь львов во главе с огромным самцом, появляется из кустарника: они уже знают время обеда. Львы рвут тушу на части и наедаются до отвала на глазах у публики, которая сидит в автомобилях и щелкает затворами фотоаппаратов. Львы, как и бушмены, превращаются в пенсионеров, развлекающих туристов.
Как-то близ Окауквея Франсуа и я в сумерках готовили себе ужин на костре. Вдруг я увидел совсем рядом молодого скакуна. Боясь спугнуть его резким движением, я осторожно протянул к нему руку и тихо позвал:
– Иди сюда, малыш!
К моему великому удивлению, он смело подошел и начал обнюхивать руку.
В этот момент показался де ла Ба, и скакун подбежал к нему. Оказалось, что егерь не так давно сделал кесарево сечение матери этого скакуна, которая попала в ловушку, установленную бушменами. Так появился на свет этот маленький скакун. Де ла Ба собирался послать его в какой-нибудь зоопарк, пока он не повзрослел. Если он вырастет в лагере и в один прекрасный день, подчиняясь зову природы, убежит от человека, первая же встреча с львиным семейством окажется для него последней.
В восточной части Этоша-Пан находится Намутони, старый немецкий форт в пустыне, воздвигнутый на заре колониализма для подавления готтентотских племен эреро и овамбо. Это живописное четырехугольное выбеленное сооружение в стиле «иностранного легиона», даже с амбразурами, было уже заброшено, когда я но-бывал там в прошлый раз около десяти лет назад. Располагаясь на ночлег на полу башни, я, как мне показалось, ощутил атмосферу эпохи пионеров-первооткрывателей. В начале нашего века пятьсот овамбо атаковало форт. Крохотный гарнизон из семи немецких солдат забаррикадировался в башне, перестрелял полтораста овамбо и благополучно добрался до шахтерского городка Цумеб, в ста километрах к востоку. Сейчас Намутони восстановлен и превращен в удобную гостиницу для туристов. При гостинице есть даже плавательный бассейн возле горячего источника, где путешественник может смыть с себя пыль пустыни.