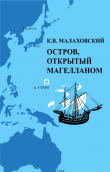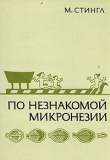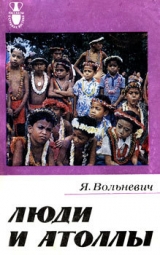
Текст книги "Люди и атоллы"
Автор книги: Януш Вольневич
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Как воевали сто лет назад
Мы плыли курсом прямо на невысокий холм, громко названный горой Толоман. Это была высшая точка острова Нацусима, или Дублон. Билл и Родни сушились на солнышке, не переставая возбужденно обсуждать нашу экскурсию по затонувшей лодке. Как только Джо отвернулся, Билл лукаво подмигнул мне, и перед моими глазами промелькнуло маленькое фарфоровое блюдечко. Ценный трофей. Однако это был непорядок, потому что на этих подводных лодках ничего нельзя трогать, а тем более выносить. Но запретный плод сладок, и Билл не устоял перед искушением. Да и велика ли была его вина? Я по себе знал, что эта лодка-призрак дышала какими-то эманациями, вызывающими целый вихрь смешанных чувств, и хотелось иметь какое-то свидетельство этих переживаний. Я уверен, что любители сувениров, если было бы можно, растащили бы оттуда все вплоть до унитаза (я видел там совсем целый) и держали бы его в гостиной, убежденные в том, что он спокойно вписывается в элегантную обстановку помещения.
На всякий случай я погрозил Биллу пальцем, и на этом инцидент был бы исчерпан, если бы не тот факт, что через несколько дней после отъезда студентов в моей сумке не обнаружилось второе, точно такое же блюдечко. Позор! Однако на пути Микронезия – Европа эта «летающая» тарелочка разбилась на мелкие кусочки.
Мы причалили к острову Дублон у какого-то полуразвалившегося мола. Повсюду – растрескавшийся бетон. Может, наша скромная лодка причалила там, где (13 шлюпок выходили на берег матросы японской экспедиционной флотилии, которая 12 октября 1914 г. принимала здесь наследство, доставшееся ей от имперской Германии? Вскоре после этого японцы построили на острове фабрику, которая вырабатывала консервы из тунца, значительно повысили производство копры, а потом… начались безумства. Японцы стали строить здесь бункеры, убежища, склады, набережные, базу для подводных лодок, порт для гидропланов. На этот небольшой остров в 10–12 километров длиной ушло огромное количество цемента. На побережье под каждым кустом – бункеры, фундаменты разрушенных построек, гектары потрескавшегося бетона. Я возвращался к лодке расстроенный.
Природа на островах Трук, как и везде, удивительна. Но то, что натворили здесь люди, кажется жалким, бесцельным. Все заброшено, забыто, развалено, поросло скудной растительностью: остатки госпиталя, резервуаров. Людей здесь немного – 2500 человек, даже Джо не может точно сказать, чем они занимаются.
– В общем делают сувениры для туристов, ловят рыбу, но все-таки здесь есть школа.
– Я знаю, раньше тут жили замечательные мореходы.
– Это верно. Но сейчас лодок делают очень мало, редко кто выходит за рыбой из лагуны. Предпочитают покупать консервы из тунца. Это вкусно и дешево.
Вот так штука! Микронезийские воды считаются в мире одними из самых обильных тунцом. Американские и японские рыболовные суда выгребают отсюда тысячи тонн рыбы в год, а местные жители!..
– Скажи, Джо, ты ведь помнишь времена японцев: жители Трука выходили с ними в открытое море?
– Что вы, нет! Нет! Команды состояли из японцев или из рыбаков с Окинавы. Немного наших работало на производстве консервов. В основном были заняты обработкой копры.
– А чем занимались здешние жители в старое время?
– Тогда они очень часто воевали.
«…Война на островах Рук вспыхивала часто из-за ссоры. До тех пор пока не пролита кровь, ссоры выражались во взаимных оскорблениях и поклепах. Тяжелое Ранение или убийство не зависело от повода и справедливости происшедшего, требовало отмщения, и тогда война становилась Неизбежной, если племя чувствовало свою силу.
Как и на большей части островов Океании, война для местного жителя – увеселение, которое он любит и на которое является разряженным. Самые красивые пояса, узорчатые гребни, длинные серьги, новые, только что раскрашенные накидки – все вынимается из тайников. Тело они умащивают маслом и покрывают толстым слоем куркумы[18]18
Куркума (Curcuma) – растение из семейства имбирных, известно свыше сорока его видов. Curcuma longa содержит краситель оранжевого цвета – куркумин, применяющийся в красильном деле. Эго растение употребляется также как приправа к пище, лекарство и при производстве ликеров. — (Примеч. авт.).
[Закрыть], а перья морских орлов наряду с петушиными высоко торчат из тщательно причесанных волос. Оружием служат обточенные камни, которые бросают с помощью петли, гладкие копья, сделанные из ствола кокосового дерева, и копья, снабженные ядовитыми зазубринами и шипами. Во время битвы накидку обвязывают вокруг пояса. Она защищает от камней живот – самое слабое место на теле. Если границы воюющих сторон проходят по суше, то бой происходит на границе. Почти все острова усеяны каменными валами, которые называются орор. За ними скрываются жители, бежавшие с побережья. Обычно нападающая сторона прибывает морем на многочисленных лодках, обороняющаяся сторона ожидает на берегу. Обе стороны стараются громкими криками запугать друг друга. Челны приближаются к берегу, вытянувшись в длинный ряд, чтобы пространство, на котором происходит высадка, было как можно более растянутым, и таким образом разделить силы обороняющихся. Эти последние ждут с петлями и запасом камней, чтобы принять нападающих градом снарядов. Они представляют собой базальтовые камни, отшлифованные в форме яиц, которые иногда весят около фунта и представляют собой оружие хотя и примитивное, но опасное, как убедили меня в том черепа, собранные во время моего пребывания на островах.
Нападающие, главной целью которых является высадка, слабо обороняются, так как изо всех сил гребут к берегу. По мере уменьшения расстояния между противниками праща уступает место гладкому копью, которое бросают с большой ловкостью и с не меньшей отбивают. Обычно сухопутный воин имеет запас из 5 копий, которые держит левой рукой, а бросает правой; когда запас их истощается, он собирает копья, брошенные врагами, и бьется дальше. В лодках, как правило, только один или двое воинов бросают копья с помоста, остальная команда гребет или разжигает сражающихся криками. Сторона, обороняющая берег, имеет большие преимущества, и поэтому прибывающий отряд должен быть силен числом и теряет в начале боя много, но обороняющиеся знают, что после высадки врага условия боя станут равными.

Колокольня старой разрушенной церкви
Женщины нападающей стороны принимают участие в начале сражения, поддерживая боевой дух воинов и разжигая врага оскорблениями и непристойными жестами. Как только лодки врагов причаливают к берегу, начинается собственно сражение. Женщин и движимое имущество переправляют тогда за холмы в глубину острова, а на берегу остаются лишь сражающиеся мужчины. Аборигены хотя и бьются с криками и со смехом, истинной храбростью не обладают; самая легкая рана делает воина неспособным к бою, и часто один или двое убитых решают исход сражения. Или нападающие возвращаются в лодки, которые охраняет часть воинов, или обороняющиеся отступают за песчаное побережье, к жилищам, увлекая за собой победителей. Последние обычно удовлетворяются полным уничтожением жилищ и плантаций покоренной деревни, не трогая ее воинов, засевших на укрепленных холмах.
После такой победы все кокосовые пальмы, хлебные деревья, таро бывают срублены, дома сожжены, а лодки становятся добычей победителей. Пленных – и раненых, и здоровых – независимо от пола и возраста убивают. Такие нападения повторяются, пока не наступит настоящий мир (фер), которого просит более слабая сторона и который заключается вождями обеих сторон. Если предметом распри было убийство, побежденные Должны понести потери в несколько или хотя бы одного человека; если войну вызвали споры из-за земли, она становится собственностью победителей…»
Приближался вечер. Было часов около пяти, когда мы снова сели в лодку. Поскольку в экваториальной зоне в 6 часов вечера уже наступает темнота, стало ясно, что осмотреть остров Фефан в тот вечер мне не придется.
Прогулка по лагуне на склоне дня оказалась не менее захватывающей, чем зрелище затопленных подводных лодок. Мы вышли из-за острова в открытое море. Заходящее солнце было подобно круглому экрану цветного телевизора. Маленькие облачка служили декорациями, отражающими все оттенки золотого, оранжевого и полную гамму цвета пламени, которое излучало солнце. Европеец из-за дыма, туч, домов почти никогда не видит горизонта, поэтому с трудом может представить себе это красочное зрелище на «солнечном экране»; огромный шар, необыкновенно быстро падающий в океан, – такое забыть невозможно.
Когда на небе уже зажглись первые звезды, мы подплывали к берегам Моэна. Отовсюду до нас доносились возгласы женщин, которые пришли купаться в лагуну. Здесь в воде плескались и девушки, и звезды.
Обе «стихии» всегда играли существенную роль и жизни мужчин с островов Трук, особенно прежде, в давние времена, когда искусство мореплавания в Океании достигло высшего расцвета. Правда, женщины, совершив обрядовый плач на берегу моря, оставались на суше, но звезды постоянно сопровождали замечательных мореплавателей в их долгих океанских экспедициях.
Мореходы и звезды
Филологи давно отмечали тот факт, что языки народов Полинезии и Микронезии богаты морскими и навигационными терминами. Это языки настоящих исследователей и великих мореходов. В них содержится множество обозначений, связанных с навигацией, маневрированием и, наконец, с метеорологией, космографией и океанологией.
«Это просто несчастливое совпадение обстоятельств, – писал Алан Вильер, один из лучших знатоков мореплавания в наше время, – что такие замечательные мореходы никогда не строили крупных судов, потому что, располагая чем-нибудь, обладающим лучшими мореходными качествами, чем лодки, мореходы Южных морей наверняка совершали бы путешествия в Азию и в Европу намного раньше, чем к ним прибыли европейцы»[19]19
Villiers Allan. Morse Koralowe. Gdansk, 1970, с. 40.
[Закрыть].
Знания в области астрономии у народов Океании значительно обширнее тех сведений, которые имели в то время европейские мореплаватели. Учеными установлено, что замечательным покорителям океана были известны расположение, координаты на востоке и время восхода в разные времена года около 200 звезд; знали, над какими островами они проходят, и умели проложить курс в открытом море от одного острова к другому. Мореходы не нуждались в компасе, так как ночное небо заменяло им часы.
Ян Станислав Кубари был поражен мореходным искусством островитян, тем более что сам совершал далекие путешествия на утлых судах микронезийцев. По своему обыкновению он приступил к систематическому сбору материалов на эту тему. Результатом этой работы стал большой очерк[20]20
Zegluga morska i handel migdzywyspowy Karolinszykow Centralnych (Notaty z podrozy po Oceanie Wielkim). – «Wszechswiat». 1882, № 16, 17, 18.
[Закрыть], опубликованный в Польше в 1882 г. в журнале «Вшехсвят». Он был написан на островах Трук и до сих пор представляет собой ценный вклад в мировую этнографию. Во вступительной части этой работы Кубари останавливается на конструкции местных лодок:
«… Как все лодки в Океании, мелиук, или мессук, Каролинских островов состоит из собственно лодки и внешнего поплавка, удерживающего в равновесии саму лодку, а также помоста, соединяющего обе части. В каноэ, предназначенных для морских путешествий, есть еще и четвертая часть, своего рода помост на подветренной стороне, на котором помещается нечто вроде крыши, где наиболее ценный груз и капитан с лоцманом находят укрытие во время путешествия. Собственно лодка уа помещается в середине всего каноэ, она и несет его, имея на подветренной стороне эпеп, т. е. вышеупомянутый помост с крышей, а на наветренной стороне балансир – там. Каноэ двигается благодаря парусу треугольной формы и значительных размеров. Этот парус, как и повсюду в Океании, плетут из листьев пандануса, и он мало чем отличается от парусов с соседних островов. Его размеры – до 40 квадратных метров – позволяют лодке (самая большая из них не превышает 30 футов в длину) быстро передвигаться на спокойной воде…»
Далее он пишет:
«… Пока суша, от которой отплыл житель Каролинах островов или к которой он направляется, находится в пределах видимости, управление лодкой легко и доступно почти любому взрослому жителю. Дело выглядит иначе, когда путь продолжается несколько дней по бескрайнему океану. Только здесь обнаруживается настоящее искусство мореплавания, которым владеют лишь немногие. Поэтому различается шкипер – силелап и штурман – палауи, он не касается управления лодкой, а лишь указывает морякам дорогу.
Такой палауи – мудрец, он уважаем всеми. Палауи знает расположение звезд, может определить время суток, разбирается в местоположении Каролинских островов и к каждому из них может указать путь… Основное, что помогает ему ориентироваться в море, – это знание расположения звезд, на которые опираются все его представления о географии и астрономии…»
В своей работе Кубари собрал много сведений не только по навигации, но также в области астрономии и языка. Так, например, он писал, что у жителей Каролинских островов существует 8 названий стран света. Север – это эффенг, восток – этуу, юг-иэр, запад – лотоу. Соответственно северо-восток называется – этууэффенг. Другие изыскания касаются отсчета времени, принятого на Каролинских островах.
«…Время между восходом двух созвездий определяется и называется марам – по положению Луны, которая за этот же период прошла все фазы. Это время разделено на 30 дней, вернее, ночей, так как лишь положение Луны служило для определения каждой ночи. Таким образом, каждая ночь получает свое название в зависимости от конфигурации лунного диска. Первая ночь месяца приходится на новолуние, когда Луны не видно на небосводе, и поэтому называется сикауру от сио – „ничто“ и оре – „видеть“…»
Кубари приводит названия всех остальных 30 ночей, среди которых, например, 8-я – руопонг, 19-я – сапас, а 25-я – ара.
Кубари писал, что отдельные звезды в определенное время указывают путь к конкретным островам. Так, например, мы узнаем, что Полярная звезда на островах Трук называется Фисамакит, указывает направление на северную часть Каролинских островов и приводит к Сайпану.
«…Умея различать эти звезды, жители Каролинских островов прекрасно ориентируются ночью на море. Кроме этого эти люди должны обладать точными знаниями направления ветров, морских течений и перемен в погодных условиях. Звезды помогают им ориентироваться лишь ночью, днем человек может опираться только на свой опыт. Перед тем как отправиться в путь, штурман не только просит своих ану (богов) послать ему успех, но и тщательно изучает расположение звезд на небе и течений на море. Еще на суше он определяет силу ветра и прикидывает, возможно ли двигаться курсом, который он наметил. По листьям кокосовых пальм он старается узнать, окажется ли выбранный день счастливым для путешествия. Малейшая неуверенность заставляет откладывать отплытие, и так повторяется до тех пор, пока все приметы не предскажут успешного плавания.
Мореплаватель зависит от самой незначительной перемены ветра, и поэтому ему так необходимо умение быстро это заметить. Определить направление ветра и его изменение в открытом море для здешнего островитянина было бы невозможно (ведь он обходится без приборов), если бы ему не помогало знание природы волн, которые он режет носом своего утлого каноэ. Ему прекрасно известны океанские течения, и на поверхности воды он великолепно различает волну, вызванную ветром, – она всегда изменчива – и волну подводную, т. е. образованную течением, – она неизменна. Задача морехода – в самом начале путешествия установить соотношение этих двух видов волн. Волна, поднятая ветром, – короткая, быстрая, идет по ветру. Волна, вызванная течением, покрыта ветровой волной и как более длинная появляется на поверхности с большими промежутками времени в виде немного возвышающегося пенистого вала. Ее направление постоянно, она идет против ветра. В хаосе волн наметанный глаз жителя Каролинских островов быстро различает оба вышеуказанных типа, а также угол их пересечения. Изменение направления ветровой волны говорит о перемене ветра. Кроме того, мореход имеет верный ориентир в виде волны, образованной постоянным течением, направляющимся на восток или на запад, которое лодка должна пересекать под определенным углом. Океанское течение (эог) этих широт не только известно местным жителям, по и принимается мореходами во внимание при расчетах курса. Они знают, что в месяце тамур оно сильно в восточном направлении, и ждут до самого конца ле эффенг, когда течение становится менее мощным; во всяком случае, они стараются пускаться в плавание при спокойном ветре и рулят под ветер или от него, смотря по обстоятельствам, чтобы восполнить потери скорости из-за силы течения…» – писал Кубари.

Пенсл на развалинах Нан-Мадола
Таким образом, как следует из вышеприведенных отрывков из работы Кубари, островитяне, вечно прикованные взором к небу и морским волнам, были настоящими мореходами. Они черпали силы в хорошем знании законов моря, поведения морских птиц, океанских течений, в умении различать волну, отбитую от берега, от ветровой волны. Островитяне, как «черные следопыты» Австралии или американские индейцы, умели читать следы животных, ни о чем не говорящие взору белого человека. Они были настоящими энциклопедистами в области познаний законов моря и суши, изучали положение планет и звезд, обладали способностью наблюдать за окружающей их природой и имели верный глаз.
К сожалению, искусство мореплавания в Океании до наших дней не дошло. Еще сто лет назад Кубари писал:
«…В настоящее время искусство мореплавания аборигенов Каролинских островов приходит в упадок. Жители высоких островов забросили обычай путешествовать за пределами их рифов, знание расположения звезд среди них также встречается все реже, и на многочисленных островах этой группы не найти опытного палауи…»
«Любовные трости»
После отъезда студентов прошло несколько дней. Однажды мне захотелось выпить немного пива. Правда, я не такой уж большой любитель этого напитка и в тропиках всегда предпочитаю употреблять местные плоды, например молоко кокосовых орехов, но именно в тот вечер я «загорелся» идеей полакомиться пивом.
В кафе отеля «Марамор» я уже успел подружиться со старшей официанткой (а может быть, владелицей) и ее помощницами. Женщины обращались с постояльцами довольно бесцеремонно и, как правило, принимали заказ, опираясь на плечо приезжего, и мило обсуждали с ними меню и способ приготовления блюд.
– Пожалуйста, подайте мне большую кружку пива, – нетерпеливо произнес я, все время поглядывая в сторону бара, откуда должен был появиться долгожданный нектар.
– Пожалуйста, а есть ли у вас карта? – услышал я в ответ.
– Какая такая карта? Я прошу пива!
– Правильно, хотеть пива, надо иметь «идентификатион кард», – последовал ответ на плохом английском языке.
Я почувствовал, что начинаю терять терпение, а пива хотелось все сильнее.
– Никакой «идентификатион кард» у меня нет, а есть паспорт, – пытался я терпеливо объяснить, но говорил уже громко.
– Не иметь карты – не иметь пива, – заметила официантка. Она повернулась и ушла.
Как раненый зверь бросился я к стойке – пиво в тот момент казалось мне нектаром богов.
– Пиво! – заорал я. – Большую кружку!
– А карта есть? – И игра началась сначала.
После нескольких вопросов и ответов на тему об этой карте я окончательно сдался. Бармен снабдил меня большим формуляром, который необходимо было заполнить, и обещал оформить эту проклятую карту за четверть часа. Потягивая отвратительно сладкий орандж, я начал заполнять анкету.
Холодное питье застряло у меня в горле, когда я начал читать формуляр. Чего там только не было! Одним из наименее непотребных были вопросы: «Не алкоголичка ли твоя мать?» и «Не было ли у твоего отца белой горячки?» Я ответил на все вопросы, постепенно приходя в ярость, тем более что жажда выпить кружку пива достигла апогея. После описания самого себя – рост, вес, цвет глаз – я уперся своими глазами прямо в бармена. Наверное, в моем лице было что-то не совсем обычное, потому что он схватил формуляр, выбежал из зала и… быстро вернулся.
– Это стоит доллар, мистер… – залепетал он.
Я достал из кармана деньги и передал ему. Он тут же исчез.
Через четверть часа он появился с чем-то вроде маленькой легитимации в одной руке и… бутылкой пива в Другой.
Я жадно пил то, чего мне так долго не давали, и через пену над бокалом одним глазом читал документ, Обязательный в дистрикте Трук: Alcoholic Beverage Consumption Identification Card. Temporary Permit nr… дата выдачи… срок действия один месяц. Дальше следовала фамилия, адрес (Варшава, Польша), гражданство, возраст, рост, вес… Пиво уже кончилось, а я все читал. На моем «пропуске в бар» стояла подпись шефа полиции.
За второй бутылкой некрепкого, но вкусного пива я задумался. Все это смешно, конечно, но зачем нужны эти ограничения? Что за этим скрывается? На следующее утро я получил некоторое объяснение от мистера Сиалеса.
Оказывается, под этим запретом скрывались глубокие социальные корни – острова Трук не нуждаются в рабочих руках. Я сам наблюдал за группами молодых мужчин, которые целыми днями слонялись без дела. Проблема стоит настолько остро, что администрация вынуждена идти на крайние меры – разрешать продажу более крепких напитков лишь по особым официальным документам, т. е. уже по известным «идентификатион кард». Вероятно, власти опасаются, что праздношатающиеся молодые люди, перебрав немного пива, могут учинить большие неприятности. Такое разрешение обязаны иметь при себе и все приезжающие сюда иностранцы.
Похоже, что в прежние времена островитянам жилось гораздо лучше. Они без ограничений попивали свой любимый кава, да и продуктов питания у них было в изобилии. Благодаря Кубари нам известен также тот факт, что на архипелаге Трук – в противоположность другим островам Микронезии – земледелием занимались только мужчины, тогда как в других местах – исключительно женщины. Из 100 островов и островков, составляющих дистрикт, заселена была лишь половина (так же, как сейчас); остальные представляли собой огороды или кокосовые плантации и своего рода свиноводческие фермы.
В настоящее время все здесь изменилось к худшему. Большая плотность населения, запустение земель заставляют администрацию дистрикта импортировать продукты питания. Таким образом, с одной стороны, излишек рабочих рук, с другой – отсутствие перспектив, например, для рыболовства, которое процветало перед второй мировой войной. Доходы от расширяющегося туризма лишь в малой части попадают в руки островитян.
У архипелага Трук интересная история. Она отражена в легендах и устных преданиях, созданных задолго до появления здесь первого белого человека. В1565 г., вероятно, им стал Алонзо де Ареллано. Из этих историй следует, что предки жителей Трука пришли сюда с маленького островка Кусаие, расположенного на несколько сот миль восточнее лагуны Трука. Этот затерявшийся в Тихом океане архипелаг был практически неизвестен европейцам до начала XIX в., когда здесь появилось судно Дублона (1814 г.). Позже к берегам этих островов причаливали суда многих мореплавателей, а среди них в 1824 г. и француза Дюпре. Потом сюда прибыл сам Дюмон-Дюрвиль. Совершая длительное путешествие, он завернул в эти места и имел много неприятностей с жителями Трука, нападавшими на его матросов. Много лет спустя великий первооткрыватель опубликовал свои довольно скудные сведения о Труке. Так что Европа обязана знаниями об этом архипелаге прежде всего Я. Кубари, который начал писать о нем с 1881 г. Ученый провел на островах свыше 14 месяцев (1878–1879). Нельзя также забывать и о его исследованиях, проводимых на островах Мортлок (теперь они находятся в составе территории Трука). Далее всегда недоброжелательно относящийся к Кубари немецкий этнограф Отто Финш вынужден был признать: «Сведениями об островах Трук мы обязаны прежде всего Я. Кубари…»
Давайте и мы обратимся к первым исследованиям Кубари (теперь уже неповторимым), которые касались, например, такой привлекательной темы, как женщины архипелага Трук:
«…Девушка обычно живет с матерью или ее сестрами и очень рано начинает работать: уже 7–8-летние девочки помогают взрослым женщинам собирать на берегу мелкую рыбу и моллюсков. Этим они заняты каждый день, а часто и по ночам, что составляет их первоочередную постоянную обязанность, к которой добавляется еще изготовление тапы и плетение сетей для ловли рыбы.

Автор среди развалин Нан-Мадола
С момента наступления половой зрелости для молодой девушки начинается новый период жизни – она становится феапун. Ее наряжают, родственники подносят ей дары. В родительском доме девушке устраиваются публичные смотрины: сидя на циновке, девушка принимает визиты друзей и соседей. Таким образом, теперь все знают, что она готова к замужеству.
Вследствие особенностей племенной организации отношения между полами сформировались весьма своеобразно. Мужчины идут искать общества женщин в соседние деревни, а женщин, которым запрещается покидать родные места, навещают мужчины из других деревень. Сохранение таких любовных отношений играет здесь огромную роль и составляет занятие почти исключительно молодежи. Когда старшие и женатые люди работают или отдыхают, молодежь ищет любовных приключений…»
Большую роль в этих ночных приключениях играли фелаи – «любовные трости». Они были и среди экспонатов, собранных Кубари, но многие ученые мужи в музеях Европы приняли их за оружие. Это тонкие, покрытые узором палочки, длина которых не превышала метра. Если даже и признать фелаи оружием, то это было всего-навсего оружие амура.
Впервые я увидел «любовные трости» в магазине, откуда одна молодая японка вынесла целую связку фелаи. Мне стало интересно, как же употреблялись эти «любовные трости», ставшие теперь предметом массовой продукции для туристов. Способ оказался весьма простым. Влюбленный юноша, желая под покровом ночи встретиться с избранницей сердца, подкрадывался к хижине и сквозь тонкую, сплетенную из циновок стенку просовывал свою резную трость. Проще говоря, фелаи благодаря индивидуальному резному рисунку, сделанному именно для этого юноши, служил ему настоящей… визитной карточкой. Разбуженная девушка ощупывала рукой рисунок и могла безошибочно установить, кто предлагал ей руку и сердце – местный «Стах» или «Анек». Установив личность поклонника, она решала, отправляться ей в условленное заранее место свидания или нет. Молодой человек был тоже огражден от ошибки: ведь никто, кроме них двоих, не знал условленного места свидания. Существовала целая система переговоров с помощью трости, которой пользовались любовники. Если она втягивалась внутрь хижины до отказа, это означало, что девушка согласна на свидание, если трость выталкивали назад – отказ. Шифр фелаи был разнообразен, и различные движения тростью означали: либо «приходи попозже, когда заснет мама», либо «выйду на рассвете» и т. д. Так или иначе, но система фелаи, вероятно, действовала безотказно, раз сохранилась до наших дней, а население острова… все увеличивается.
Однако вот что пишет об этом Кубари, первый этнограф островов Трук:
«…Желая заполучить девушку в жены, мужчина должен придерживаться следующих правил: предварительно договорившись с возлюбленной, он просит ее отца принять его. Затем он приходит в дом девушки с подарками и без дальнейших церемоний и обрядов остается там жить до тех пор, пока эти отношения ей нравятся. Во время своего пребывания в доме жены он должен ее содержать, а если его деревня находится поблизости, то время от времени он забирает ее с собой и живет там некоторое время. Иногда такой образ жизни супружеской пары способствует более тесной связи соседних деревень».
И далее:
«…Обычно вождь имеет много жен. Они живут все вместе в его доме. Более молодые мужчины тоже могут иметь несколько жен, но те живут отдельно, в своих родных деревнях, и муж обязан их всех содержать и навещать. Многоженство пользуется всеобщим уважением и придает мужчине вес, но оно возможно только для богатых…
Внешне супруги не проявляют по отношению друг к другу никакой нежности. Проявление ее считается непристойным. Однако часто супруги глубоко привязаны друг к другу и хранят память после смерти. Вождь островка Эген, на котором я прожил несколько месяцев, продал мне скелеты трех своих умерших жен. При виде одного из черепов, которые он хранил в дымоходе очага, он стал превозносить достоинства покойной, которая была его любимой женой».
Как видим, Кубари был энтузиастом и при сборе экспонатов не останавливался ни перед чем, случалось даже, что он вносил своего рода переполох в жизнь островитян, что следует из дальнейших строк его статьи:
«…Вообще местные жители почитают останки дорогих им покойников. Лимит, вождь из Сопоре на острове Фефан, – старик лет 70. Однажды я прибыл в его деревню. Он сказал мне, что его жена умерла много лет назад и тело ее похоронено неподалеку от его дома. Узнав о моих остеологических приобретениях, бедолага так испугался за кости своей жены, что тотчас сделал вид, будто собирается в морскую поездку на Нему. В действительности же он решил бросить прах возлюбленной в морские волны…»
Далее он пишет о погребальных обрядах островитян:
«…Тела покойных или топят в море, или хоронят на суше. Способ захоронения зависит от воли вождя, который, в свою очередь, руководствуется положением умершего в племени.
Похоронить в море считается более надежным, так как во время войн в случае победы враг не только уничтожает живых, но и глумится над могилами побежденных. К телу покойника, тщательно умащенному куркумой, одетому в торжественный наряд и завернутому в циновку, привязывают камни и затем бросают в море.
У аборигенов нет твердых погребальных обычаев, так что действия в каждом конкретном случае зависят не только от лиц, участвующих в обрядах, но и от местных условий. Одни племена предпочитают захоранивать своих покойников в море, другие – в прибрежном песке, а третьи – на вершинах холмов. Иногда тело усопшего оставляют на высокой скале на необитаемом острове.
В случае смерти вождя его тело торжественно выставляют на обозрение и все соседи приносят посмертные подарки, которые складываются возле покойного. Затем они становятся собственностью родственников умершего вождя. В деревне в течение нескольких месяцев траур, во время которого в деревню запрещено входить посторонним людям. В случае смерти рядового жителя траур короче. Плоды, накопившиеся за это время, считаются собственностью осиротевшей семьи. Несмотря на то что внешне родственные связи выражены слабо, лица, которых смерть земляка касается непосредственно, открыто демонстрируют свое горе. Так, вдова обычно сидит или чаще всего несколько недель лежит в доме. При этом она беспрестанно и громко плачет, причем голова ее покрыта куском материи, чтобы не видеть людей. Она добровольно голодает. Родственники всячески проявляют свою печаль и постоянно вполголоса повторяют имя умершего…»