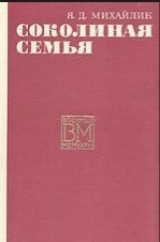
Текст книги "Соколиная семья"
Автор книги: Яков Михайлик
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
О том, как они дрались с врагом, мы знали на примере героического подвига гвардии старшего лейтенанта А. К. Горовца. Встретив в районе Белгорода группу фашистских самолетов, состоявшую из двадцати бомбардировщиков Ю-87, Александр смело вступил в неравный бой. Направляясь к переднему краю, гитлеровцы шли плотным строем. Сомнений не было: они собирались бомбить наши позиции. Горовец бесстрашно врезался в самую гущу самолетов противника. Гитлеровцы растерялись от неожиданности. Молниеносные атаки Александра следовали одна за другой. И каждая атака – сбитый юнкерс. Горовец уничтожил в этом беспримерном в истории бою девять фашистских самолетов. Остальные, не сбросив бомбы, поспешно обратились в бегство.
Слава об отважном летчике коммунисте Александре Константиновиче Горовце в тот же день облетела все фронты.
Вот туда, где гремело ожесточенное воздушное сражение, и посылал своих однополчан Е. П. Мельников. И они сражались мужественно, по-гвардейски. Примеров тому множество.
Так, 7 июля сразу же после партийного собрания, на котором коммунисты третьей эскадрильи обсуждали вопрос о выполнении одного из приказов Верховного Главнокомандующего, была объявлена тревога. Вместе с другими сослуживцами в воздух поднялся и молодой летчик гвардии младший лейтенант Ботин, имевший на своем счету всего лишь два боевых вылета. В воздушной схватке с противником кандидат в члены ВКП(б) Ботин проявил себя смелым, инициативным бойцом, уничтожив метким огнем двух фашистских стервятников.
7 июля в районе Курской дуги бомбардировщики 2-й и 17-й воздушных армий и авиация дальнего действия снова нанесли несколько мощных ударов по наступавшим танкам и пехоте противника. В воздушных боях было уничтожено более 200 немецких самолетов. А в полосе Центрального фронта советская авиация своими активными и массированными действиями завоевала господство в воздухе.
8 июля войска нашего фронта контрударом отбросили противника с северной окраины Понырей, куда он ценой огромных потерь ворвался 7 июля. Остановили немцев также в районе Ольховатка. В воздушных боях и от огня зенитной артиллерии фашисты потеряли 161 самолет, а на следующий день – 144.
За неделю оборонительных боев под Курском в воздушных схватках и на аэродромах наша авиация уничтожила более 1400 немецких самолетов. Это обеспечило нашей авиации господство в воздухе и создало благоприятные условия для контрнаступления сухопутным войскам.
12 июля – в день начала контрнаступления советских войск под Курском – мы снова вылетели в район Прохоровки для прикрытия своих войск с воздуха. Бомбардировщики врага на этот раз не появились, но зато на земле творилось что-то невообразимое. Лоб в лоб сошлись лавины танков и самоходных орудий. Как потом стало известно, их было до полутора тысяч с обеих сторон. Словно живые чудовища, машины расстреливали друг друга в упор, сталкивались в таране. Одни, крутанувшись на месте, замирали с подбитыми гусеницами, другие, охваченные пламенем, метались, будто в ярости. А на черный дым схватки шли все новые и новые стальные лавины, поднимая тучи пыли...
Летчики потом назвали это место у Прохоровки танковым кладбищем.
Я уже говорил, что вместе с другими однополчанами храбро сражался с врагом капитан Кобылецкий, несмотря на то что под Сталинградом он был тяжело ранен и летал теперь с деревянной подставкой на педали управления рулем поворота. Он всегда был ведущим группы – четверки либо шестерки яков. Помнится такой случай.
На смену группе Балюка взлетел Кобылецкий со своими ведомыми Ботиным, Лимаренко и Силуяновым. Набрав высоту над Понырями, истребители начали разворот в сторону солнца. И в этот момент капитан заметил, как со стороны противника показалась целая стая самолетов. На фоне облаков Кобылецкий определил, что это были ФВ-190. Группами по четыре – шесть штук они стремительно приближались к району Понырей.
Видимо, противник рассчитывал неожиданно напасть на советских истребителей, расчистить небо для своих бомбардировщиков. Но яки упредили врага. Со стороны солнца они перешли в атаку на ту группу фоккеров, которая несколько приотстала от общего боевого порядка.. Снайперской очередью капитан сбивает одного ФВ-190. Лимаренко и Силуянов поджигают второго фоккера, который, не долетев до земли, взорвался в воздухе.
Первая группа немецких истребителей ушла куда-то вниз, под облака, а с остальными завязался смертельный бой. Стремительными ударами Яковлевы наносили одну атаку за другой, отбивались от ударов противника, в критические моменты защищали друг друга. Вот, заняв отличное положение для нападения, Силуянов с короткой дистанции открывает огонь по фокке-вульфу, и тот пылающей головешкой падает вниз. Несколько немецких истребителей зажали в клещи Кобылецкого. Трудновато бы пришлось капитану, если бы его не выручил Ботин. Отличным маневром ведомый зашел одному из ближайших фоккеров в хвост и короткой очередью сбил его. Подоспевшие Лимаренко и Силуянов уничтожили еще одного стервятника. Это позволило Кобылецкому уйти из-под ударов врага.
Внушительные потери вынудили немцев прекратить бой и пикированием уйти от яков.
Обычно после таких жарких схваток Иван Иванович Кобылецкий находился в приподнятом настроении, был более общителен, собирал вокруг себя молодежь и рассказывал какой-нибудь эпизод из боевой жизни однополчан, из своей интересной фронтовой биографии.
В одной из таких бесед я услышал о том, как после августовского боевого вылета Кобылецкому, тогда еще старшему лейтенанту, пришлось добираться до госпиталя. Тяжелый, мучительный путь. Собравшиеся, особенно молодые летчики, слушали капитана затаив дыхание...
Кобылецкий лежал без сознания. День уже клонился к концу, когда летчик пришел в себя. Кругом рвались снаряды, свистели пули. Иван попытался подняться, но почувствовал нестерпимую боль во всем теле и снова свалился на землю.
Спустя некоторое время послышался гул танковых двигателей. Кобылецкий открыл глаза и увидел приближающиеся Т-34. На одном из них открылся люк, из которого вылезли два танкиста в серых комбинезонах и черных шлемах. Тот, что был поменьше ростом, спросил:
– Жив, дружище? Здорово ты мессов бил! Мы видели, как они горели от твоего огня...
– Жив!.. Да вот подняться не могу. А передовая далеко?
– В том-то и дело, что ты на нейтральной полосе приземлился, – ответил второй. – Мы больше часа отбивали тебя всем полком и только сейчас выбрали момент, чтобы подобрать.
– Спасибо...
– Благодарить потом будешь, а сейчас приказано доставить тебя в медсанбат.
Врачи оказали раненому первую помощь, затем его отвезли на Сталинградскую пристань.
Далеко за полночь причалил теплоход Бородино. Началась погрузка раненых, но из-за налета бомбардировочной авиации противника прекратилась. Так продолжалось несколько раз. Зенитчики, прикрывая пристань, посылали десятки снарядов навстречу вражеским самолетам, но юнкерсы, как назойливые мухи, подходили по одному и сбрасывали бомбы в районе пристани.
Лежа на носилках, Кобылецкий мог только повернуть голову. Он скрежетал зубами от боли и злости. Рядом с носилками сидела молоденькая медицинская сестра Валя, сопровождавшая Кобылецкого до госпиталя. Она успокаивала летчика, поправляла сбившиеся порядки, давала ему пить.
Бомбардировка пристани прекратилась. Распорядители установили очередь на теплоход. Началась погрузка. Уже была перенесена с берега не одна сотня раненых, как в небе опять повисла осветительная бомба на парашюте. Следом послышался гул моторов, а за ним – завывающий звук бомбы. Все притихли, кроме боевых расчетов зенитной артиллерии, которые открыли огонь по налетчикам. Одна бомба разорвалась рядом с теплоходом, другая где-то в стороне. Засвистели осколки. Валя вскрикнула и упала замертво возле носилок Кобылецкого. Висячий фонарь догорел, и мрак окутал пристань. Ничего не было видно даже за несколько шагов, но погрузка раненых была возобновлена. И вдруг в небе снова раздался взрыв.
– Смотрите, смотрите! – послышался чей-то голос. – Самолет горит!
– Так ему и надо, стерве, – пробасил кто-то в ответ.
Было отчетливо видно, как горел, снижаясь, бомбардировщик. На душе Кобылецкого стало отраднее: на одного стервятника меньше. Юнкере, не закончив круг, упал в Волгу.
Погрузку раненых завершили. Кобылецкого поместили на палубе. Теплоход отшвартовался, дал длинный гудок и медленно поплыл на север от Сталинграда.
Наступил рассвет. Казалось, все тревоги минувшей ночи остались далеко позади. Но вот раздался крик матроса:
– В воздухе самолеты!
С запада показалась группа Ме-110. Началась бомбежка. Капитан теплохода искусно маневрировал, уклоняясь от сбрасываемых бомб, которые рвались слева и справа.
Раненые ругались.
– Разве не видят стервятники, что это санитарный теплоход?
– Гады проклятые! Ни дна им, ни покрышки!
– Звери!..
Очередная серия бомб легла справа по борту, но. к счастью, ни одна не взорвалась. Группа самолетов ушла. Ее место заняла другая. Растянувшись друг за Другом, самолеты начали пикировать на теплоход. Снаряды и бомбы рвались повсюду. На палубе творилось что-то невероятное: шум, крик, стоны. Вспыхнул пожар.
Часть команды теплохода тушила огонь, другая занималась ранеными.
От взрыва бомбы у самого борта образовалась большая пробоина. В трюм хлынула вода, ее не успевали откачивать насосами. Команда бросилась задраивать пробоины, но безуспешно. Теплоходу угрожала опасность. Раненые, способные передвигаться, сходили вниз, отыскивали спасательные средства и прыгали в воду. Кобылецкий этого сделать не мог, он лежал без движения и ожидал помощи...
Один мессершмитт вышел из пикирования так низко, что чуть не врезался в палубу. Гибели он, однако, не избежал – попал под обстрел зенитной артиллерии, взорвался и упал на берегу Волги.
Но за самолетами редко кто наблюдал, разве только те, которые вынужденно лежали на спине. Остальные спасались, кто как мог. Положение на теплоходе ухудшалось: пламя все больше распространялось по палубе. Языки огня начали подбираться и к Кобылецкому. Дым ел глаза, лицо обжигало жаром.
Так глупо погибать не хотелось, и летчик решил любым путем спуститься вниз, а там выброситься в воду. Левой рукой он с трудом достал из-под головы носовой платок, в котором были завязаны документы, ордена, бритва. Зубами развязал узел, взял бритву и распорол бинты на руках и ногах.
Теперь надо было спуститься вниз. Упираясь левой коленкой в пол и цепляясь руками за что попало, Кобылецкий пробирался к лестничному проходу. Но здесь спуститься было нельзя: ступеньки горели. Летчик увидел диван у окна и, собрав все свои силы, поднялся на него, чтобы выброситься вниз.
От пылающей доски, упавшей откуда-то сверху, загорелись обшивка дивана и одежда на Кобылецком. Падая в проем окна, разбил голову. От боли потерял сознание. Пришел в себя от того, что на теплоходе взорвался паровой котел.
Летчику оставалось сделать последний рывок, чтобы через борт вывалиться в Волгу. Горящий и полузатопленный теплоход уже накренился; еще несколько минут, и он пойдет ко дну. Медлить было нельзя, и Кобылецкий, перекатываясь с боку на бок, достиг борта. Оттолкнувшись, полетел вниз головой.
Вода несколько освежила его. Было два выхода: утонуть или плыть во что бы то ни стало. Но как в таком состоянии доплыть до берега? И Кобылецкий, держа в зубах узелок с орденами и документами, лег на спину и поплыл, работая одной рукой и ногой. Волны почти не было, поэтому Иван с трудом, но все-таки держался на поверхности.
Вскоре под руку попалась довольно широкая доска. Кобылецкий лег на нее, устроился поудобнее, направляя по течению к берегу.
Однако такое путешествие продолжалось недолго. Налетевшие истребители противника начали охотиться за спасающимися. Вот справа от Кобылецкого поднялся ряд фонтанчиков от снарядов. Летчик отпустил доску и нырнул под воду. Вынырнув, осмотрелся и опять скрылся под водой, потому что пикировал еще один мессер. Так продолжалось несколько раз. Но вот снаряд разорвался совсем рядом с Кобылецким. Доска разлетелась в щепки, и сам он, как приглушенная рыбина, пошел ко дну. Что случилось с ним, он не мог сообразить, но твердо знал, что надо всплыть. Помогла прежняя спортивная закалка – всплыл. А узелок с орденами и документами пошел ко дну...
Силы, казалось, совсем иссякли, но желание победить смерть заставляло держаться на поверхности. И он держался до тех пор, пока не ощутил руками берег. Это было спасение.
Неподалеку от воды сидел раненый пехотинец. Он безуспешно пытался разорвать рубашку, чтобы забинтовать раздробленную ногу.
– Зубами рви по шву, – посоветовал ему Кобылецкий.
Боец приподнял голову, как бы удивляясь, кто ему подсказывает, затем благодарно кивнул летчику.
– Рви, рви, – подсказывал Иван. – Вот так. Теперь скручивай и вяжи выше колена.
Сделав перевязку, боец обессиленно откинулся на спину. К берегу причаливала лодка. На веслах сидел пожилой мужчина с широкой бородой. Греб он быстро и уверенно. В лодке находилась и медсестра.
– Эх, ребятки, – вздохнул старик, – и сколько еще таких, как вы, по всему берегу разбросано...
– А что, папаша, много уже подобрали? – спросил Кобылецкий.
– Вы будете сто двадцать четвертый, солдат – сто двадцать пятый.
– И все живы?
Старик ответил уклончиво:
– Многие еще плавают. Давай-ка, дочка, бинтуй, делай, что положено, и поплывем дальше.
Летчику и пехотинцу оказали первую помощь. Затем их перенесли в лодку. Дед оттолкнулся от берега и поплыл по течению.
Из Средней Ахтубы, где И. И. Кобылецкий пролежал несколько дней, его направили в Саратов.
– Чем и как лечили, – заканчивая рассказ, проговорил капитан, – это для вас неинтересно. Важно, что врачи склеили, сшили меня, за что им великое спасибо, и теперь, как видите, я опять воин, опять человек.
Храбрый воин и настоящий человек, – хотелось сказать Ивану Ивановичу, но, зная его скромность, я воздержался от такой оценки, тем более что он был старше меня по званию.
Еще в самом начале второй половины июня сорок третьего года по радио промелькнуло коротенькое сообщение о том, что на одном из участков советско-германского фронта в составе наших военно-воздушных сил сражается эскадрилья истребительной авиации Нормандия, состоящая из летчиков-французов. За последние дни, передавало радио, шесть летчиков этой эскадрильи в групповых воздушных боях сбили три самолета Фокке-Вульф-190.
Теперь, после Понырей и Прохоровки, в полк откуда-то дошла весть, что французы воюют где-то по соседству с нами. Однажды, воспользовавшись приездом заместителя командира дивизии полковника Крупинина, мы завели на эту тему разговор. Время клонилось к вечеру, и офицеры, окружив полковника в редких зарослях ольховника, неподалеку от самолетной стоянки, осаждали его вопросами.
– Правда ли, товарищ полковник, – спросил Саша Денисов, – что французская эскадрилья здорово бьет немцев?
– Вижу, газет вы за последнее время не читали. Придется замполиту вашему сказать.
– А что?
– Да то, что в Правде от третьего июля опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении офицерского состава французских летчиков нашими орденами.
– Расскажите о них.
– Хоть бы сесть, что ли, пригласили, – чиркнув зажигалкой, сказал наш собеседник.
Мы сели на припорошенный пыльцой и мелким листобоем травяной ковер.
– Да, хлопцы, – начал полковник, – есть такая эскадрилья. Создана она была в конце прошлого года по соглашению между Советским правительством и Французским Национальным Комитетом. Французы прилетели к нам из Алжира через Иран, чтобы в нашем небе бить врагов, оккупировавших их родину.
Слова рассказчика напомнили нам тот случай, когда бортовой стрелок ефрейтор Шорнштейн, взятый в плен 2 июня, заявил: Я... прибыл из Франции. Таких шорнштейнов, наверное, была не одна сотня во Франции. И не с доброй миссией. Сколько мирных французских городов и сел бомбили фашисты с воздуха, сколько горя причинили они французским людям, потомкам парижских коммунаров. Нет, не зря, совсем не зря прилетела Нормандия к нам...
– Ну так вот... – продолжал Крупинин, – выбрали они самолеты, которые им понравились, – Яковлевы, и начали воевать. Сначала были под Калугой, потом перелетели сюда, под Курск.
– И много их? – поинтересовался кто-то.
– Четырнадцать было. Четырнадцать летчиков, – ответил полковник, подчеркнув слово было. – Командовал эскадрильей майор Жан Луи Тюлян.
– Я говорил, что Жан! – обрадованно воскликнул Николай Крючков.
– Погоди, Коля, – недовольно махнул рукой Крупинин. – Недавно, семнадцатого июля, не возвратился с задания командир Нормандии – майор Тюлян... Теперь эскадрильей командует капитан Альберт Литольф. Здорово воюют ребята. Немцев бьют почем зря.
– А что со вторым фронтом? – спросил Саша Денисов.
– Это уже не по моей части, братцы. Вот приедет лектор Минаев – у него и спросите.
Полковник встал, отряхнул брюки и куртку, попрощался и пошел к командному пункту полка, где стояла дивизионная машина. Вышедшие из землянки Мельников и Верещагин о чем-то поговорили с Крупининым, и он уехал в штаб дивизии.
Как потом выяснилось, полковник приезжал по двум очень важным вопросам: полк представлялся к награждению орденом Красного Знамени и отправлялся на переформирование...
О том, что наш 54-й гвардейский Керченский истребительный авиационный полк ежедневно вносил большую лепту в разгром фашистской Германии, говорят такие цифры. Только на Центральном фронте летчики части совершили 800 боевых вылетов (общий налет 680 часов), из них: на разведку – 304, на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков – 126, на прикрытие аэроузла – 126, на перехват – 84.
Проведено несколько десятков воздушных боев, сбито 22 и подбито 12 самолетов противника.
В июльских боях на орловско-курском направлении, – говорилось в представлении Военного совета фронта, – полк вел напряженные боевые действия и успешно справился с поставленными задачами...{8}.
О том, что нам предстоит отправиться на переформирование, мы узнали в тот день, когда к нам приезжал полковник Крупинин и рассказывал об эскадрилье Нормандия.
Вечерело. Уже было ясно, что больше вылетов не будет. Солнце спряталось за горизонт. На аэродром пали робкие сумерки. Вспоминая рассказ полковника, ребята продолжали высказывать свои предположения о втором фронте, говорили о боях под Орлом, который со дня на день, вероятно, будет освобожден.
От землянки шагали к нам Мельников, Бенделиани, Верещагин и замполит. С другого конца стоянки спешили Ривкин и Талов – командиры второй и третьей эскадрилий. Получилось так, что собрался весь руководящий состав полка.
– Товарищи командиры! – сказал Евгений Петрович Мельников. – Необходимо привести в порядок всю авиационную технику. Завтра к исходу дня передадим самолеты в соседний полк. Нас выводят из состава действующих войск, мы прекращаем бои и идем на отдых. Точнее – на переформирование. Вот так. Огорчайтесь или радуйтесь, но приказ есть приказ. Идите и объявите его в эскадрильях.
Иван Федорович Балюк и я еще долго стояли в раздумье. Как же так? У нас есть самолеты, летчики. Бои за Орел еще не окончены, а нам приказывают отдыхать. Странно, очень странно. Однако, решив, что начальству виднее, мы пошли в эскадрилью. Надо было найти инженера Дрыгу и сообщить ему новость.
Обогнув небольшой лесной массив, мы вышли на летное поле, вокруг которого стояли замаскированные самолеты. Перепрыгнув через старый валежник, вышли на тропу, негромко разговаривая между собой. Тропа петляла мимо землянки оружейников и упиралась в стоянку яков. С одного из кустов вспорхнула какая-то птица, чуть не задев нас своими трепетными крыльями.
– Пристроилась рядом с людьми, – заметил Балюк.
– Ребята не разоряют гнезд, вот птицы и живут рядом, – ответил я.
Поблизости были слышны голоса:
– Быстрее заканчивайте.
– Уже почти готово. Последняя гайка.
Дрыга, как всегда, хлопотал на стоянке самолетов. Он торопил техников и механиков, заканчивающих восстановление подбитой в бою девятки.
– Кажется, ничего не знает о приказе, – пробурчал под нос Балюк, заметив инженера.
Дмитрия Дрыгу мы уважали. Это был очень способный, энергичный человек, мастерски знающий свое дело. Он умел организовать работу так, что любой самолет, выведенный из строя в бою, к исходу дня или к утру был снова готов к полету. Вот за это и уважали инженера в эскадрилье все летчики, техники и механики. Его ценил сам инженер полка Кобер.
Подойдя к Дмитрию, Балюк сообщил ему, что есть приказ завтра к исходу дня передать самолеты соседям.
– Хоть сейчас, – ответил Дрыга. – А девятку утром опробуем – и тоже можно сдавать.
– Ну что ж, хорошо! – одобрил командир. – А сейчас пойдем проверим, что у тебя делается в каптерке, как налажен учет запчастей. А заодно проверим и НЗ в твоей знаменитой фляге.
Дрыга шел молча. Непривычно человеку вот так вдруг остаться с завтрашнего дня без дела.
– Чудно! – проговорил он, не обращаясь ни к кому.
– Что чудно? – спросил Балюк.
– Безработными, говорю, будем с завтрашнего дня.
– И отдохнуть надо. Люди устали. Кстати, отдых-то надо спрыснуть.
– Как это понимать?
– Очень просто – выпить по махонькой из твоего неприкосновенного запаса.
– Есть ликер шасси. Хотите попробовать?
– Бр-р-р! – поежился Балюк. – Заборист?
– Мы привыкли, – равнодушно ответил Дрыга. – Спирт с глицерином. Пьется мягко.
Мы пришли в каптерку, где хранилось все, что было необходимо для ремонта и восстановления самолетов и моторов.
– Приземляйтесь, – сказал инженер и первым сел на свернутый самолетный чехол.
Вскоре перед нами стояла банка ликера. Закуска была более чем скромная кусочек черного хлеба и фляга воды.
– Чтобы вы не сомневались, я первый выпью. Ликерчик не первого сорта, но все же профильтрованный – ни резиновых манжет в нем, ни прокладок нет, да и глицерина – самая малость. Бывайте здоровы, отцы-командиры!
Дрыга выпил, глотнул из фляги воды и отломил кусочек хлеба. Потом налил командиру и мне. Жидкость для заполнения амортизационных стоек была тягучей и сладковатой.
– Настоящий ликер, – похвалил я. – Авиационный. Но больше двух глотков что-то не могу осилить.
– Давай другого налью, – предложил Дмитрий.
– Если такого же завода, то избавь.
– Авиация пошла! – недовольно произнес инженер. – Выпить не с кем.
Ночь прошла спокойно. На следующий день полк передавал соседям самолеты.
– Как идут дела? – спросил Мельников командира эскадрильи.
– Все в порядке, – доложил Балюк. – Что же мы теперь будем делать?
– Отдыхать, Иван Федорович. Почти все летчики, в том числе и ты с Михайликом, завтра отправляются под Москву, в дом отдыха. Есть там такое местечко укромное – Домодедово. Слыхал?
– Знаю, – ответил капитан.
– Вот туда и полетите. А сейчас заканчивай дела и готовься с хлопцами к отлету.
Чтобы дать последние распоряжения, мы пошли искать инженера эскадрильи. Дрыга лежал под деревом, безвольно раскинув руки.
– Что с тобой? – спросил его Балюк.
– Голова болит, и в глазах чертики прыгают...
– А ты не хватанул ли своего ликера после нас?
– Почти не пил. Так, еще немного приложился...
– Яков, беги за доктором! – распорядился Балюк. Цоцорию я нашел быстро.
– Ликер? – догадался он.
– Марки шасси.
– Ничего страшного, Яков. Но теперь он будет разбираться, что можно пить, что нельзя...
После этого случая Дрыга не то что амортизационную смесь – и водку-то пил с великой осторожностью.
...Прилетев в Домодедово, мы узнали, что наши войска, наступавшие на орловском направлении, изгнали врага из Орла, а полки и дивизии, громившие его на белгородском направлении, освободили Белгород.
Вечером 5 августа 1943 года Москва салютовала советским воинам, одержавшим замечательные победы. Это был первый в Великой Отечественной войне салют в честь доблестных частей наших Вооруженных Сил.
Перед броском на Запад
...День придет: от Севера до Юга
Крылатая победа пролетит!
Константин Симонов
Домодедово встретило нас радушно, приветливо – горячим душем и добрым столом, тишиной библиотеки, по которой мы, солдаты, так соскучились, и безмятежьем кроватей с белоснежными простынями и пуховыми подушками. Два-три дня спали, как бобры зимой. Давным-давно, с довоенных времен не было такого уюта. Ни команд, ни тревог, ни выстрелов, только тихо позванивают на августовском ветру сосенки да березки.
Ребята, приведя себя в божеский вид после фронтовых мытарств и затрапезности, блаженствовали. Днем бродили по лесу, выходили на поля, нетронутые войной, навещали соседние деревеньки, а то и выезжали в Москву, гремевшую почти каждый вечер победными салютами. А к ночи собирались в палатах, читали, слушали радио, играли в шахматы и домино. И как-то уж так получалось, что обязательно вспоминали минувшие бои. Вроде бы и не стоило вспоминать тяжелые дни, полные лишений и невероятного напряжения, однако говорили о них, как о больших событиях в жизни каждого из нас, как о памятных вехах первого поколения Октября.
В конце августа из Домодедова мы возвратились под Курск, в район Щигров, где летчики должны были переучиваться на новых, еще неизвестно каких самолетах, чтобы потом снова отправиться на фронт. В один из таких дней новый командир дивизии полковник Владимир Викентьевич Сухорябов собрал нас и зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Мы уже знали из сообщения но радио, что многие наши соратники удостоены высокого звания Героя. Но когда перед строем полковник зачитывая Указ, торжественная приподнятость была настолько велика, что мы едва справлялись со своими чувствами.
...За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда гвардии капитану Балюку Ивану Федоровичу, гвардии майору Бенделиани Чичико Кайсаровичу, гвардии капитану Дубенок Геннадию Сергеевичу, гвардии лейтенанту Ратникову Петру Петровичу, гвардии капитану Ривкину Борису Мироновичу...
Митинг бурлил. Выступали награжденные, говорили их боевые друзья, командиры и политработники. Речи были короткие, но горячие, взволнованные, заряженные великой силой патриотизма, клятвой на верность Советской Родине, ее народу и партии.
Солнце уже поднялось довольно высоко, и я проснулся от его лучей, пробившихся через щель занавешенного одеялом окна. В комнате было душно, и я решил распахнуть окна.
Спросонья зацепился за чайник. Падая со стола, он загромыхал, разбудив ребят. Все девять человек вскочили в недоумении.
– Что такое?
– Кто стреляет?
– Бомбят, – пошутил я. – Вставайте, байбаки! Привыкли бездельничать в Домодедове.
– Ай, – отмахнулся самый молодой из нас, летчик Гагин, и, перевернувшись на другой бок, накрыл голову подушкой.
Одеяла с окон полетели вниз, и комната заполнилась ровным светом теплого осеннего утра, свежим, чистым воздухом с вкусным запахом свежеиспеченного хлеба, который выпекали в пекарне обслуживающего батальона.
– Хлеб, – потянул носом Саша Денисов.
– Русский хлеб, – смакуя, произнес Илья Чумбарев. – Корочку бы сейчас, румяную, поджаристую. С маслом. А?
– Не заработали мы на хлеб сегодня, – лукаво улыбнулся Иван Балюк.
– А мы аванс попросим, – в тон ему ответил Илья. – Эй, Гагин, вставай, красоту проспишь. Вставай да сбегай за хлебом. Иль не чуешь благодати ржаной?
– Не мешай ему, – сказал Саша Денисов, – ведь он до авиации работал пожарником. А у них такой закон – пока на одном боку не проспишь двадцать пять часов кряду, ни разу не повернувшись, не видать тебе посвящения в рыцари брандспойта.
Поднялся хохот. Не выдержал и Гагин. Смеясь вместе со всеми, он начал заправлять свою кровать. Одни выбежали на зарядку, другие стали умываться.
– Яков, – попросил Иван Балюк, – полей, пожалуйста, на голову.
– Лей не лей, все равно шевелюра не вырастет, – съязвил Денисов.
– Важно не то, что на голове, а то, что в голове, – отфыркиваясь, заметил капитан. – А у тебя, Саша, ветерок в голове, хотя и шевелюра буйная.
Ребята снова засмеялись.
У дверей показался посыльный и доложил, что командира первой эскадрильи вызывают в штаб к одиннадцати ноль-ноль.
– Хорошо, приду, – сказал капитан. Собравшись, мы пошли в столовую, а позавтракав, направились в штаб. Евгений Петрович Мельников расспросил капитана об эскадрильских делах, об учебе молодых летчиков. Балюк ответил на вопросы командира полка и под конец разговора спросил, скоро ли в настоящее дело, когда получим новые самолеты.
– Скоро, скоро, – заверил подполковник. – А пока вот тебе пакет, доставишь его в штаб дивизии.
– На автомобиле? – уточнил Балюк.
– Зачем же на автомобиле? Бери По-2 и лети. Сегодня же и обратно вернешься.
– Есть, – повеселел капитан. – Летать, даже на кукурузнике, лучше, чем сидеть и зубрить наставления.
– У вас все такого мнения?
– Конечно, – ответил Балюк.
– Напрасно, Иван Федорович. – Наставления надо знать. Ну, собирайся – и в путь.
Капитан улетел, предупредив меня, что, если он почему-либо не возвратится, надо завтра провести занятие с летным составом по тактике боевых действий своих самолетов и авиации противника.
Вскоре из штаба дивизии позвонили, что капитан Балюк прибыл, передал пакет и сразу же, не задерживаясь, вылетел обратно. Мы ждали его час, два... Уже наступила темнота, а Ивана Федоровича все не было. Я пробыл на аэродроме до глубокой ночи. Не сел ли командир на вынужденную? Не уклонился ли от маршрута?
Только на вторые сутки стало известно, что капитан вылетел за несколько минут до захода солнца, а когда уже наступила полная темнота, он приземлился возле одной из деревень. Подробности же рассказал сам Балюк...
Небольшая площадка, облюбованная капитаном, оказалась вполне пригодной для взлета и посадки. Пройдя над ней два раза, Балюк сел. Подрулив поближе к первому сараю, он развернул самолет против ветра и выключил мотор. Не успел вылезти из кабины, как его окружила толпа любопытных деревенских ребятишек, к которым вскоре присоединились и взрослые.
Какой-то белобрысый паренек в кепке без козырька, вытерев ладонью нос и обдернув выцветшую рубашонку с расстегнутым воротом, отделился от толпы и, пристукнув каблуками здоровенных ботинок, спросил:
– Вы – советский?
Иван Федорович улыбнулся:
– Так точно, товарищ... как тебя?
– Степашкой зовут, – ответил мальчонка.
– Советский, товарищ Степашка!
В толпе засмеялись.
– А зачем прилетели?
– На тебя посмотреть, Степа. Уж больно ты парень-то толковый. И смелый, видать. И вот на них тоже, – показал капитан на Степиных односельчан.
– А вы с немцами воевали или все время вот так летали, по деревням? спросил Степашка.








