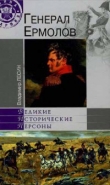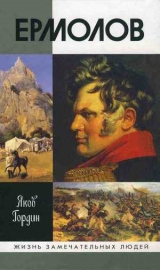
Текст книги "Ермолов"
Автор книги: Яков Гордин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Чин полковника Ермолов не получил, но и старшинство у него отнято не было. Правда, особой пользы ему это не принесло. Он ждал производства еще пять лет.
Денис Давыдов – источник ясен – объяснял эту несправедливость: «Граф Аракчеев пользовался всяким случаем, чтобы выказать свое к нему неблаговоление; имея ввиду продержать его по возможности долее в под полковничьем чине, граф Аракчеев переводил в полевую артиллерию ему на голову либо отставных, либо престарелых и неспособных подполковников». Они получили чин раньше Ермолова, и, соответственно, старшинство оказывалось за ними, а следовательно, и производство в полковники.
Отношение и Александра, и Аракчеева к «прощенному преступнику» понятно: Александр, поддержавший заговор против своего отца, тем не менее воспринимал этих «провинциальных смутьянов» как нарушителей установленного порядка. Прощение было необходимым и рассчитанным жестом, но это не значит, что все прощенные были ему симпатичны. Одно дело четкий и быстрый дворцовый переворот, не грозящий устоям государства, и совсем иное – движение офицерства, расшатывающее – против кого бы оно ни было направлено – самые основы армейской дисциплины. А выход из-под генеральского контроля офицеров чреват был выходом из-под всякого контроля солдат.
Ермолова он вернул, но поощрять не собирался.
С Аракчеевым все было еще проще. Он знал, против кого конспирировали Ермолов и его друзья: против императора Павла, которому он, Аракчеев, был искренне предан.
Положение сложилось конечно же парадоксальное – любимый Аракчеевым Павел был свергнут и убит с согласия Александра, но теперь оба они сходились в неприязни к тем, кто высмеивал покойного императора и обдумывал планы его убийства…
Одно дело высший генералитет, исходивший из чувства самосохранения и просто сменивший персону на престоле, и совсем иное – молодые вольнодумцы, воспитанные в эпоху Орловых и Потемкина, эпоху, истоком которой был гвардейский мятеж.
Хотя идеолог и организатор переворота 11 марта Пален был из Петербурга удален.
Надо сказать, что соображения Александра были вполне резонны, дальнейшее развитие событий это подтвердило. Каховского с товарищами вряд ли следует считать идеологическими предтечами декабристов, но декабристы, безусловно, продолжили их нравственную и организационную традицию.
Периоду с момента своего освобождения по 1805 год Алексей Петрович в воспоминаниях уделяет одну страницу. Воспроизведем ее и попробуем развернуть.
«С трудом получил я роту конной артиллерии, которую колебались мне доверить как неизвестному офицеру между людьми новой категории». Вот важная и точная формула – «между людьми новой категории».
При каждом политическом катаклизме стремительно появляется эта «новая категория» людей, так или иначе причастных к смене власти или с первого же момента громко заявлявших о поддержке новой августейшей особы.
Хотя и существует мнение, что смоленские вольнодумцы были ориентированы на наследника Александра Павловича, а возможно, даже имели с ним связь, но в мартовском Петербурге 1801 года оказалось столько людей, стоявших вплотную к событиям, что в любом случае провинциальные сторонники великого князя Александра оказались вне поля августейшего внимания.
Имя Ермолова было неизвестно Александру, но зато вполне известно Аракчееву.
«Я имел за прежнюю службу Георгиевский и Владимирский ордена, употреблен был в войне с Польшей и против персиян, находился в конце 1795 года при австрийской армии в приморских Альпах. Но сие ни к чему мне не послужило, ибо неизвестен я был в экзерциргаузах, чужд смоленского поля, которое было защитою многих знаменитых людей нашего времени».
Когда Ермолов утверждал, что ему неизвестны были причины его ареста и ссылки, он, разумеется, кривил душой, выстраивая свою биографию. И тут обижаться было не на кого. Он и сетует только на судьбу.
Но после возвращения на службу ситуация изменилась. Изменился и адресат претензий. С этого времени обида, ощущение несправедливости – постоянная интонация его воспоминаний. Конечно же он имел куда больше заслуг, чем многие его новые сослуживцы. Конечно же он имел куда более профессиональных достоинств, чем многие его начальники. Но его не было уже несколько лет перед глазами тех же великих князей во время парадов и учений на том же Смоленском поле. Он был неизвестен, а следовательно – чужой.
«Я приезжаю в Вильну, где расположена моя рота. Людей множество, город приятный; отовсюду стекаются убегавшие прежнего правления насладиться кротким царствованием Александра 1-го; все благословляют имя его и любви к нему нет пределов! Весело идет жизнь моя, служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление; все страсти покорены ей!»
Это был опасный период. Обстоятельства заставляли его становиться обыкновенным человеком, гасили его «непомерное честолюбие», ибо совершенно непонятно было, каким же образом может оно осуществиться. Его заявление: «служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление» – правдоподобно только во второй половине фразы. Да, служил он с рвением. Ему нравилось служить. Но служба влекла его не сама по себе, а как достижение цели далеко не заурядной. Он понимал, что может удовлетворить свое честолюбие только на военном поприще.
Но как могло «льстить честолюбию» – его честолюбию! – положение командира конноартиллерийской роты, «завалявшегося в полуполковниках»?
Денис Давыдов, благоговевший перед Ермоловым, писал: «Алексей Петрович, не могущий не сознавать в себе способностей, был всегда одарен большим честолюбием».
Воспоминания являются – даже при фактологической правдивости – в большей степени литературой, чем исповедью.
«Весело идет жизнь моя…»
Чтобы составить себе ясное представление о жизни и настроении Ермолова в этот период, надо снова обратиться к его письмам Казадаеву.
Писем виленского периода довольно много, и они существенно контрастны по отношению к мемуарам, и каждое из них наполнено смыслом и выразительно очерчивает внутренний облик нового Ермолова – Ермолова после жизненной катастрофы. Но мы ограничимся несколькими фрагментами [23].
«Итак, я теперь опять имею пустую выгоду быть первым подполковником. Палкевич вышел в корпус Киевский. Ей богу, больно столько времени быть в одном чине и служба, имеющая для меня все приятности, иногда их теряет в виду моем. Но что делать, любезнейший друг, боюсь только, чтобы ты меня не упрекнул малодушием. Но кто, служа, не ищет протесниться сквозь кучу обогнавших, и если судьба доставит какой-нибудь случай по нашей службе, употреби его в пользу человека, кроме твоей подпоры никого не имеющего, и отправь меня куда-нибудь. Не думай, чтобы это были мои вымыслы. Нет, брат мой сидит подле меня и велит мне писать, чтобы ты выискал для меня подвиг.<…> 9-го февраля».
Это 1802 год. Ермолов меньше года в Вильно и уже томится своей службой.
Во-первых, ему давно уже положен по выслуге чин полковника. Но и когда он оказывается первым, то есть старшим подполковником в батальоне, он не надеется на производство. Для офицера застревание в одном чине чревато крушением карьеры. На него смотрели как на неспособного – каков бы ни был он на самом деле. И нужна была чья-то сильная рука, чтобы вытолкнуть его из этой мертвой заводи.
Во-вторых, такое ермоловское – «отправь меня куда-нибудь». Он слишком хорошо помнит первые годы своей службы: Молдавия, Польша, Италия, Каспий… Его натура жаждет движения не только по службе, но и в пространстве. Ему необходима динамика.
Каховский, выпущенный из крепости и живущий вместе с младшим братом, лучше чем кто бы то ни было понимает его натуру и те обстоятельства, при которых молодой честолюбец только и может быть собой в полной мере. «Чтобы ты выискал для меня подвиг». Слово «подвиг» подчеркнуто.
И старший, и младший знают, что в сложившейся ситуации только подвиг – деяние из ряда вон выходящее – может вырвать из служебной рутины, компенсировать потерянные годы, дать надежду на реализацию мечты.
Говоря сегодняшним языком, это стремление в какую-нибудь «горячую точку», а не просто перевод в другую губернию.
Он остро осознавал, насколько судьба его, его карьера в том ее виде, в каком она только и была для него приемлема, зависят от поддержки Казадаева, правителя дел инспектора артиллерии, и стоящего за ним Корсакова. И мысль о том, что Александр Васильевич сменит место службы, ужасала его.
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Я уже проклинаю твою отставку, с тех пор как ты получил ее, то уже ко мне не пишешь и как будто с нею получил вместе право забыть меня. <…> Новиков мне пишет, что ты старался о переводе моем в казаки, как жаль, что не удалось, а теперь совсем было бы не худо в смутных моих обстоятельствах.
Признаюсь тебе, как истинному другу, что я и в запорожцы идти не отказался. Едва ли лестно служить теперь в артиллерии. Я желал бы ускользнуть, но не предвижу никаких возможностей еще менее людей к тому способствовать могущих. Терпение необходимо. Может быть, не будет ли со временем случая употребить себя полезнее. Надобно подождать».
Всю военную жизнь Ермолова, всю его карьеру любой пост – вплоть до кавказского «проконсульства» – рано или поздно начинал его тяготить, как не отвечающий его представлениям о своих возможностях. И началось это в Вильно. Идея перевестись в казачьи войска, к старому приятелю по ссылке Платову, была в то время любимой идеей. Это была не просто смена климата и рода войск, но и возможность большей свободы, большей независимости.
Это была и память о временах его счастливой и удачливой юности – служба с Раевским, полк Булавы Великого Гетмана, где он получал первые навыки практического артиллерийского дела.
Он не случайно вспоминает запорожцев – в этой печальной шутке был свой смысл. Запорожская Сечь, уничтоженная Потемкиным, – сфера максимальной свободы…
Слух об отставке Казадаева оказался ложным. Александр Васильевич служил при Корсакове до 1803 года – до отставки самого Корсакова. Но вне зависимости от этого нарастает беспокойство в душе Ермолова.
«Мы слышим тысячу новостей касательно артиллерии, но я перестал верить, ибо все столько смешны и глупы, что едва ли можно им сбыться. Сколько бы ни прилагали труда вымышлять пустяки. <…> Как слышно, многие из генералов останутся лишними, да сверх того миллион полковников, и так нет надежды (на получение следующего чина. – Я. Г.), чтобы когда-либо что получить можно. Одно утешение, что наши чины гораздо реже нежели генеральские <…>».
Не знаем, какие именно реформы имел в виду Ермолов, да это и неважно. Его раздражало все. Генералов и штаб-офицеров за екатерининское и особенно павловское время в армии стало и в самом деле слишком много. Высокие чины получали по разным причинам, далеко не всегда по боевым заслугам.
Ермолов не без оснований опасался затеряться в этой массе.
«Я здоров, любезный друг, занимаюсь службою прилежно, ибо мне в диковинку после такой праздной и томной жизни, как я два с половиной года вел. Только еще не могу попасть на лад. Не знаю, каким образом вкралась в меня страшная скука, что я редко или почти никогда весел не бываю, сижу один дома <…>».
Он не обманывал Казадаева. Его действительно одолевала хандра. Он отчаивался вырваться из рутины. Упования на «подвиг» становились все призрачнее. Казадаев и Корсаков могли ему помочь в мелких распрях с Капцевичем [24]и другими недоброжелателями, но явно не могли – как некогда Самойлов и Безбородко – «отправить куда-нибудь»… Он становился мнителен: «Что слышно про наших лошадей, их уничтожат при артиллерии и сколько для учения оставят и как скоро та перемена будет. Есть хорошая приличная к тому пословица, „как нам жениться, то и ночь коротка“. Заваляешься полуполковником в коннопешей роте».
Все его раздражало. И нелепая экономия за счет конноартиллерийских лошадей, которых собирались сократить, превратив конные роты в «коннопешие». Служить в таких ему было и вовсе не интересно. «Заваляешься полуполковником». Он умоляет Казадаева: «Выищи какую-нибудь комиссию, в которой можно бы возвратить потери, по службе сделанные по несчастию, так как брат мой говорит подвиг, а без того жестоко худо».
Это уже сентябрь 1802 года.
Он убеждает себя, что его снова ждут неприятности, несчастья, окончательно ломающие его карьеру.
Мысль о том, что у него отнимут роту, все более его мучает.
Читать это тяжело. Мощный, бесконечно самолюбивый, мужественный человек находится в состоянии постоянной паники.
Сильно травмировала сознание Ермолова катастрофа 1798–1801 годов: арест, крепость, ссылка. Настолько сильно, что он ежечасно ожидал ударов судьбы. Тысячи офицеров служили, не имея в близких правителя дел инспектора артиллерии. Алексей Петрович не видит возможности служить без поддержки Казадаева и думает об отставке. Что ждало в случае отставки его, живущего на скудное офицерское жалованье? Статская должность где-нибудь в провинции? Что стало бы с его мечтами о славе и подвигах?
Слухи об отставке Корсакова и замене его Аракчеевым становились все определеннее. И пока Казадаев еще занимал свою должность, Алексей Петрович старался получить от него максимум помощи. Он регулярно хлопотал перед Казадаевым за своих подчиненных и просто людей, впавших в несчастье. Но главным для него была поддержка в делах службы: «Теперь, любезнейший друг, моя собственная просьба. От Баталиона Капцевича отправлен офицер для привода рекрут и я буду их получать от него. Ты не можешь вообразить, какую зависть производит наша служба в глазах господ пехотных офицеров и все те шиканы [25], которые мы вытерпливаем. Капцевич снабдил нашу роту 30 человеками, к конной службе совершенно неспособными, вытолкнув самых негодяев из своего баталиона [26]. Не можешь, любезный друг, прислать мне какой-нибудь фирман, с которым я бы явился пред великого генерала Капцевича и мог почтеннейше предложить ему о назначении рекрут годных. Божусь, любезнейший Александр Васильевич, я имею 30 таких, с которыми служить стыдно и теперь, если ты мне не выхлопочешь такого манифеста, то я пропаду совсем, ибо он рекрут, может быть, и не даст, а дадут негодяев из баталиона.
Прошу тебя, помоги человеку, тебя душевно любящему и тобою облагодетельственному».
Даты на письме нет, но это – по обстоятельствам – 1803 год.
Это не вздорность. Чтобы проявить себя, нужна образцовая команда, а для конноартиллерийской роты кадровый состав – вопрос первостепенный. Сбывая в его роту негодных солдат, тем самым лишают его надежды на продвижение.
7 сентября того же года он пишет: «Если верить размножаемым слухам, то Алексей Иванович (Корсаков. – Я. Г.) уже подал прошение в отставку. <…> При сем случае может и с тобою быть перемена, которую еще более приму я к сердцу. <…> Если есть еще время, любезнейший друг, то не забудь о моем фельдфебеле и Горском. Ежели ты им не сделаешь помощи, то для них все потеряны надежды, если на меня, то и я, любезнейший друг, в тебе все потеряю. Знакомств у меня нет, а особливо при том инспекторе, о котором слух. Итак, останемся, как раки на мели».
Наконец столь долго и с тревогой ожидаемое событие свершилось.
14 мая 1804 года Ермолов пишет: «Письмо твое я получил. С отставкою тебя не поздравляю, но еще жалею сердечно, что ты нас оставил, а более всего меня, который в едином тебе имел всю свою помощь».
Когда Ермолов говорил Ратчу об опасности слишком благоприятных условий службы в молодости, то он знал, что говорил. Юношеская привычка чувствовать себя под сильным покровительством и занимать особое положение привела к тому, что, потеряв это положение, он чувствовал себя беззащитным. Его отношения с Казадаевым были в некотором роде суррогатом того положения, которое давала ему протекция Самойлова, Безбородко, Зубова.
Теперь он терял и поддержку Казадаева.
Надо отдать должное Алексею Петровичу – он справился с этим очередным переломом в своей судьбе.
6 апреля 1805 года он писал своему другу, теперь уже занявшему пост начальника Горного кадетского корпуса: «Благодаря Бога, долговременной моей болезни избавился и теперь совершенно здоров. Слухи у нас о войне, не худо. Я не избегаю, напротив удвою прилежность мою к службе. Надо будет, как говорят, с конца шпаги доставать потерянное».
Если сопоставить то, как Ермолов описывал в воспоминаниях свою жизнь в Вильно, и то, что писал он об этой жизни и своем душевном состоянии Казадаеву, то возникает вопрос – чему верить? Откровенное противоречие между мемуарами и письмами вполне отражает глубокую противоречивость его натуры в том виде, в каком она сложилась под давлением обстоятельств. А это естественным образом определяло его взгляд на мир и на себя в мире.
Верить приходится и тому и другому.
Это две стороны его существования – внешняя и внутренняя. Человек сильного ума и немалого уже горького опыта, он понимал, что обстоятельства засасывают его в водоворот обыденности. Этого он, надо полагать, больше всего боялся с юности. Недаром он, пользуясь благосклонностью «сильных персон», раз за разом не просто менял места службы, но стремился к резким и экзотическим поворотам судьбы.
Он не хотел казаться смешным, демонстрируя свою тревогу и душевное уныние. Очевидно, внешне он жил так, как и должен был жить молодой, сильный, красивый офицер, острослов и ловелас.
«Мирное время продлило пребывание мое в Вильно до конца 1804 года. Праздность дала место некоторым наклонностям, и вашу, прелестные женщины, испытал я очаровательную силу; вам обязан многими в жизни приятными минутами».
Он не говорит о любви. Он говорит о забавах. Женщина – услада воина.
Ермолов никогда не был женат и объяснял это своим малым достатком. Он и в самом деле всю жизнь жил на жалованье, а в отставке – на пенсион. Но есть основания полагать, что дело отнюдь не только в этом. Неопределенная, но величественная цель, которую он перед собой ставил с юности, не сочеталась ни с какими частными узами – семейными в первую очередь.
Он был создан не просто для военной службы. Он был создан для войны. Война не просто давала возможность максимально проявить себя и выдвинуться – война была естественным для него образом существования.
Его «непомерное честолюбие» не давало ему покоя в мирной жизни, даже если она была заполнена напряженной служебной деятельностью.
«Недостает войны. Счастье некогда мне благоприятствовало!» – писал Ермолов. Счастье благоприятствовало ему в огне пражского штурма. Счастье благоприятствовало ему в головоломном горном переходе с генералом Булгаковым и под стенами Дербента.
Как только закончилась война – счастье изменило.
Теперь он жил надеждой на новую войну и энергично готовился к ней.
«Я получил повеление выступить из Вильны. Неблагосклонное начальство (Аракчеев. – Я. Г.) меня преследовало, и в короткое время мне были назначены квартиры в Либаве, Виндаве, Гродне и Кременце на Волыни; я веду жизнь кочевую и должен был употребить все способы, которые дала мне служба, при моей воздержанности и бережливости. У меня рота в хорошем порядке, офицеры отличные, и я любим ими, и потому мне казалось все сносным, и служба единственное было благо».
3
В нем удивительным образом уживались два несхожих характера.
Один Ермолов не мог удержаться, чтобы не надерзить всесильному Аракчееву. Он так вспоминал об этом эпизоде: «1805. Проходя из местечка Биржи инспектор всей артиллерии граф Аракчеев делал в Вильне смотр моей роты, и я, неблагоразумно и дерзко возразя на одно из его замечаний, умножил неблаговоление могущественного начальника, что и чувствовал впоследствии».
Денис Давыдов сохранил подробности этой истории: «Однажды конная рота Ермолова, сделав переход в двадцать восемь верст по весьма грязной дороге, прибыла в Вильну, где в это время находился граф Аракчеев. Не дав времени людям и лошадям обчиститься и отдохнуть, он сделал смотр роте Ермолова, которая быстро вскакала на находящуюся вблизи высоту. Аракчеев, осмотрев конную выправку солдат, заметил беспорядок в расположении орудий. На вопрос его: „Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?“, Ермолов отвечал: „Я имел лишь ввиду доказать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены“. „Хорошо, – отвечал граф, – содержание лошадей в артиллерии весьма важно“. Это вызвало резкий ответ Ермолова в присутствии многих свидетелей: „Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов“. Эти слова заставили взбешенного Аракчеева возвратиться в город. – Это сообщено мне генералом Бухмейером».
Особенность ситуации заключается в том, что Аракчеев ничем не спровоцировал дерзость Ермолова. То, что он сказал, было совершенно резонно и ничуть для Ермолова не обидно. Но Ермолов – прежний Ермолов! – мгновенно сообразив, что фраза Аракчеева дает возможность саркастической реакции, не упустил случая хоть так отплатить за перенесенные несправедливости. Хотя и знал, что оскорблять Аракчеева, да еще прилюдно – крайне опасно.
Возможно, некоторую роль сыграло то, что еще до этого Ермолов удостоился похвалы самого Александра, о чем с воодушевлением писал Казадаеву. Это было во время посещения императором Вильно. «Осматривал войска, Капцевича легион и мою когорту (характерна эта римская терминология. – Я. Г.); изволил объявить мне благоволение сам лично, говорил со мной и два раза повторил: очень доволен как скорою пальбою, так и проворством движения, приказал отменить некоторые маневры и изволил сказать, что о том прикажет Александру Ивановичу (очевидно, тот же Корсаков. – Я. Г.). Генерал-майору Маркову, Псковского полка пожаловал перстень. Капцевича баталионом, как все единогласно говорят, был недоволен; мое учение изволил смотреть около полутора часа, а его ни четверти, из которого более половины говорил со мною. Капцевичу ничего, и как мы в одном месте и я кажусь под его начальством, то и мне ничего – все возлагают на него, а государь и после изволил отозваться о конной артиллерии милостиво».
Но был и другой Ермолов, о котором точно писал Дубровин в уже упомянутой нами биографии Алексея Петровича: «Сознавая, что репутация его после ссылки недостаточно еще окрепла, он страшился за свою будущность и смотрел на все довольно мрачными глазами. Руководимый этой идеей, он в некоторых случаях выказывал юношескую робость и даже ребяческую боязнь. Вот один из подобных случаев. Офицер его роты, некто К., проиграл 600 рублей казенных денег. Ермолов тотчас же арестовал его, взыскал деньги с выигравших и уступив просьбам, а главное, „избегая случая сделать ему несчастие, сам собою испытавши сколько тягостно переносить оное“, Алексей Петрович согласился не доносить о поступке офицера» [27].
Но неожиданно ситуация сложилась таким образом, что противный закону поступок Ермолова, который обязан был отдать провинившегося офицера под суд, мог стать известен высшему начальству.
Решительный, дерзкий, самоуверенный Ермолов впал в панику.
Как и в других случаях, его подлинное состояние можно понять из писем Казадаеву: «Все обрывается на мне, для чего я скрыл его преступление и тотчас не донес по команде. <…> Вот, любезный друг, каково быть добросердечным! Ищешь способов сделать добро, радуешься, сделав оное, способствовать другим поставляешь то первым долгом и благополучием, а в награду обращается то самому во вред и наконец кончится тем, что сам потерпишь и всего лишишься. Страшно боюсь я хлопот; трехлетнее несчастие сделало меня робким».
«Сделало меня робким…» Вот он – другой Ермолов.
История с юным поручиком Комаровским, которого, судя по утверждению самого Ермолова, завлекли и обыграли более опытные люди, мучила Алексея Петровича и по другой причине. Он несколько раз возвращается к ней в письмах Казадаеву, горько сетуя, что он, сам того не желая, стал причиной тяжелого испытания для молодого офицера, – эта история, в конце концов, привела к тому, что Комаровского перевели в дальний гарнизон, в Кизляр, «за неспособностью». Это было не только обидно, но и ломало ему карьеру.
Дело в том, что, скрыв преступление поручика от высшего начальства, Ермолов тем не менее просил ближайшее начальство под любым предлогом перевести его в другую часть. К ужасу и Комаровского, и Ермолова, начальство выбрало этот простейший вариант.
И Ермолов умоляет Казадаева помочь Комаровскому.
Состояние неуверенности, тяжелой раздвоенности при внешней брутальной повадке продолжалось долго. Оно прошло только с событиями Двенадцатого года, да и то не до конца…
Павел Христофорович Граббе вспоминал эпизод 1810 года, когда он был уже адъютантом генерала Ермолова: «В начале этого года, не помню в котором месяце, Алексей Петрович Ермолов позвал меня из своего кабинета, с озабоченным видом подал мне только что распечатанное им официальное письмо от военного министра Барклая де Толли. Смысл содержания его был следующий. Имея в виду важное поручение, для которого нужен офицер с образованием, сведениями, некоторою опытностию и надежным поведением, он полагает, что адъютант его выбора должен соединять в себе эти качества и потому просит прислать его немедленно в Санкт-Петербург, где по прибытии он имеет явиться к дежурному генералу. Прочитав несколько раз это письмо и отдавая его Алексею Петровичу, я опять поражен был беспокойством, более усилившимся на его лице. Взглянув на меня заботливо, он спросил: не припомню ли я какой неосторожности, какого-нибудь необдуманного слова, сказанного в обществе или наедине кому-нибудь… Происшествия первой его молодости в царствование императора Павла сделали его недоверчивым».
Это очень значимое свидетельство. В 1810 году генерал Ермолов слишком хорошо помнил, сколько доносчиков вдруг появилось вокруг него и его «старших братьев» в 1798 году. Он вполне допускает, что нечто подобное могло повториться и сейчас: «необдуманное слово», сказанное его адъютантом, могло дойти до Петербурга…
Опасения Ермолова не оправдались – Граббе ждало «употребление по военно-дипломатической части». Он был направлен военным агентом в Мюнхен. Но реакция Ермолова на внезапный вызов молодого офицера в столицу чрезвычайно характерна для его внутреннего состояния.
Разумеется, он прежде всего думал о судьбе Граббе, но обнаружившаяся неблагонадежность адъютанта – коль скоро это и в самом деле случилось бы – бросила бы тень и на его собственную репутацию, и без того небезупречную.
Уже на Кавказе, на пике своей карьеры, он был обеспокоен тем, что два его любимых адъютанта лишены доверия высшей власти – тот же Граббе, который в 1822 году был смещен с должности командира Лубенского гусарского полка и отправлен в отставку, и генерал-майор Михаил Фонвизин, блестящий военный интеллектуал, которому Александр упорно не желал доверить командование строевой частью и решительно отказывал в назначении на Кавказ, о чем просил императора Ермолов. Но если Граббе сумел убедить и Александра, и Николая в своей лояльности и кончил жизнь генералом от кавалерии, генерал-адъютантом, графом и членом Государственного совета, то Фонвизина ждали Петропавловская крепость и Сибирь…
Пока же подполковник Ермолов со страстью готовил свою роту к желанной войне, понимая, что в будущих сражениях он должен не просто достойно выполнить свой долг, но отличиться так, чтобы преодолеть предубеждение любого начальства и прославить свое имя.
4
Участие Ермолова в Наполеоновских войнах с 1805 по 1815 год ставит перед нами совершенно особую задачу, если исходить из того принципа, который был сформулирован в самом начале: смысл книги не в том, чтобы перечислить разнородные события жизни нашего героя, но в том, чтобы показать, как в его судьбе преломилась судьба империи…
Поэтому нам придется выбирать наиболее характерные для военной практики Ермолова эпизоды, дающие представление о его боевом стиле. В данном случае известная формула «стиль – это человек» вполне приложима к Ермолову-офицеру.
Для Ермолова война – при всем том, что уже было сказано, – не была самоцелью, а исключительно средством самореализации, путем к цели, которую он вряд ли решался ясно формулировать, настолько высока и опасна она была.
Забегая далеко вперед имеет смысл привести два эпизода, которые дают представление о масштабах этой цели, некий очерк мечты, которая вела Ермолова и не умирала, несмотря на все жизненные срывы и разочарования.
Дубровин, говоря о боевых успехах Ермолова и высочайших поощрениях, очень точно выразил суть дела: «В таких случаях своей жизни Ермолов находил некоторый исход и удовлетворение своему необъятному честолюбию…»
«Некоторый исход <…> необъятному честолюбию». Каков был бы полный исход, можно только догадываться.
«Необъятное честолюбие» и невозможность удовлетворить его в полной мере (вариант артиллериста Бонапарта) – горькое противоречие между самооценкой и своей реальной ролью – и формировали этот тяжко парадоксальный характер.
В 1834 году Павел Христофорович Граббе, уже генерал-майор и начальник драгунской дивизии, возвращаясь из Москвы к месту службы, заехал навестить Ермолова в его деревне. «Между прочими предметами разговора мне случилось ему сказать, что не должно терять надежды, что в важных обстоятельствах государь вспомнит об нем и вызовет на поле деятельности. На это он отвечал, что боится последствий долгого бездействия и следственно ошибок, важных в том звании, которое ему принадлежит – звании главнокомандующего».
«В том звании, которое ему принадлежит…»
Отправленный в отставку при оскорбительных для него обстоятельствах, исключенный из любой государственной деятельности Николаем, который не любил и боялся его, «закупоренный Николаем в банку», как сказал Тынянов, Алексей Петрович в случае новой войны видел себя только в одной роли – главнокомандующего одной из действующих армий…
Но еще до этого, в 1822 году, в разговоре с Александром он в ответ на откровенно провокационную шутку императора, – которая по сути была вовсе не шуткой, – позволил себе открыться, пожалуй, единственный раз в жизни. Но этого достаточно, чтобы понять характер его мечтаний.
Один из младших современников Ермолова зафиксировал со слов самого Алексея Петровича в высшей степени красноречивый эпизод: «Он рассказывал, что в 1821 году был назначен главнокомандующим стотысячной армией, долженствующей принять участие в усмирении смут в Италии, волнуемой карбонариями. В Неаполе произошел мятеж, король вынужден был подписать конституцию. Вскоре Ермолов был вызван в Лайбах, в котором находились союзные монархи, для совещаний. Алексей Петрович находился при императоре. Во время обеда государь подавал разные знаки кн. Волконскому, сидевшему против него, указывая на его соседа. Волконский не мог понять пантомим императора и потому на вопрос его после окончания обеда отвечал, что не догадывается, что государь хотел ему сказать, указывая на Ермолова.