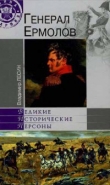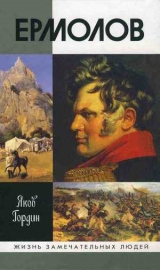
Текст книги "Ермолов"
Автор книги: Яков Гордин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Чандлер, как обычно опиравшийся на разного рода источники, дает картину, вполне совпадающую со свидетельством Ермолова, но более подробную.
«Солдаты Беннигсена стали, отступая, сбиваться все плотнее и плотнее на все уменьшавшемся участке местности. Виктор полностью использовал свои возможности и выдвинул более тридцати пушек к фронту своего корпусного района. Под командой способного артиллерийского генерала Сенариона канониры смело вручную передвигали вперед скачками свои пушки. Начавшись с 1600 ярдов, дистанция быстро уменьшилась до 600 шагов, тогда пушки остановились и дали страшный залп по плотной массе русских. Вскоре пушки были уже на дистанции 300, а затем 150 ярдов от русской линии фронта, изрыгая смерть с монотонной регулярностью. Наконец артиллеристы подтащили свои дымящиеся орудия на 60 шагов до пехоты Беннигсена. На этом расстоянии прямой наводкой французская картечь косила ряды противника» [35].
Отчаянные атаки русской кавалерии и гвардейских полков исправить положение не могли. Как писал Ермолов, «та же ужасная батарея остановила храбрый порыв».
Это был разгром. Беннигсен, еще недавно уверенный в своем превосходстве над французским императором, требовал от Александра срочного заключения перемирия. Государь колебался. После Прейсиш-Эйлау и Гейльсберга он рассчитывал на иной результат.
Тогда великий князь Константин Павлович предложил старшему брату дать каждому русскому солдату по пистолету и приказать застрелиться. Это был бы более быстрый и гуманный способ покончить со своей армией.
Александр должен был ответить на вопрос: ради кого погибали русские солдаты? Правдивый ответ мог быть только один – ради интересов Пруссии и Англии.
Есть версия разговора августейших братьев, по которой Константин напомнил Александру о судьбе их отца и сообщил о ропоте офицеров, уставших от унизительных поражений.
Судя по тону записок, поражение при Фридланде поколебало даже упрямую воинственность Ермолова. В его описании переговоров о мире после Фридланда чувствуется вздох облегчения: «Наполеон желает мира, не перемирия!»
Нет надобности рассказывать здесь историю свидания двух императоров на плоту посредине Немана под городком Тильзит, вошедшим таким образом в историю.
Мы не знаем, что чувствовал наш герой, наблюдая совместный марш французской и русской гвардий перед двумя императорами после переговоров, начавшихся фразой Наполеона: «Из-за чего мы воюем?»
Очевидно, как и у многих русских военных, чувства эти были двойственные. Облегчение от того, что прекратилось непрерывное кровопролитие, которому еще вчера не видно было конца, и чувство унижения, поскольку переговоры велись с победителем.
После Пултуска и Эйлау, вселивших такие надежды, Наполеон продемонстрировал всю мощь своего военного гения и высочайшие качества французской армии.
Правда, мир нужен был французскому титану не меньше, чем его противникам. Солдаты были изнурены и не понимали цели своих тяжких усилий.
Франция ждала мира. Ей ничего не угрожало.
«Из-за чего мы воюем?» Это был вопрос из области большой политики.
Смысл своей личной войны Ермолов сформулировал подробно и отчетливо: «Итак, кончил я войну с самого начала оной и до заключения мира в должности начальника артиллерии в авангарде. По особенному счастию моему, не потерял я в роте моей ни одного орудия, тогда как многие в обстоятельствах гораздо менее затруднительных лишились оных».
Он действительно был на удивление удачлив. Он сам ставил своих артиллеристов в положения предельно затруднительные, когда не потерять орудия было невозможно! «В сражении при Гейльсберге многие из орудий впадали в руки неприятеля, ибо приказано было мною офицерам менее заботиться о сохранении пушек, как о том, чтобы на самом близком расстоянии последними выстрелами заплатили за себя, если будут оставлены».
Однако все попавшие в руки французов орудия ермоловской роты были тут же отбиты русскими драгунами.
«О распоряжении моем, спасающем ответственность за оставленные орудия, известно было начальству и доведено до сведения самого государя, который впоследствии весьма милостиво о том меня спрашивал».
Ермолов был мастер не просто героических, но эффектно героических поступков. Он рисковал жизнями своих подчиненных и своей собственной, но уверен был, что в случае удачи риск окупится.
Это была та самая установка на «подвиг», без которого ему не вырваться было из общего ряда.
Заканчивая раздел записок о войнах 1805–1807 годов, он подробно и деловито подвел итог преимуществам, полученным в результате своего профессионального умения, доблести – иногда самоубийственной – и таланта «показать товар лицом»: «Я имел счастие приобрести благоволение великого князя Константина Павловича, который о службе моей отзывался с похвалою. Князя Багратиона пользовался я особым благорасположением и доверенностию. Он делал мне поручения по службе, не одному моему званию принадлежащие. Два раза представлен я им к производству в генерал-майоры, и он со своей стороны делал возможное настояние, но потому безуспешно, что не было еще до того производства за отличия, а единственно по старшинству. Между товарищами я снискал уважение, подчиненные были ко мне привязаны. Словом, по службе открывались мне новые виды и надежда менее испытывать неприятностей, нежели прежде. В продолжение войны я получил следующие награды: за сражение при Голимине золотую шпагу с надписью „За храбрость“, при Прейсиш-Эйлау Св. Владимира 3-й степени, при Гутштатте и Пасарге Св. Георгия 3-го класса и при Гейльсберге алмазные знаки Св. Анны 2-го класса».
Проигранная война закончилась для полковника Ермолова весьма успешно. Потому что это была война, его стихия, и только в этой стихии, вне зависимости от конечного стратегического результата, он мог показать, на что способен.
О новом положении Ермолова и его резко возросшей репутации в армии свидетельствуют записки генерала Беннигсена о войне 1807 года. Полковник Ермолов постоянно возникает на страницах записок, хотя, что естественно, главными персонажами в них являются лица в куда более высоких чинах.
Ермолов оказался среди двух-трех штаб-офицеров, которых Беннигсен счел необходимым, так сказать, оставить в истории этой войны – и в истории вообще.
«Этими батареями распоряжался и командовал искусный и храбрый полковник конной артиллерии Ермолов – офицер, с величайшим отличием действовавший во всех делах этой кампании, о котором я буду иметь случай часто упоминать в моих записках».
«Полковник Ермолов очень отличился при этом случае: он сумел очень хорошо воспользоваться местностью и, поставив выгодно свою конную батарею, открывал огонь так удачно, что неприятель с большой осмотрительностью следовал за нашим ариергардом».
«Сильная колонна неприятельской кавалерии пыталась обойти наш отряд с правого фланга. Храбрый полковник Ермолов с двумя орудиями своей конноартиллерийской роты выдвинулся вперед и перебил много людей у французов, бросившихся на эту маленькую батарею и скоро ею овладевших. Генерал Корф немедленно атаковал неприятеля, в свою очередь опрокинул его и взял обратно наши два орудия, одно мгновение находившиеся в руках французов».
Эти эпизоды относятся к разным сражениям кампании 1807 года. Причем последний эпизод – это бой при Гейльсберге – наиболее характерен для боевого стиля Ермолова: самоубийственно дерзкого. «Особенное счастие» и в самом деле сопутствовало ему. По логике вещей он должен был погибнуть, но не был ни разу даже ранен.
Беннигсен знал Ермолова с детства и благоволил к нему, но тут ему не надо было кривить душой, обращая особое внимание современников и потомков на «храброго полковника». Ермолов и в самом деле проявил себя с блеском. Полученные им награды вполне соответствовали его реальным заслугам.
Но удивительно: несмотря на благожелательность Кутузова, восхищение Беннигсена, поддержку, которую оказывали ему великий князь Константин Павлович и Багратион, – словно бы какая-то тень лежала на его пути к высоким наградам и скорому продвижению в чинах.
Тем не менее по сравнению с довоенным положением своим Ермолов сделал стремительный рывок. Свое обещание, данное Казадаеву – «вернуть потерянное с конца шпаги», он выполнил.
Теперь ему предстояло точно выбрать стиль поведения в новой, мирной, ситуации, чтобы снова не попасть в мертвую паузу.
Военные заслуги при обилии решительных карьеристов с сильными протекциями могли оказаться бесполезными. Слишком многое в русской армии зависело от личных отношений с вышестоящими.
Но в случае с Ермоловым был и еще один редкий фактор, который не мог не оказать давления на непосредственное начальство Алексея Петровича, равно как в свое время роковым образом сказался на отношении к нему высшей власти. Это было его мощное личное обаяние.
Граббе, близко знавший его и много лет наблюдавший его воздействие на окружающих, писал: «Народность (то есть популярность. – Я. Г.) его принадлежит очарованию, от него лично исходившему. <…> Наружность его была значительна и поражала с первого взгляда. Рост высокий, профиль римский, глаза небольшие серые, углубленные, но одаренные быстрым, проницательным взглядом; голос приятный, необыкновенно вкрадчивый; дар слова редкий, желание очаровать всех и каждого, иногда слишком заметное, без строгого разбора как самих лиц, так и собственных выражений. Это последнее свойство, без меры развиваемое, привязывало к нему множество людей, толпе принадлежащих, и остерегало многих, более внимания достойных. Впоследствии оно же дало ход едкому слову, с высока на него павшему: c’est héros des engeignes [36]. Это правда, но не одних прапорщиков».
Это конечно же слова Николая I.
8
В «Записках» Ермолова мы не найдем патриотических деклараций, равно как не найдем их и в «Записках о галльской войне» Цезаря, и в «Египетском походе» Бонапарта.
Все трое рассматривали себя как исторических персонажей и писали свою историю.
Но как же соотносилось понимание Ермоловым интересов Отечества с его же необъятным честолюбием?
Без сомнения, он сознавал себя солдатом Российской империи более, чем слугой конкретного государя. Но и это был лишь один слой его сознания. Его вйдение себя в мире было куда объемнее.
Этим он принципиально отличался от блестящего и удачливого Воронцова, для которого сфера честолюбия не выходила за границы системы.
С существенными оговорками можно проводить параллели между самоощущением Ермолова и таковым же Михаила Орлова.
Пока что Ермолову нужно было осваиваться в мирной реальности, куда менее для него органичной, чем реальность войны.
Особый и достаточно запутанный сюжет ермоловской биографии – его отношения с Аракчеевым, длящиеся с момента его вступления на службу после ссылки и по кавказский период.
Как мы помним, отношения эти складывались тяжело и для Ермолова крайне неприятно.
Явная неприязнь к нему Аракчеева объяснялась по-разному. Мы помним беспричинно дерзкий ответ подполковника инспектору артиллерии, взбесивший Аракчеева. Эта дерзость могла быть вызвана давней нелюбовью к Аракчееву, «бутову слуге», того круга офицеров, к которому Ермолов принадлежал во времена Несвижа.
То есть у них была достаточно давняя история отношений, окрашенная и политически.
Были и совсем простые, явно апокрифические версии. Так, Денис Давыдов утверждал: «Граф Аракчеев, почитая Ермолова прежним фаворитом, преследовал его весьма долго; оставаясь в чине подполковника в продолжение девяти лет, Ермолов думал одно время, перейдя в инженеры, сопровождать генерала Анрепа на Ионические острова. Когда генерал Бухмейер объяснил графу его ошибку, этот последний решился вознаградить Ермолова за все прошедшее».
Хотя ничего подобного быть на самом деле не могло.
Александр Петрович Ермолов, довольно дальний родственник нашего героя, родился в 1754 году. В «случай» он попал в 1785 году и состоял в фаворитах год и четыре месяца. Аракчеев в это время был кадетом Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса. Фаворит императрицы генерал Ермолов безусловно был известен кадетам.
В начале XIX века, когда Аракчеев впервые увидел Алексея Петровича, бывшему фавориту было около пятидесяти лет. Спутать 25-летнего подполковника с 50-летним генералом Аракчеев никак не мог. Другое дело, что ему, возможно, не понравилась фамилия, вызывавшая малоприятные ассоциации у преданного памяти Павла Аракчеева. Но главное все же заключалось в стиле поведения молодого офицера, прилюдно оскорбившего высокого начальника.
Тем более странно, что с какого-то момента Аракчеев стал явно покровительствовать Ермолову. Резкий поворот в его отношении к Ермолову произошел в конце 1807 года, после Тильзита.
Ермолов вспоминал: «В конце августа прибыл инспектор всей артиллерии граф Аракчеев, осмотрел артиллерию, распределил укомплектование оной и, продолжая прежнее ко мне неблаговоление, приказал мне оставаться в лагере по 1-ое число октября, когда всем прочим артиллерийским бригадам назначено итти по квартирам 1-го сентября. К сему весьма грубым образом прибавил он, что я должен был приехать к нему в Витебск для объяснения о недостатках. Я отвечал, что неблагорасположение ко мне не должно препятствовать рассмотрению моих рапортов. Оскорбили меня подобные грубости, и я не скрывал намерения непременно оставить службу. Узнавши о сем, граф Аракчеев призвал меня к себе и предложил дать мне отпуск для свидания с родственниками, приказал приехать в Петербург, чтобы со мною лучше познакомиться».
Более того, Аракчеев стал ходатайствовать за Ермолова перед императором.
12 декабря 1807 года он отправил Ермолову письмо из Петербурга:
«Милостивый Государь,
Алексей Петрович!
При оставлении по болезни моей командование Артиллерийским Департаментом, я почел приятным себе долгом отличить роту, вами командуемую, перед Государем Императором, испрося на имя ваше у сего препровождаемый рескрипт, не имея ничего у себя более ввиду, как доказать вам, милостивому государю, то уважение, которое я всегда имел к службе вашей, а вас прося при оном случае, дабы вы оставались ко мне всегда хорошим приятелем, чего желает пребывающий к вам с почтением и преданностию,
милостивый государь, покорный слуга,
Граф Аракчеев».
Рескрипт – собственноручно написанное или подписанное письмо императора штаб-офицеру – большая редкость в александровское царствование. И есть все основания считать, что Аракчеев пишет чистую правду. Маловероятно, что это могло быть личной инициативой Александра.
В рескрипте было сказано:
«Господину артиллерии полковнику Ермолову.
Отличное действие в прошедшую кампанию командуемой вами конноартиллерийской роты подает мне приятный повод изъявить оной особое мое благоволение, а вместе с сим инспектор артиллерии граф Аракчеев препроводит к вам тысячу рублей для награждения в роте, по вашему назначению, тех фейерверкеров и рядовых, кои по отличному своему знанию артиллерийской науки, заслуживают уважение, что самое примите в знак и к вам особого моего благоволения.
В С.-Петербурге. Ноября 30-го дня 1807 года.
На подлинном подписано:
Александр».
Что же произошло? Еще недавно Аракчеев с присущей ему грубостью требовал объяснения «в недостатках», а теперь толкует о всегдашнем уважении к службе Ермолова и просит быть его приятелем.
Давыдов предлагает еще одно объяснение: «П. И. Меллер-Закомельский содействовал своим отзывом перемене расположения Аракчеева к Ермолову». Вполне возможно, что было и это. Во время войны 1805 года он командовал артиллерией армии, в которой состояла и рота Ермолова, и, соответственно, знал его. А в декабре 1807 года Меллер-Закомельский сменил Аракчеева на посту инспектора всей артиллерии.
Но, скорее всего, решающую роль сыграло другое.
Трудно сказать, собирался ли Ермолов на самом деле идти в отставку.
Мы уже говорили, что вне армии его ждала малопривлекательная жизнь средней руки статского чиновника. Других источников дохода, кроме жалованья, у него не было. Это было бы крушение всех его честолюбивых мечтаний.
Скорее всего, настойчивые разговоры Ермолова о своей отставке, рассчитанные на то, что они дойдут до высшего начальства, были тактическим ходом. И он сработал.
Аракчеев был грубым и жестоким, на нем числится немало тяжких грехов. Зато в числе его несомненных достоинств было то, что граф был не только фанатично предан артиллерийскому делу, но и обладал незаурядными организаторскими способностями. Его заслуги перед русской артиллерией несомненны. Он мог не любить Ермолова – этот самоуверенный и дерзкий офицер с сомнительным прошлым и фамилией, вызывающей вполне определенные ассоциации, его раздражал. И не мог не раздражать. Но, сам будучи профессионалом, Аракчеев не мог не видеть профессионализма Ермолова.
Когда же он узнал о намерении полковника подать в отставку, у него должны были появиться два соображения.
Во-первых, ему наверняка было жаль терять хорошего артиллериста. Одно дело – преследовать его мелкими придирками и грубостями, и совсем другое – лишиться его.
Во-вторых, и это, надо полагать, главное – Аракчеев знал, что Ермолов известен Александру и государь отметил отчаянного полковника. Указ о его отставке должен был пройти утверждение императора. И тогда неизбежно встал бы вопрос: почему хороший боевой офицер, кавалер ордена Святого Георгия 3-го класса, уважаемый известными военачальниками, вдруг подает в отставку? Если бы император узнал, что причиной тому оскорбительное отношение к Ермолову Аракчеева, то последнему пришлось бы объясняться с государем. Причем аргументов у него не нашлось бы.
Гораздо выгоднее было в данной ситуации покровительствовать полковнику, который имел шансы стать любимцем императора, чем преследовать его.
Ермолов, наученный суровым жизненным опытом и прекрасно понимающий механизмы карьеры в русской армии, счел благоразумным это покровительство принять, не теряя при этом достоинства.
Он понимал, что судьба его в конечном счете зависела теперь от императора…
При этом надо сознавать – понимал это и сам Ермолов, – что, несмотря на все свои успехи, для русского общества он был фигурой малозаметной.
Вигель, внимательнейшим образом следивший за современной ему историей, рисуя в своих записках картину будущей «Илиады», посвященной Отечественной войне, все расставил по местам: «И ты предстанешь тут, близнец его (Воронцова. – Я. Г.) во славе, менее его счастливый, но гораздо более чтимый, чудный Ермолов, чье имя, священное для русских, почти в первый раз тогда им прогремело».
«Почти в первый раз» имя Ермолова, по мнению Вигеля, оказалось на слуху в 1812 году. А во время кампаний 1805–1807 годов двадцатилетний Вигель, служивший в Министерстве иностранных дел и в Министерстве внутренних дел, знал, разумеется, чьи имена тогда гремелй.
Полковнику Ермолову, замеченному императором, снискавшему благоволение Аракчеева, оцененному крупнейшими военачальниками, еще предстоял долгий путь к осуществлению проектов, которые соответствовали его «необъятному честолюбию».
В начале 1808 года Ермолов приехал в Петербург, где был принят Аракчеевым, который сообщил ему, что за отличия в последней войне император пожаловал двум конноартиллерийским ротам специальные нашивки на мундиры. Это были роты Ермолова и князя Яшвиля, который долгие годы оставался соперником Алексея Петровича на артиллерийском поприще.
Аракчеев лично представил Ермолова императору.
Казалось, за всем этим должен был последовать незаурядный карьерный взлет.
Обстоятельства, однако, сложились несколько по-иному.
«Пробыв в Петербурге три дня, я подал графу Аракчееву записку о том, что во время ссылки моей при покойном императоре Павле I-м многие обошли меня в чине, и потому состою я почти последним полковником артиллерии. Я объяснил ему, что если не получу я принадлежащего мне старшинства, я почту и то немалою выгодою, что ему, как военному министру, известно будет, что я лишен службы не по причине неспособности к оной».
Вряд ли это был удачный ход. Аракчеев не мог не знать дело «канальского цеха» и наверняка считал, что смутьяны получили по заслугам. Напоминать ему о гонениях павловских времен, в которых он сам принимал деятельное участие, было неразумно. Тем более что Аракчеев прекрасно знал цену Ермолову как артиллеристу, и пассаж этот мог быть воспринят как едкая ирония.
Но Алексей Петрович давал понять министру и через него, возможно, императору, что лестного рескрипта, нашивок на мундир и ласкового приема ему мало.
Ответа не последовало. Он почувствовал, что зарвался, и немедленно уехал из столицы в Орел к отцу. Там он узнал, что «при общем производстве по артиллерии пожалован генерал-майором и назначен инспектором части конноартиллерийских рот, с прибавлением к жалованию двух тысяч рублей».
Тут важна формулировка – «при общем производстве». Ему дали понять, и он понял, что он отнюдь не находится на особом положении. Он получил следующий чин вместе с другими, когда подошел положенный срок.
Подлежащие его инспекции роты дислоцировались главным образом в Молдавии. Куда он и отправился. В ту самую Молдавию, где он начинал свою службу без малого 20 лет назад юным капитаном с сильной протекцией.
Пауза
1
С этого времени, на первый взгляд для Ермолова благоприятного, берет начало тенденция, которая требует объяснения. 32-летний генерал-майор с высокой боевой репутацией регулярно получает второстепенные назначения.
В 1809 году Россия вела две войны: с Австрией, вынужденную, как союзницей Наполеона, и вязкую, изнурительную, третий год длящуюся – с Турцией. Ермолов не попал ни на ту, ни на другую.
После Молдавии он был назначен начальником резервных войск в Волынской и Подольской пограничных губерниях и должен был исполнять по сути дела полицейские функции. Он понимал, что теряет время.
По окончании войны с Австрией – Наполеон снова стал победителем – сводный отряд Ермолова был передислоцирован в Полтавскую и Черниговскую губернии. Штаб расположился в Киеве, где Алексей Петрович мог «бывать на праздниках, ездить на гуляния», но он-то жаждал совсем иного. Он хотел воевать.
В отчаянии он обратился к Аракчееву, но Змей ответил ему ласковым и ничего не значащим письмом.
Очевидно, у Александра были свои соображения относительно молодого генерала со строптивым характером и честолюбивыми видами. Почему-то он считал нужным держать Ермолова на вторых ролях. Возможно, сказывалось влияние ближнего окружения императора, раздраженного стремительным продвижением Ермолова в кампанию 1806–1807 годов и его независимой повадкой.
Он был не такой, как большинство его сослуживцев. В нем чувствовали завышенные претензии, выходящие за обычные рамки. Он слишком хотел служить. В нем чувствовалась установка на «подвиг». Его честолюбие было какого-то иного, необычного рода. Оно напоминало честолюбие «екатерининских орлов», которым тесно было в структурированном имперском пространстве.
В нем чувствовали что-то опасное. Быть может, ему – несмотря ни на что – не доверяли до конца.
К киевскому периоду относится свидетельство, которое многое объясняет в формировании ермоловского мифа. Это воспоминание знаменитой кавалерист-девицы Дуровой о знакомстве с Алексеем Петровичем, когда она в качестве корнета Александрова оказалась в киевской ставке Ермолова: «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе обязательность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермолове необыкновенный ум: ни в ком из бывающих у него офицеров не полагает он невоспитания, незнания, неумения жить; с каждым говорит он как с равным себе и не старается упростить свой разговор, чтоб быть понятным; он не имеет смешного предубеждения, что выражения и способ объясняться людей лучшего тона не могут быть понятны для людей среднего сословия. Эта высокая черта ума и доброты предубедила меня видеть все уже с хорошей стороны в нашем генерале. Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную».
Этот человек, безжалостный на поле боя, способный на хладнокровную жестокость, если этого требовали, по его разумению, обстоятельства, опасно дерзкий с вышестоящими, умел очаровывать и привлекать к себе самых разных людей. И, скорее всего, это было не расчетливой игрой – хотя элемент игры тоже присутствовал, но феерическим многообразием ермоловской натуры. Возможно, он бывал непобедимо обаятелен именно тогда, когда оказывался самим собой, когда ему не нужно было защищаться, выстраивать линию обороны между собой и враждебной средой. В этом случае он становился «патером Грубером».
2
Странная судьба Ермолова после быстрого выдвижения в 1807 году удивляла его боевых товарищей.
В мае 1811 года, когда Ермолов тосковал в Киеве, он получил красноречивое письмо от генерала Якова Петровича Кульнева, с которым сблизился еще в 1794 году во время Польской кампании. Как и Ермолов, Кульнев отличился при штурме Праги.
Кульнев был старше Ермолова на 14 лет и успел показать себя как лихой кавалерист еще во вторую турецкую войну 1787–1791 годов.
Он продемонстрировал отчаянную храбрость при Фридланде, пробившись со своим гусарским полком из безнадежного, казалось бы, окружения, и упрочил репутацию блестящего кавалерийского генерала во время войны со Швецией. К 1811 году Кульнев был одним из популярнейших военачальников в русской армии. Все это надо знать, чтобы оценить значение его письма:
«Cher Camarade [37],
Алексей Петрович!
Ни время, ни отсутствие дальше не могло истребить из памяти моей любви и того почтения, кое привлекли вы себе от всей армии, что не лестно вам говорю, и всегда об вас вспоминал, для чего вас не было в шведскую и последнюю кампанию, турецкую войну. Человеку с вашими способностями не мешало знать образ той и другой войны, и, я полагаю, преградою сей мешала вам какая ни есть придворная чумичка. Время еще не ушло; кажется, в скорости увидимся на ратном поле…»
Надо полагать, Кульнев был не одинок в своем недоумении и в своих надеждах.
В это самое время положение Ермолова стало меняться, но совсем не так, как ему бы хотелось. Со свойственной ему лапидарностью он описал в воспоминаниях эти странные на первый взгляд события: «Получив на короткое время увольнение в отпуск, приехал я в Петербург. Я представлен был государю в кабинете, что представляемо было не менее, как дивизионным начальникам. Слух носился о рождающихся неудовольствиях с Наполеоном, с которым редко можно кончить их иначе, как с оружием. Многие к сим причинам относили благосклонный прием, делаемый военным. Не имея сего самолюбия, боялся я в душе моей на случай войны остаться в резерве. Инспектор всей артиллерии барон Меллер-Закомельский хотел употребить старание о переводе меня в гвардейскую артиллерийскую бригаду, но я отказался, боясь парадной службы, на которую не чувствовал я себя годным, и возвратился в Киев».
Ермолов умел быть неотразимо обаятельным не только для наивных молодых корнетов вроде Александрова-Дуровой.
Командир дивизии, в которую, как мы знаем, входили солдаты Ермолова в киевский период, генерал-лейтенант Аркадий Суворов писал ему с театра военных действий, куда Ермолов, к своему великому огорчению, не попал:
«Распрепочтенный наш Наместник!
Начну тем: знав дружбу твою ко мне, прошед чрез огонь и воду, и будучи несколько раз при смерти, совсем теперь почти здоров, и так, опомнясь несколько, принимаюсь опять за старое ремесло: 1, спешу сражаться; 2, собираюсь ехать с собаками; 3, от любви еду в Локод посмотреть, можно ли прыгнуть и не ушибиться; к удовольствию же твоему может быть, что второй и третий номер не удастся, ибо с кривой и подлой рукой на век останусь… Прощай, почтенный Друг, будь здоров, счастлив и по возможности покоен!
Остаюсь по гроб тебе преданный
Суворов.
Часто случается, что мы с Главнокомандующим об тебе долго разговариваем: он цену тебе знает в полной мере, доброго отменно много, уверен, что весенняя кампания помирит его с недоброжелателями… 28 Генваря.
Бухарест 811».
В этом письме все значимо: и дружба восходящей звезды русской армии, генерала со столь громкой фамилией и безусловными военными дарованиями, – очевидно, они сошлись во время кампании 1807 года, и то, что Суворов и главнокомандующий Каменский, на которого возлагались основные надежды в будущей войне с Наполеоном, «долго разговаривают» о Ермолове – всего-навсего генерал-майоре на невысокой должности, и то, что Суворов полушутя называет оставшегося в Киеве друга «Наместником», и, как ни странно это может показаться, упоминание Суворовым о своей «кривой и подлой руке». Очевидно, он или был ранен, или каким-то образом серьезно повредил руку, и это сыграло роковую роль – 13 апреля того же года, меньше чем через три месяца после цитированного письма, он погиб: генерал-лейтенант светлейший князь Суворов-Рымникский утонул в реке Рымник, спасая солдата, своего денщика…
Главнокомандующий Каменский заболел и умер в мае…
Письма Кульнева и Суворова, беседы Суворова с Каменским свидетельствуют об особом положении, которое уже тогда занимал Ермолов в сознании своих товарищей по оружию. И дело было, разумеется, не просто в его обаянии и умении нравиться людям. В нем ощущались сила и необычность, природу которой далеко не все понимали, но о которой догадывались.
И если, как свидетельствовал Вигель, в обществе он был мало известен, то в армии ситуация была иная.
Александр об этом знал, хотя его отношение к этому генералу, неожиданно приобретавшему популярность в военных кругах в канун надвигающейся войны, было далеко не простым.
18 июня 1811 года Ермолов писал Казадаеву из Киева: «Полтора месяца назад переломил я себе руку и самым опаснейшим образом, могли быть неприятные следствия, но благодаря искусству и чрезвычайному попечению доктора я надеюсь в короткое время получить употребление руки».
В письме присутствует характерный для Ермолова пассаж: «Самого сего доктора сын отправляется ныне в корпус тобою командуемый, если ты будешь иметь на него внимание, сделай благодеяние, ибо отец его человек весьма добрый и при недостаточном состоянии обремененный многочисленным семейством».
Ермолов, при всей его замкнутости на себе и своей миссии, безусловно получал удовлетворение, прося за других, покровительствуя низшим и нуждающимся в помощи.
Сломанная рука Ермолова вызывала беспокойство императора!
31 мая 1811 года генерал от инфантерии Милорадович, киевский военный губернатор, получил неожиданный запрос из Петербурга: «Его Императорскому Величеству благоугодно иметь верное известие о состоянии здоровья артиллерии генерал-майора Ермолова, а потому поручить мне изволил отнестись к Вашему Высокопревосходительству, чтобы вы донесли о том Его Величеству с нарочно отправляемой по сему случаю эстафетою; да и впредь по временам доносить, в каком положении он находиться будет.