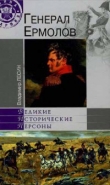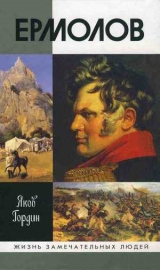
Текст книги "Ермолов"
Автор книги: Яков Гордин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
«Главнокомандующий колебался согласиться на мое предложение. Ему как военному министру известно было во всем объеме положение наше и конечно требовало глубокого соображения! (Даже теперь Алексей Петрович не удержался от сарказма. – Я. Г.) Генерал-квартирмейстер Толь, вопреки мнению многих, утверждал, что позиция соединяет все выгоды. Генерал Тучков 1-й, видя необходимость отступления, об исполнении его рассуждал не без робости. Решительность не была его свойством: он предлагал отойти ночью. (К этой фразе Ермолов сделал примечание: «Надобно быть уверену, сказал я, что дозволит нам Наполеон дожить до вечера». – Я. Г.) Генерал-адъютант барон Корф был моего мнения, не смея утверждать его. Не ищет он стяжать славу мерою опасностей… Я боялся непреклонности главнокомандующего, боялся и его согласия. Наконец он дает мне повеление об отступлении. Пал жребий, и судьба похитила у неприятеля лавр победы!
Был первый час пополудни…»
На первый взгляд то, что пишет Ермолов, вполне соответствует документальным данным. Но Алексей Петрович был мастером нюансов и деталей.
Он ни словом не упоминает о военном совете, собранном Барклаем, совете, который и высказался за отступление. Важную роль в этом решении сыграла специальная записка Беннигсена, которую тот подал в этот день Барклаю. С другой же стороны, Ермолов дает понять, что главнокомандующий испрашивал мнение генералов, так что в прямом искажении реальности его не обвинишь.
Но получается так, что он был единственным, кто решительно настаивал на отступлении, принимая на себя всю ответственность. Он тонко дает понять это: «Я боялся непреклонности главнокомандующего, боялся и его согласия».
Странно было бы думать, что многоопытный Барклай де Толли не видел изъянов позиции и не осознавал, что при двойном перевесе сил у Наполеона – а наступающими командовал сам Наполеон – генеральное сражение неизбежно приведет к катастрофе.
Но, как уже говорилось, измученный упреками в трусости и измене, он хотел, чтобы решение об очередном отступлении принято было коллективно.
По Ермолову же получается, что без его настояния Барклай неизбежно пошел бы на губительную авантюру.
«Не скрою некоторого чувства гордости, что главнокомандующий, опытный и чрезвычайно осторожный, нашел основательным предположение мое об отступлении».
Но Ермолов не был бы Ермоловым, если б оставил происшедшее без комментария, ставившего все на свои места.
«О дерзость, божество, пред жертвенником которого человек не раз в жизни своей должен преклонить колена! Ты иногда спутница благоразумия, нередко оставляя его в удел робкому, провождаешь смелого к великим предприятиям; тебе в сей день принесена достойная жертва!»
Главное, стало быть, на пути к «великим предприятиям» – дерзость. Но 15 июля 1812 года – в виде редкого исключения – пришлось принести «достойную жертву» дерзости в виде благоразумия.
Ермолов оправдывал отступление от своего главного принципа.
Надо сказать, что в конечном счете было принято более рациональное предложение Тучкова. Армия начала отступление не в тот же час, а именно ночью. Причем была использована традиционная хитрость – на позициях русской армии всю ночь горели костры, в то время как самой армии там уже не было.
Изготовившийся к генеральному сражению Наполеон на рассвете 16 июля увидел перед собой пустое пространство…
Барклай методически и упорно осуществлял свой план.
7
20 июля 1-я армия пришла в Смоленск, а через два дня, обыграв в маневренной войне французов, к Смоленску вышла и 2-я армия. Первый и главный стратегический результат – соединение армий – был достигнут.
За день до этого, 21 июля, произошло событие незаурядного психологического смысла: князь Багратион, опередив свою армию, прибыл в Смоленск и при встрече с Барклаем де Толли заявил, что он готов подчиниться ему как военному министру.
Этот жест многих удивил. Формально старшинство по чину было у Багратиона, а этому в русской армии придавалось большое значение. Правда, это было условное старшинство: и Барклай, и Багратион были произведены в генералы от инфантерии в один день одним приказом, 20 марта 1809 года, но в приказе фамилия Багратиона стояла раньше фамилии Барклая.
Прорыв Багратиона к Смоленску Ермолов считал необыкновенно счастливым стечением обстоятельств. Отчасти так оно и было – кроме мужественной стремительности князя Петра Ивановича и необыкновенной выносливости его солдат решающую роль сыграли ошибки противника.
Жером, король Вестфалии, которого русские офицеры называли королем Еремой, будучи наиболее бездарным из всех братьев Бонапартов, вместо того чтобы следовать по пятам Багратиона, отрезая его от 1-й армии, двигался не торопясь, позволяя себе длительные дневки, а потому далеко отстал от 2-й армии, вызвав ярость Наполеона, который подчинил его маршалу Даву. Но и многоопытный Даву оказался не на высоте.
Теперь все ждали от Барклая генерального сражения и изгнания Наполеона из пределов России.
После отступления от Витебска Барклай послал Александру письмо, объясняющее смысл его действий. Александр ответил ему обширным посланием: «Михайло Богданович! Я получил донесения ваши, касающиеся причин, побудивших вас идти первою армиею на Смоленск, так и о соединении вашем со второю армиею.
Так как вы для наступательных действий соединение сие считали необходимо нужным, то я радуюсь, что теперь ничто уже не препятствует предпринять их, и судя по тому как вы меня уведомляете, ожидаю в скором времени самых счастливых последствий».
Далее идет принципиально важный абзац: «Я не могу умолчать, что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий нужно было оставить пределы нашей земли, однако же не иначе как с прискорбностью должен был видеть, что сии отступательные действия продолжались до самого Смоленска…
Вы развязаны во всех ваших действиях без всякого пристрастия и помешательства, а потому и надеюсь я, что вы не упустите ничего к пресечению намерений неприятельских как и нанесению ему всевозможного вреда. Напротив того, возьмете все строгие меры к недопусканию своих людей до грабежа, обид и разорения поселянам и обывателям.
Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми. Поручаю себя покровительству Божию и твердо надеюсь на справедливость защищаемого мною дела, на искусство и усердие ваше, на дарование и ревность моих генералов, храбрость офицеров и всего воинства, ожидаю в скором времени услышать отступление неприятеля и славу подвигов ваших».
Это письмо датировано 30 июля, когда до битвы за Смоленск оставалось четыре дня, а русские армии маневрировали в нескольких переходах от города.
Письмо исполнено печального для Барклая смысла. Император, одобривший в свое время «скифский» план, давал понять, что его поддержка кончается. Он требовал «наступательных движений», не очень представляя себе реальное соотношение сил.
Барклай знал, что ресурс императорской поддержки заканчивается, а «генеральская оппозиция» во главе с великим князем становится все агрессивнее.
Именно этим вызваны были его «колебания». Время от времени он делал вид, что готов уступить общему настроению и попытать счастья в генеральном сражении. Более того, некоторые из позиций, выбранных для этого, уже начинали укреплять. А затем армия снова уходила на восток. Есть предположение, что эти недостроенные укрепления должны были убедить Наполеона, что русские вот-вот остановятся.
25 июля Барклай собрал военный совет, чтобы обсудить возможность и характер «наступательных действий».
На совете присутствовали Багратион, Ермолов, начальник штаба 2-й армии генерал Сен-При, генерал-квартирмейстеры 1-й армии Толь и 2-й армии Вистицкий, флигель-адъютант Вольцоген и великий князь Константин Павлович.
Все они были сторонниками активных действий.
Было решено, воспользовавшись разбросанностью наполеоновских корпусов, ударить по центру французской армии, прорвать его и попытаться уничтожить разъединенные силы противника.
Судя по всему, Ермолов был не только горячим энтузиастом этой операции, но и рассчитывал принять в ней непосредственное участие.
Как начальник штаба 1-й, главной, армии он сразу после военного совета составил «Дистанцию наступательным действиям к стороне местечка Рудня на 26 июля».
Имеет смысл хотя бы частично процитировать этот документ, первые фразы которого дышат надеждой на перелом в ходе кампании.
«Неприятель раздельным положением своих сил подает нам удобный случай разбить его по частям, и для того 1-я и 2-я армии, составя два боковых корпуса, первый по дороге через село Касплю, в направлении к Поречью, а другой при местечке Красном, на левом берегу Днепра, каждый по 5000 человек, выступают главными силами по трем дорогам следующим порядком <…>».
Дальше шла подробная роспись следования войск.
«По приближению колонн к новому лагерю, войсковой атаман, генерал от кавалерии Платов начинает сбивать неприятельские пикеты и растянутым своим движением прикрывает марш всех колонн; авангарды колонн 1-й и 2-й, поступающие в команду генерал-майора графа Палена, служат подкреплением генералу Платову.
Под прикрытием сих последних чиновники квартирмейстерской части делают рекогносцировки дорогам, идущим параллельно в направлении к Рудне, и буде где найдутся испорченные неприятелем мосты, оные немедленно исправить».
Он долго ждал, когда ему представится случай подписать такой документ. И час настал.
Вряд ли Барклай верил в успех операции. Он слишком хорошо помнил, кто ему противостоит и что поставлено на карту. Помнил, что реально он может ввести в бой до 120 тысяч штыков и сабель, а Наполеон, коль скоро по всевозможным обстоятельствам не удастся быстро разгромить хотя бы часть вражеских корпусов, может сконцентрировать силы, в полтора раза большие. И тогда выгодное в первый период положение русской армии по отношению к наполеоновским войскам может стать причиной катастрофы.
В случае успеха французам мог быть нанесен существенный урон, не фатальный, однако, для их общего положения. Но если бы русская армия, встретив сильное сопротивление передовых корпусов, увязла в боях с ними, то оторваться от подоспевшего с главными силами Наполеона было бы чрезвычайно трудно и возможность окружения становилась реальной.
Тем не менее 26 июля наступление началось.
Ермолов пишет: «В расстоянии небольшого перехода от Рудни армии остановились. Главнокомандующий колебался идти вперед, князь Багратион требовал того настоятельно. Вместо быстрого движения в предприятии нашем лучшего ручательства за успех дан армиям день бесполезного отдыха, неприятелю лишний день для соединения сил! Он мог уже узнать о нашем приближении!»
Решение Барклая было отнюдь не бессмысленным. Он получил данные разведки, сообщавшей о сосредоточении французских войск у Поречья, что создавало опасность обхода французами правого фланга русских войск. Данные эти при последующей проверке оказались неточными, но «методик» Барклай не счел возможным рисковать.
Военный историк Любомир Григорьевич Бескровный, проанализировав сложившееся положение, пришел к выводу: «Вообще предположение Барклая де Толли о возможном обходе его правого фланга не было лишено оснований. Из Витебска к Смоленску шли три дороги, одна – через Поречье, другая – через Рудню, третья – через Красный. Наступлением через Поречье русскую армию можно было отбросить к югу от Московской дороги, движением через Рудню – нанести удар в лоб, а через Бобиновичи – Красный – обойти русскую армию с тыла, отрезав ее от основных баз снабжения».
Вот этого последнего варианта больше всего опасался Барклай, неохотно согласившийся на рискованную операцию. До сих пор Наполеону не удавалось отрезать русские армии от основного российского пространства и вырваться на оперативный простор, имея перед собой слабозащищенные обе русские столицы. Барклай совершенно не расположен был предоставлять противнику такой шанс.
А Наполеон между тем, дав своей армии недельный отдых вокруг Витебска, двинулся на Смоленск…
Русские армии, не имея достаточно точных данных о местоположении и намерениях противника, маневрировали в районе Рудни, не предпринимая попыток атаковать французов.
Ермолов был в ярости. Через много лет эта ярость прорвалась в его воспоминаниях: «Не забуду я странного намерения твоего, Барклай де Толли; слышу упреки за отмену атаки на Рудню. За что терпел я от тебя упреки, Багратион, благодетель мой! При первой мысли о нападении на Рудню не я ли настаивал на исполнении ее, не я ли убеждал употребить возможную скорость?»
2 августа «ужасная», по выражению Ермолова, кавалерия Мюрата атаковала именно городок Красный, что означало возникновение самого опасного варианта. Красный занимала 27-я дивизия генерала Неверовского.
Русские сопротивлялись яростно. Но силы были слишком неравны. Неверовский, построив войска в два каре, начал отступать к Смоленску.
Отступление 27-й дивизии, выдержавшей на протяжении многих верст 40 атак кавалерии Мюрата, – один из самых героических эпизодов кампании 1812 года.
Когда Барклаю стало известно об атаке на Красный, он – да и не только он – понял, что Наполеон может оказаться у Смоленска раньше, нежели туда успеют русские армии. 1-я армия находилась в 40 километрах от Смоленска, а 2-я – в 30 километрах. Осторожность Барклая, не давшего увлечь себя далеко от этого важнейшего пункта, оказалась оправданной. Но и сложившаяся ситуация выглядела весьма угрожающей. Наполеон переигрывал Барклая.
Измученная дивизия Неверовского, потерявшая сотни солдат, достигнув Смоленска, не смогла бы противостоять силам Наполеона.
К счастью, корпус Раевского, вышедший к Рудне позже остальной армии, находился от города в 12 километрах. Багратион послал Раевскому приказ немедленно возвращаться в Смоленск и соединиться с Неверовским. Туда же были направлены еще два отряда.
«Нерешительность» Барклая минимизировала риск и предотвратила едва не разразившуюся катастрофу.
Надежды, которые Алексей Петрович возлагал на разработанную им совместно с Толем операцию, были так велики, что он не мог трезво принять реальность, которую сам же здраво проанализировал.
Сохранились два письма Ермолова, написанные в эти дни Багратиону и свидетельствующие как о крайней неопределенности ситуации, так и об упрямом стремлении Алексея Петровича во что бы то ни стало продолжить наступление.
1-я и 2-я армии находились сравнительно недалеко друг от друга, и письма могли быть доставлены к адресату не далее чем через сутки.
4 августа Багратион получил от Ермолова следующее послание: «Ваше Сиятельство! Ничего не знает (Барклай. – Я. Г.), даже и то, куда завтра вдет, ждет известия о неприятеле от Платова, а тот не туда послал, куда надобно. Неприятель от нас так далеко, что дойти до него два марша. Один корпус отослал было назад, предполагая, что Вы не успеете к Смоленску; насилу удержал, несколько часов работая, чтобы подвинуть вперед: как клад не дается! Что скажет Платов? Обманул моего Маршала: вот Поречье! Бога ради, чтобы только не перешли в Смоленск через Днепр. Можно что-нибудь успеть сделать здесь. Но два марша от неприятеля, пока дойдут, надобно держать его у Смоленска, а потом надобно и на драку время; дай Бог Вам терпение – батюшка князь Петр Иванович, через Днепр не пускайте, а быть может, здесь успеем».
О чем, собственно, идет речь в письме, написанном, когда Наполеон уже шел к Смоленску, о чем Ермолов догадывался или, вернее, крайне этого опасался?
Барклай, чуявший опасность, собирался отправить к Смоленску на всякий случай один из корпусов своей армии. Если бы Ермолов с его даром убеждения не отговорил главнокомандующего, то грозную массу наполеоновских войск встретили бы не обескровленная дивизия Неверовского и утомленный форсированным маршем корпус Раевского, а два корпуса, что сделало бы первый период защиты города куда менее драматичным и тяжким для русских войск. Но Ермолов настоял на своем и в канун смоленской битвы гордился этим. Однако он понимал, что Наполеон не станет бездействовать, и это вызывало у него острую тревогу.
Наполеон поступил именно так, как предполагал Ермолов: сконцентрировал войска, форсировал Днепр и стремительно двинулся к Смоленску.
Судя по цитированному письму, Ермолов продолжал, несмотря ни на что, возражать против прекращения диверсий против удаленных от остальных французских сил корпусов. 2-я армия должна была или не допустить форсирование французами Днепра, или же удерживать их под Смоленском, пока, выполнив свою задачу, 1-я армия не вернется туда же. Это конечно же была героическая авантюра. Барклай таких вещей не терпел.
Прежде чем рассказать о сражении под Смоленском, стоит привести фрагмент из записок умного и тонкого наблюдателя Павла Христофоровича Граббе, одного из любимых адъютантов Ермолова, подтверждающий наши рассуждения о роковом во многих отношениях наступлении на Рудню: «Переносясь мыслию в ту эпоху, помню, какое общее веселие произвело во всех соединение армий. Труднейшее было с успехом исполнено… Но тем затруднительнее стало положение Барклая де Толли. От самого Государя, как видно из его рескрипта, до последнего солдата, все полагали, что с соединением армий не только должно сократиться отступление, но остается только наступать на неприятеля, столь далеко зашедшего. Военный совет, к которому прибегнул Барклай де Толли, решил наступление. Я остаюсь при мысли, что главнокомандующий тогда же принял намерение противное всеобщему слепому увлечению, подал вид будто разделяет его, но остался при прежней системе выжидания обстоятельств более верных».
Поразительно точно генерал Граббе ретроспективно понял скрытые намерения Барклая. Он пишет: «Князь Багратион, облегченный от ответственности, говорил только о решительном сражении. Теперь можно утвердительно сказать, что оно имело бы самые гибельные последствия».
И дальше Граббе с точностью военного профессионала и с лапидарностью опытного мемуариста набросал картину происходившего 3 августа: «Между тем наши армии в несвязных движениях переходили без нужды с дороги на другую, Наполеон, безответственный властелин никем не оспариваемых своих соображений, быстро соединил свою армию, все еще далеко превосходную числом против нашей. 3-го августа в Расасне, на левом берегу Днепра, собралось до 200 000 готовых кинуться на Смоленск, прикрытый тогда одною 27-й дивизией под начальством генерал-майора Неверовского. День 2 августа принадлежит Неверовскому. Он внес его в историю. Атакованный авангардом под начальством Мюрата, за которым следовала вся огромная туча французской армии, не имея за собой до Смоленска ни малейшей опоры, Неверовский, окруженный, отрезанный, совершал свое львиное отступление, самими неприятелями так названное.
Между тем, обе наши армии, в неведении об неприятеле, удалялись более и более от угрожаемого Смоленска по направлению на Рудню, 2-я армия следовала на Надву и услышала канонаду на левом берегу. <…> Из 1-й армии по полученному вскоре неясному известию Ермолов послал меня туда же вперед разведать о происходящем».
Граббе, все видевший своими глазами, подтверждает опасения и Барклая, и Ермолова. Только главнокомандующий, исходя из этих опасений, хотел вернуться к Смоленску, а его начальник штаба считал, что надо рискнуть и все же попытаться нанести урон противнику, находящемуся в двухдневных переходах.
Второе письмо Ермолова Багратиону написано скорее всего утром 4-го числа, и оно исполнено острого беспокойства. Ермолов догадывается, к чему может привести поход на Рудню: «Мое мнение, что они (французы. – Я. Г.) для сокращения пути переправляются у устья реки Березины. Желал бы обмануться. Жаль, мы поздно узнали об их движении; много они выиграли пути. Мы готовы идти вперед. Готовы чистым сердцем, движением нашим дать Вам помощь и самыми силами помогать Вам. Ради Бога, мост у Катани. Я посылаю понтоны в Катань, надобны нам будут, мы в тыл можем перейти. Если Вы отступите, Смоленские гавань, вороты, можно дерзкому начальнику их удерживать, через мост в Смоленск можно пускать. Бродов отыскать трудно. Пушки переправят. Нужно выиграть время дня… Много потеряно времени».
Ермолов уже предвидит, что Наполеон может форсировать Днепр и, оказавшись на левом берегу, ринуться к Смоленску. Потому он планирует понтонный мост значительно выше по Днепру, недалеко от Смоленска в Катыни, чтобы в случае прорыва французов к Смоленску раньше русских армий выйти им в тыл. Как всегда в критической ситуации, он полон боевой энергии.
Мы так подробно рассказываем о наступлении на Рудню, потому что этот авантюрный план, навязанный главнокомандующему оппозиционным генералитетом, резко обострил отношения в верхах армий и, соответственно, радикализировал позицию Ермолова.
8
27 июля, через день после начала наступления, когда стало ясно, что Барклай не намерен рисковать и не испытывает ни малейшего энтузиазма по поводу планов Багратиона и Ермолова и, опасаясь флангового обхода, двинул армии на Поречье, Алексей Петрович на первом же биваке написал второе письмо императору. Причем отправил его не непосредственно Александру, что подтвердило бы факт их договоренности, а приложил к письму, адресованному Аракчееву.
«Ваше сиятельство, м. г. граф Алексей Андреевич. Я, почитая себя обязанным представить Государю Императору мнения мои о действиях армии, имею честь представить оное вашему сиятельству с тем, что если изволите вы найти их достойными внимания Е. И. В., благоволили бы их представить, если же признать изволите их бесполезными, оставить или возвратить мне. Я имею честь покорнейше объявить вашему сиятельству, что я взял смелость писать не с каким другим намерением, как открыть образ мыслей моих относительно положения армии и предположения о намерениях неприятеля.
Я открываю удобность оценить мои способности, ибо лучше хочу, чтобы виден был недостаток оных, нежели скрывая, занижать недостойно и место по обстоятельствам слишком важное и на которое нельзя сыскать человека слишком способного.
С глубочайшим высокопочитанием и совершенною преданностию имею честь быть…»
Алексей Петрович, как всегда искусно играя стилем, ставит достаточно дерзкий вопрос: если вы, высокие начальники, не сочтете мои соображения резонными, то чего ради держать меня на моем посту?
И первое, и второе письма Ермолова императору посвящены, казалось бы, частным вопросам – в первом случае, как мы помним, отказу Барклая выполнить маневр, предложенный Ермоловым, во втором – разногласиям Барклая с большинством генералитета, Багратионом и Ермоловым в первую очередь, возникшим в процессе наступления на Рудню.
Второе письмо обширнее первого, но и его стоит привести целиком, поскольку это не только, так сказать, программно-стратегический, но и глубоко личный документ, свидетельствующий о смятении, в котором находился в это время Алексей Петрович, понимавший, какую рискованную игру он ведет.
Более того, есть основания предположить, что эта игра, основанная на двуличии и коварстве по отношению к Барклаю, давалась ему совсем нелегко.
Но слишком сильны были стимулы.
Аракчеев передал письмо императору.
«Всемилостивейший Государь.
Главнокомандующий, донеся В. И. В. о всех происшествиях в точном их виде, не избавляет меня обязанности повергать к стопам В. И. В. донесения мои, хотя бы для того единственно, чтобы служить могли доказательством образа понятия моего о всем, что до положения армии относится.
Отступление наше от Витебска с необычайною решительностию произведенное, чтобы не дать ей наименования дерзости, тогда как иначе неизбежно было общее дело, приведя неприятеля в недоумение, доставило нам возможность прибыть в Смоленск. 2-я армия, глупою поспешностию маршала Даву, ожидавшего нападения в Могилеве, после жестокого сражения храбрым ген. – лейт. Раевским данного, сокрывшее движение свое беспрепятственно, тоже прибыла к Смоленску. Маршал Даву должен был прежде нас занять Смоленск, и без больших усилий, ибо в Орше были части войск, его армии принадлежавших, и так неожиданно и вблизи многочисленных неприятельских сил армии соединились. В. И. В., мы вместе. Армии наши слабее числа неприятеля, но усердием, желанием сразиться, даже самым озлобленным, соделываемо не менее сильными. Нет возможности избежать сражения всеми силами, ибо неприятель не может терять время в праздности. Могут приспеть к нам усиления, может сблизиться армия ген. Тормасова, не столько опасная в нынешнем его отдалении, и самыми успехами его ничего решительного не производящая до тех пор, как станет на операционной линии неприятеля. Покрывшая себя славою Молдавская армия, неравнодушный взгляд неприятеля на себя привлекающая, может получить опасное для него направление. Государь, наши способы не менее самих он знает. Нельзя медлить ему. Соглашение всех армий действие, соединенные всех способов напряжения, гибельные для него, итак, уничтожение армии в преддвериях, так сказать Москвы стоящей, должно быть единственною его целию, сим не только умедливается состояние наших ополчений, но частию уничтожается и угрожаемая Москва, как сердце России, не может не произвести влияния на прочие страны Империи. На сем основывает коварный неприятель свои расчисления. Государь, армия В. И. В. имела уже успех, солдат не устрашен и мы Русские! но напряжение всех возможных усилий необходимо, малейшее медление опасно!»
Смысл этого торопливого текста сводится к одной простой мысли: неприятель понимает всю гибельность для него промедления в действиях, затягивания войны, сосредоточения всех разбросанных на большом пространстве русских армий, а потому стремится к решительному столкновению. И, по мнению Алексея Петровича, нужно вырвать у него стратегическую инициативу, пока он не настиг и не разгромил соединившиеся армии Барклая и Багратиона, что повлечет за собой падение Москвы и деморализацию всей империи.
Ермолов убежден, что решительность и «озлобление» русских солдат способны компенсировать численное превосходство противника, что выучке и мужеству французов, военному гению Наполеона можно с успехом противопоставить отчаянную ярость озлобленных на врага солдат, их ненависть к захватчику-оскорбителю, не просто мужество, но безоглядное самопожертвование, на которое не способен враг. Это была все та же идеология «подвига» как боевого принципа, перекрывающего любые другие качества противника и любые другие резоны планирования операций.
Разумеется, он прекрасно понимал, что надо подготовить условия для реализации «подвига», но при этом был уверен, что именно «подвиг», а не «метод» пролагает путь к победе.
Эта идеология была внутренне противоречива. Но таков был и сам характер нашего героя, его мощная натура, соотношение его мечтаний и его реальных возможностей в реальных обстоятельствах…
Вторая часть письма Александру посвящена была столкновению представлений, с одной стороны, Багратиона и Ермолова, с другой – Барклая, в дни наступления на Рудню. Затем – общий сокрушительный вывод: «Государь, нужно единоначалие, хотя усерднее к пользе отечества, к защите его, великодушнее в поступках, наклоннее к принятию предложений, быть невозможно достойного кн. Багратиона, но не весьма часты примеры добровольной подчиненности, Государь, Ты мне прощаешь смелость мою в изречении правды».
Упрек Барклаю в выборе неточного направления удара изложен довольно неопределенно. Ермолов все же не готов прямо обвинять главнокомандующего в некомпетентности, но ясно дает понять, что на его месте другой, более решительный и прозорливый военачальник мог бы нанести существенный урон неприятелю, поставив его в то положение, в «каком мы доселе находимся». То есть в положение отступающего и обороняющегося. Речь снова идет о стратегической инициативе.
Но главное, конечно, ясно выраженное пожелание сделать главнокомандующим Багратиона, как средоточие всех возможных достоинств. «Не весьма часты примеры добровольной подчиненности». Багратион добровольно подчинился Барклаю, и ничего хорошего из этого, по мнению Алексея Петровича, не получилось. Нужна была твердая воля императора.
9
Битва за Смоленск была первым крупным сражением кампании 1812 года.
Раевский и Неверовский ввели свои войска внутрь городских стен и в течение многих часов выдерживали атаки подавляюще превосходящих сил противника.
Понимая, каково приходится Раевскому, Багратион с марша послал ему с нарочным записку: «Друг мой! Я не иду, а бегу; желал бы иметь крылья, чтобы соединиться с тобой…»
Но 2-я армия подошла к Смоленску только вечером 4 августа, а маршал Ней начал наступление с семи часов утра этого дня.
Войска 1-й армии начали прибывать в течение ночи…
Битва за Смоленск имела для Алексея Петровича особое личное значение. В июле военные действия вообще проходили в местах его молодости, но Смоленск имел в его воспоминаниях роль ни с чем не сравнимую.
Прервав последовательное описание событий, он позволяет себе лирическое отступление: «Итак, в Смоленске, там, где в ребячестве живал я с моими родными, где служил в молодости моей, имел много знакомых между дворянством, приветливым и гостеприимным». Ни слова об аресте, о любимом старшем брате… «Теперь я в летах, перешедших время пылкой молодости, и если не по собственному убеждению, то, по мнению многих, человек довольно порядочный и занимаю видное место в армии. Удивительные и для меня самого едва ли постижимые перевороты!»
Сдача Смоленска вызвала в нем нехарактерные, казалось бы, для него чувства. Он вспоминал смоленскую драму через добрый десяток лет, но, надо полагать, что в то время, когда она разворачивалась, его чувства были еще интенсивнее.
«Итак, оставили мы Смоленск, привлекли на него все роды бедствий, превратили в жилище ужаса и смерти. Казалось, упрекая нам, снедающим его пожаром, он, к стыду нашему, расточал им мрак, скрывающий наше отступление». И дальше – главное: «Разрушение Смоленска познакомило меня с новым совершенно для меня чувством, которого войны, вне пределов отечества выносимые, не сообщают. Не видел опустошения земли собственной, не видел пылающих городов моего отечества. В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раз раскрылись глаза на ужас бедственного их положения. Великодушие почитаю я даром Божества, но едва ли бы дал ему место прежде отмщения!»
«Отмщение». Это надо запомнить, чтобы впоследствии оценивать поведение Ермолова по отношению к неприятелю.
После ухода из Смоленска по решению Барклая возмущенный Багратион обратился к Александру с письмом, в котором, осуждая стратегию военного министра, он, в частности, писал: «Смоленск представлял немалую удобность к затруднению неприятеля на долгое время и к нанесению ему важного вреда. Я по соображении обстоятельств и судя, что неприятель в два дня под Смоленском потерял более 20 тысяч, когда со стороны нашей и половину не составляет потеря, позволю себе мыслить, что при удержании Смоленска еще один, два дня, неприятель принужден был бы ретироваться».