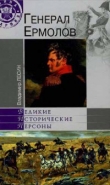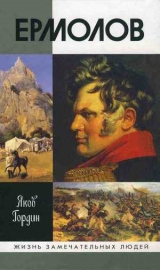
Текст книги "Ермолов"
Автор книги: Яков Гордин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Александр, однако, при первом осмотре позиции остался ею чрезвычайно доволен.
Была подготовлена «Генеральная диспозиция к наступательным действиям», которая завершалась соображениями, как быстро и неожиданно разгромить вторгшиеся на русскую территорию корпуса неприятеля.
«Вероятно, после разбития корпусов Нея, Мюрата и Удино, пресечется им всякое сообщение с Давустом, и тогда наши армии беспрепятственно и с видимою пользою могут действовать на сообщение Давуста. <…>
После соединения обеих армий в окрестностях Ошмяны, соберется около 170 000 Российского войска против 160 000 союзных сил, которые, без сомнения, будут совершенно разбиты и рассеяны.
После таковых успехов должно продолжать наступательные действия: со всею возможною деятельностию, минуя Вильну, итти на Троки и заставить отступить неприятеля на правый берег Вилейки и далее через Вилькомир в Самогицию. Сие положение лишит его всех сообщений с Вислою и принудит склониться к миру, который увенчает славу Русского оружия.
В лагере при Дриссе.
28-го июня, 1812 г.».
В это время главным действующим лицом был Александр I, мечтавший возглавить армию. Стало быть, уроки Аустерлица были усвоены далеко не полностью.
В том, что корпуса Нея, Мюрата и Удино будут разбиты, у Александра сомнений нет.
Скорее всего, Ермолов разделял эти настроения. И в качестве начальника Главного штаба 1-й армии он с понятным чувством подписал приказ по армии июня 3-го дня.
«Главная квартира
Город Дрисса:
По повелению Главнокомандующего Армиею Г-на Генерал от Инфантерии Военного Министра и Кавалера Барклая де Толли объявляется:
Сейчас получено из 2-й Западной армии приятное известие о новом успехе оружия нашего. – Там при местечке Мире генерал Платов с казаками своими истребил совершенно три целые полка неприятельской кавалерии. – Теперь ваша, храбрые воины, очередь наказать дерзость врага, устремившегося на отечество наше. Время к тому уже наступило. Мы перешли Двину не для того, чтобы удалиться от него; но для того, единственно, чтобы завлекши его сюда, положить предел бегству его. Чтобы Двина была гробом ему. – Внемлите сей истине и намерение наше с благословением Божиим исполнится».
Приказ сочинял, разумеется, не Барклай де Толли, а сам Ермолов.
О серьезности намерений Александра в этот момент свидетельствует и то, что знающий его настроения и всегда желавший им соответствовать Аракчеев, отнюдь не будучи стратегом, подал императору записку «О наступлении решительной минуты и необходимости сразиться с неприятелем».
Записка была написана рукой Аракчеева, а на полях начертано Александром: «Представляя собственному Вашему благоусмотрению. Я уверен, что Вы не упустите взять нужные меры, если неприятель переправится большими силами от Динабурга для следования к Петербургу».
Положение Барклая как автора и главного исполнителя «скифского» плана усложнялось тем, что сторонники плана наступательного были связаны между собой приязненными личными отношениями. Казалось бы, трудно представить себе более различных людей, чем Багратион и Аракчеев. Тем не менее сложная игра в среде высшего генералитета провоцировала самые причудливые союзы.
25 сентября 1809 года Багратион, командовавший тогда Молдавской армией, писал военному министру Аракчееву: «Два письма приятнейших ваших я имел честь получить, за которые наичувствительнейше благодарю. Я не хочу более ни распространять, ни уверять вас, сколь много вас люблю и почитаю, ибо оно лишнее. Я вашему сиятельству доказывал и всегда докажу мою любовь, уважение и нелицемерную преданность. Я не двуличка. Кого люблю, то прямо притом я имею совесть и честь. Мне вас невозможно не любить, во-первых, давно вы сами меня любите, а во-вторых, вы наш хозяин и начальников начальник. Я люблю службу и повинуюсь свято, что прикажут исполню и всегда донесу, как исполняю».
Нет смысла сейчас разбираться, насколько искренни были взаимные чувства Багратиона и Аракчеева. Равно как трудно определить и истинный характер взаимоотношений Аракчеева и Ермолова.
То, что Ермолов искренне почитал Багратиона – несомненно. Как несомненно и то, что Багратион отвечал ему взаимностью. Их еще роднила демонстративная нелюбовь к «инородцам», и в том же письме Багратион уверял Аракчеева: «Признаюсь в откровенности, как чисто русский и верноподданный нашему монарху…» Грузинский аристократ князь Петр Иванович яростно подчеркивал свою русскость, не сомневаясь, что честное и самоотверженное служение России дает ему это право.
У сторонников генерального сражения вблизи границы были сильные позиции.
В этой ситуации Ермолову, видевшему явные признаки благоволения со стороны императора, знающему настроения Багратиона и Аракчеева, при его темпераменте и характере трудно было удержаться от собственной игры…
Барклай, несмотря на некоторые колебания и появившуюся надежду разбить противника по частям, был настроен отнюдь не так решительно: «Я не понимаю, что мы будем делать со всею нашею армиею в Дрисском лагере…» Он предлагал вывести армию из лагеря и начать маневренную войну, избегая решительного сражения. Но и эту идею пришлось отбросить, когда стало очевидно подавляющее численное превосходство уже подтянутых Наполеоном корпусов. Теперь главной задачей для Барклая было объединение двух армий.
А это оказалось задачей почти неисполнимой, ибо Наполеон делал все, чтобы не допустить объединения и раздавить 45-тысячную армию Багратиона.
4
В тот самый день, 3 июля, когда Ермолов подписал тот самый бравурный приказ, Багратион отправил ему далеко не бравурное, раздраженное против Барклая письмо.
«На марше, 3-го.
Я расчел свои марши так, что 23 июня главная моя квартира должна была быть в Минске, авангард далее, а партии уже около Светян. Но меня повернули на Новогрудек и велели итти или на Белицу, или на Николаев, перейти Неман и тянуться к Вилейке, к Смаргони, для соединения. (По наступательному плану Александра, на берегах Вилейки должна была решиться судьба Наполеона. Все то, о чем с горечью и яростью пишет Багратион, обвиняя Барклая, вполне соответствует диспозиции от 28 июня, отражающей взгляды Александра и других сторонников наступательной стратегии. – Я. Г.) Я и пошел, хотя и написал, что невозможно, ибо там 3 корпуса уже были на дороге Минска и места непроходимые. Перешел в Николаеве Неман. Насилу спасся Платов, а мне пробиваться невозможно было, ибо в Волжине и Вишневе была уже главная квартира Даву, и я рисковал все потерять и обозы. Я принужден назад бежать на Минскую дорогу, но он успел захватить. Потом начал показываться король Вестфальский (Жером Бонапарт. – Я. Г.) с Понятовским, перешли на Белицы и пошли на Новогрудек. Вот и пошла потеха! Куда ни сунусь, везде неприятель. Получил известие, что Минск занят и пошла сильная колонна на Борисов по дороге Бобруйска.
Я дал все способы и наставления Игнатьеву и начал сам спешить, но на хвост мой начал нападать король Вестфальский, которого бьют как свинью точно. Вдруг получаю рапорт от Игнатьева, что неприятель приблизился в Свеслоч, от Бобруйска в 40 верстах, тогда, как я был еще в Слуцке и все в драке. Что делать? Сзади неприятель, сбоку неприятель, и вчерась получил известие, что и Минск занят. Я никакой здесь позиции не имею, кроме болот, лесов, гребли и пески. Надо мне выдраться, но Могилев в опасности, и мне надо бежать. Куда? В Смоленск, дабы прикрыть Россию несчастную. И кем? Гос. Фулем! Я имею войска до 45 тысяч. Правда, пойду смело на 50 т. и более, но тогда, когда бы я был свободен, а как теперь и на 10 т. не могу. Что день опоздаю, то и окружен. Спас Дорохова деташемент [40], и Платов примкнул. Жаль Государя, я его как душу люблю, предан ему, но видно нас не любит. Как позволил ретироваться из Свенцян в Дриссу. Бойтесь Бога, стыдитесь! России жалко! Войско их шапками бы закидали! Писал я, слезно просил: наступайте, я помогу. За что Вы страмите Россию и армию? Наступайте, ради Бога! Ей Богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся нас: войско ропщет и все недовольны. У вас зад был чист и фланги, зачем побежали? Надобно наступать; у вас 100 т., а я бы тогда помог; а то вы побежали; где я вас найду? Нет, мой милый, я служил моему природному Государю, а не Бонапарте. Мы проданы, я вижу; нас ведут на гибель; я не могу равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я, ежели выдерусь отсюдова, ни за что не останусь командовать армиею и служить; стыдно носить мундир, ей Богу, и болен. А ежели наступать будете с первою армиею, тогда я здоров. А то, что за дурак? Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский. (Багратион не знал, что это был план Фуля, который Александр на первых порах пытался реализовать, а Барклай должен был подчиняться. – Я. Г.) Если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я выду с честию и буду ходить в сюртуке, а служить под игом иноверцев-мошенников – никогда! Вообрази, братец, армию снабдил словно без издержек Государю; дух непобедимый выгнал, мучился и рвался, жадничал все бить неприятеля; пригнали нас на границу, растыкали как шашки, стояли рот розиня, обоср… всю границу – и побежали! Где же мы защищаем? Ох, жаль, больно жаль Россию! я со слезами пишу. Прощай, я уже не слуга. Выведу войска на Могилев, и баста! Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу. Несмотря ни на что, ради Бога ступайте и наступайте! Ей Богу, оживим войска и шапками их закидаем. Иначе будет революция в Польше и у нас.
Проси Государя наступать, иначе я не слуга никак!..
Я волосы деру на себе, что не могу баталию дать, ибо окружают поминутно меня.
Ради Бога Христа, наступайте! Как хочешь, разбирай мою руку. Меня не воином сделали, а подьячим, столько письма! <…>
Прощай, Христос с вами! а я зипун надену».
Это выразительное послание, в котором яростно выплеснулся грузинский темперамент князя Петра Ивановича, по своему пафосу вполне соответствует и приказу от 3 июля, а главное, мнению Алексея Петровича, которое он высказал на военном совете вскоре по прибытии армии в Дрисский лагерь.
Русское командование получило в это время точные сведения о численности французских корпусов, надвигавшихся на Дриссу и стремившихся обойти с фланга 1-ю армию, чтобы отрезать ее от Центральной России и от 2-й армии.
Барклай де Толли решительно настаивал на возвращении к «скифскому» плану и отступлению на восток. Его поддержал Беннигсен.
Суть плана Ермолова, который в качестве начальника Главного штаба получил право голоса, сводилась к ясной формуле: «Нужно теперь итти на неприятеля, искать его, где бы он ни был, напасть, драться со всею жестокостию».
Это была его позиция, родившаяся еще во времена первого этапа войн с Наполеоном, когда поражение под Аустерлицем, по искреннему его убеждению, было историческим недоразумением.
Он упорно верил, что Наполеона можно разбить, – для этого требуются максимальная решимость и напор, превосходящий боевую энергию противника. «Напасть, драться со всею жестокостию».
Когда письмо Багратиона дошло до Ермолова, 1-я армия уже оставила Дрисский лагерь и пошла на восток, к Полоцку.
Героический авантюризм Багратиона и Ермолова был отвергнут. В действие вступил ненавистный им «скифский» план.
Приказ, подписанный Ермоловым, от 5 июля, когда армия начала отступление, выглядит совсем не так, как героический рапорт от 3-го числа. Это сугубо деловой, сухой документ. Никакой риторики.
«Предупреждаются гг. корпусные командиры, что ежели от корпусов не будут присылаемы адъютанты в главную квартиру за приказанием, то таковые особенно к ним доставляться не будут и строгая ответственность возляжет на дежурных штаб-офицеров. <…>
Войски выступают в поход в 1 час пополудни. Г-м корпусным начальникам направление известно; на половине дороги привал, в каком порядке, в каковом оный застанет войска. Привал продолжать час или по усмотрению не более двух».
Армия шла на восток, и путь был нелегок.
Наполеон нагонял отступающую армию, и надо было увеличивать темп и выработать наиболее рациональный порядок движения. Это было обязанностью начальника Главного штаба.
Армию освобождали от балласта, собирали в кулак все силы и готовили к стремительному отходу.
7 июля произошло событие принципиальной важности: император покинул армию.
Смысл этого поступка был понятен. Наступательной войны не получилось, а возглавлять отступающую армию и брать на себя ответственность за отступление было совершенно неразумно.
Отъезд из армии был обставлен вполне корректно. Трое влиятельных и близких к царю вельмож – Аракчеев, министр полиции Балашов и государственный секретарь адмирал Шишков, сопровождавшие императора в походе, обратились к нему с письмом, в котором убеждали государя заняться организацией необходимых армии резервов. Для этого нужно было находиться в столице…
На марше из Полоцка к Витебску Ермолов получил еще одно письмо от Багратиона от 7 июля.
«Насилу выпутался из ада! Дураки меня выпустили; теперь побегу к Могилеву; авось их в клещи поставлю. Платов к вам бежит. Ради Бога, не страмитесь, наступайте, а то право худо и стыдно мундир носить; право скину. Они революцию делают в Несвиже, хотели в Гродно начать, но не удалось, в Вильне тож хотели, в Минске. (Багратион, очевидно, имеет в виду опасения, что Наполеон, объявив волю крестьянам, взбунтует им население против русского правительства. – Я. Г.) Им все удастся, если мы трусов трусим. Мне одному их бить невозможно, ибо кругом был окружен и все бы потерял. Если хотят, чтоб я был жертвою, пусть дадут имянное повеление драться до последней капли. Вот и стану! Ретироваться трудно и пагубно. Лишается человек духу, субординации, и все в расстройку. Армия была прекрасная, теперь все устало, истощилось, не шутка 19 дней, все по пескам, в жары на марше, лошади артиллерийские и полковые стали и кругом неприятель. И везде бью! Ежели вперед не пойдете, я не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр – искать и бить! Вот одна тактическая дислокация какая следствия принесла вам? А ежели бы стали вкупе, того бы не было. Сначала не должно было вам бежать из Вильны тотчас, а мне бы приказать спешить к вам, тогда бы иначе. А то побежали и бежите – и все ко мне обратились. Теперь я спас все и пойду, только с тем, чтоб и вы шли, иначе – пришлите командовать другого, а я не понимаю ничего, ибо я не учен и глуп! Жаль мне смотреть на войско и на всех на наших. В России мы хуже Австрийцев и Пруссаков стали.
Прощай, любезный! Христос с вами…»
Материала о взаимоотношениях Багратиона и Ермолова до 1812 года имеется немного. И только эти письма дают представление о степени их близости и того доверия, которое испытывал к Алексею Петровичу князь Петр Иванович.
Помимо чисто человеческих симпатий их роднило представление о стиле войны: «Итти на неприятеля, искать его, напасть, драться со всею жестокостию» – девиз Ермолова. «Мой маневр – искать и бить!» – девиз Багратиона.
Они были уверены в правильности своего «маневра».
Маловероятно, чтобы Наполеон дал русским возможность бить свои корпуса поодиночке. А в случае массированного фронтального столкновения объединенных Западных армий – 165 тысяч штыков и сабель – с более чем вдвое превосходящей по численности французской армией во главе с гениальным полководцем дело бы с неизбежностью кончилось катастрофой.
Ни Багратион, ни Ермолов искренне не могли в это поверить. Они хорошо помнили заветы Суворова, в данном случае категорически неприменимые.
Отсюда с начала июля начинает развиваться горькая драма взаимного непонимания трех сильных и достойных людей – Барклая, Багратиона, Ермолова, в которой Алексей Петрович играл едва ли не центральную и самую опасную роль. И этот сюжет окрасил его жизнь не только в роковом 1812 году, но и в последующий период.
5
8 июля 1-я Западная армия выступила из Полоцка на Витебск. Корпуса шли разными маршрутами и 12-го числа соединились под Витебском.
Отступление 1-й армии, как недавно 2-й, теперь сопровождалось арьергардными боями, часто удачными для русских. Но это были тактические успехи. Главной стратегической задачей оставалось объединение двух армий. Это было тем более важно, что 3-я армия генерала Тормасова была далеко и вела постоянные бои с выдвинутыми в ее направлении французскими и саксонскими войсками.
Положение осложнялось внутренним конфликтом, вспыхнувшим вскоре после отъезда из армии императора.
Если в начале отступления дело ограничивалось обращениями Багратиона к Александру и глухим неодобрением действий Барклая со стороны части генералитета, то с середины месяца конфликт вышел наружу.
Ермолов вспоминал: «В Полоцке также на прочном основании утвердилась вражда между великим князем Константином Павловичем и главнокомандующим. Опоздавший выступить в назначенное время командир Конной гвардии полковник Арсеньев был им арестован. Довольно сего, чтобы возродить вражду [41]; слишком много, чтобы усилить давно существующую. Великий князь воспылал гневом, ледовитый Барклай де Толли не охладил горячности».
Ермолов прав – это была старая вражда, еще со времен Фридланда, когда Барклай отмел дилетантские предложения Константина.
Но дело, конечно, было не в обиженном подчиненном великого князя. Дело было в принципиальном неприятии стратегии Барклая, «скифского» плана.
Уезжая из армии, Александр оставил там Главную квартиру, состоящую из близких ему лиц. Беннигсен, герцог Александр Вюртембергский, принц Ольденбургский, молодые флигель-адъютанты, не имевшие боевого опыта, – все были решительно на стороне Константина и вели себя совершенно независимо по отношению к главнокомандующему, не неся при этом никакой ответственности.
Ермолов оказался в чрезвычайно сложном положении. Его покровителями и старшими друзьями были Багратион и великий князь Константин. Оба они находились в непримиримом конфликте с Барклаем. Но если Багратион прилюдно соблюдал приличия и скрепя сердце выполнял приказы военного министра, то цесаревич, унаследовавший бешеный нрав отца и обладавший самопредставлением брата государя, к тому же – наследника престола, вел себя вполне чудовищно.
После первой же грубой выходки с его стороны, 12 июля, Барклай выслал его в Москву.
Но вскоре Константин возвратился и возглавил «генеральскую оппозицию».
Ермолову приходилось лавировать между своим непосредственным начальником и великим князем, которому он не без оснований считал себя обязанным и на благосклонность которого рассчитывал впредь.
При этом его, боевого генерала, угнетали повседневные рутинные обязанности, а он постоянно пытался принять участие в боевых действиях: «В Будилове представил я главнокомандующему мысль мою перейти на левый берег Двины; основывал ее на том расчете, что неприятель проходил по берегу реки путем трудным и неудобным, что только кавалерия неприятельская усмотрена была против Полоцка, но главные силы и артиллерия были назади и от нас не менее как в трех переходах. Переправившись, следовать поспешно на Оршу, заставить маршала Даву развлечь силы его, в то время когда все его внимание обращено было на движение 2-й армии, и тем способствовать князю Багратиону соединиться с 1-ю армиею. Уничтожить расположенный в Орше неприятельский отряд, и перейдя на левый берег Днепра, закрыть собою Смоленск. Отправить туда прямою из Витебска дорогою все обозы и тягости, дабы не препятствовали армии в быстром ее движении. Все сие можно было совершить, не подвергаясь ни малейшей опасности».
Барклай, сперва склоняясь к идее Ермолова, вскоре от нее отказался, как полагал Алексей Петрович, под влиянием «тяжелого немецкого педанта» флигель-адъютанта Вольцогена.
Тогда Ермолов впервые обратился через голову главнокомандующего к императору.
Надо сказать, что несмотря на утверждение Ермолова, есть основания сомневаться, что Александр и в самом деле поручил начальнику штаба армии писать ему лично без ведома главнокомандующего. В начале первого письма нет, как можно было бы ожидать, ссылки на высочайшее поручение. Зачин совершенно иной, свидетельствующий скорее о собственной инициативе генерала. Хотя нет возможности утверждать что-либо с полной определенностью.
Ермолов обратился к Александру 16 июля сразу после отклонения Барклаем его предложения, что подтверждает их принципиальные разногласия:
«Всемилостивейший Государь!
Должность по воле Вашего Императорского Величества при армии мною отправляемая, все обстоятельства известными делая мне, обязывает повернуть к стопам Государя мне благотворящего мои относительно до положения армии замечания.
После пяти дней бесполезно в лагере при Дриссе проведенных в намерении приготовить продовольствие войскам, армия выступила в Полоцк. Между тем, неприятель, представляя повсюду передовым нашим постам малые весьма силы, спешил собрать главнейшие. Движение на Полоцк было одно, обещавшее соединение со 2-ю армиею, нужна была скорость. На третьем от Полоцка к Витебску переходе надо было идти на Сенной Коханово. Сим движением если еще и не соединялись армии, то по крайней мере происходила выгода, что 1-я армия становилась уже на дорогу, идущую через Смоленск в Москву, закрывала сердце России и все средства для дальнейших мер поставляла за собою. Неприятель, как из последствий видно, оборотя в Могилев главнейшие свои силы, бессилен был по прямому на Смоленск направлению. Неприятель, видя себя между двух армий на близком расстоянии, не мог бы дать сражения, но должен был отступить. Главнокомандующий согласился было переправиться в Будилове через Двину, но отменил по причине недостатка продовольствия, и армия двинулась к Витебску. Между тем, необычайной скорости маршами неприятельские силы на третий день пребывания армии в Витебске прибыли и соединение армий более нежели когда сделалось сумнительным. Три дня сражения продолжалися упорнейшие с довольно значущими силами армии нашей и мы отступили к Поречью. Далее главнокомандующий не объявлял еще направления. Неприятель может быть прежде нас в Смоленске, отбросив далеко 2-ю армию. Если неприятель предприимчив, может заградить нам путь. Мы опрокинем и пройдем, но обозы армии подвергаются опасности; вслед за нами идет неприятель, много превосходящий нас силами. Трудны пути ему, войско его изнурено, но на сем невозможно основывать успехов, те же трудности путей и для наших войск. В. И. В. и для нас не могут они быть не чувствительны. Неприятель имеет числом ужасную кавалерию, наша чрезвычайно потерпела в последних делах, от ген. Платова даже ни одна партия с нами не соединилась.
Ваше Императорское Величество! Истинное сие дело наших изображение, точное положение армии определит наши средства предпринять должно к уничтожению усилий неприятеля. Государь! 1-я армия одна противустать должна неприятелю и без соединения его с другою его армиею несравненно сильнейшему, успех сомнителен.
Корпус ген. Витгенштейна бесполезно от нас отдален. Если неприятель силен против него, то он слаб сдержать его стремление. Если он останется без действия, то слишком силен его корпус, чтобы армия не чувствовала его отдаления. Государь, необходим начальник обеих армий. Соединение их будет поспешное и действие согласное. В. И. В. угодно было одобрять смелость мою, с каковою всегда говорил истинно. Государь, ты один из Царей, могущих слышать ее безбоязненно.
Верноподданный н-к Главн. Штаба 1-й армии ген.-м. Ермолов».
Письмо явно писалось в спешке, поскольку появилась срочная оказия, и оттого оно не по-ермоловски сбивчиво и запутано. Хотя была, вероятно, и другая причина. Ермолов понимал, что делает рискованный шаг, который может обернуться против него (в чем он, как оказалось, не ошибся), производит странное впечатление. Во-первых, отмена Барклаем маневра, предложенного Ермоловым, уже не приписывается злостному влиянию «тяжелого немецкого педанта Вольцогена», а объясняется заботой главнокомандующего о продовольствовании армии. Вспомним, что по плану Ермолова армия должна была далеко оторваться от обозов для свободы маневрирования. Барклай, очевидно, счел это опасным.
Здесь в очередной раз проявилось принципиальное расхождение взглядов Барклая и его начальника штаба на фундаментальные основы военного искусства. «Методик» Барклай (как называл его презрительно Багратион) полагал необходимым просчитывать все возможные последствия того или иного шага и действовать, исходя из наиболее надежного варианта. Ермолов – как и Багратион – делал ставку на стремительность и неожиданность, будучи уверенным, что яростный натиск минимизирует любой риск (хотя надо отдать должное опытному Багратиону, он далеко не всегда следовал тому принципу, который настойчиво навязывал Барклаю, – наступать во что бы то ни стало!).
Собственно, здесь Ермолов еще ни в чем не решается впрямую обвинить Барклая. Он обиняками дает понять императору, что его план эффективнее прямолинейной стратегии главнокомандующего, поставившей под угрозу саму возможность объединения армий. А без соединения армий успех «сумнителен». Порицая бесполезное, на его взгляд, отдаление от основных сил корпуса Витгенштейна, он, наконец, формулирует то, ради чего, собственно, и было написано письмо: «Государь, необходим начальник обеих армий».
Для всех было ясно, что речь идет о Багратионе.
Для Алексея Петровича соединение двух армий под командованием Багратиона означало не только изменение стратегии и отмену «скифского» плана, но и надежду на прямое участие в боевых действиях.
Александр получил письмо только 27 июля, когда обстановка кардинально изменилась.
6
В воспоминаниях Ермолов подробно описывает ситуацию, возникшую в результате того, что «необыкновенной скорости маршами неприятель» нагнал 1-ю армию и пытался навязать ей генеральное сражение. Но в этот момент и Ермолов при всей его самоуверенности понимал, что силы слишком неравны, инициатива принадлежит Наполеону, исходные принципы стратегии Багратиона «искать и бить» в данном случае не действуют. Необходимо было задержать Наполеона, чтобы дать возможность основным силам оторваться от французов, «много превосходящих нас силами», и прежде всего – от «числом ужасной кавалерии».
«Надобен был генерал, который дождался бы сил неприятельских и они бы его не устрашили». Ермолов предложил на эту роль графа Остермана-Толстого, которого знал по войнам 1806–1807 годов, героя Пултуска и Прейсиш-Эйлау. Одной этой рекомендацией участие Ермолова в событиях не ограничилось.
Остерман со своим корпусом упрямо держался против превосходящих сил французов, пока не наступила ночь, прервавшая бой. Его войска понесли тяжелые потери, и в подкрепление ему направлена была свежая дивизия генерала Коновницына. Далее произошло нечто труднопредставимое, но, увы, характерное для нравов русской армии того времени.
«В два дня времени неприятель сражался с главными своими силами, которых чувствуемо было присутствие по стремительности атак их. Ни храбрость войск, ни самого генерала Коновницына бесстрашие не могли удержать их. Опрокинутые стрелки наши быстро отходили толпами. Генерал Коновницын, негодуя, что команду над войсками принял генерал Тучков, не заботился о восстановлении порядка, последний не внимал важности обстоятельств и потребной деятельности не оказывал».
Дело могло кончиться полным разгромом русского арьергарда и, соответственно, серьезными осложнениями для всей армии. Положение спас Ермолов, присланный на место сражения Барклаем: «Я сделал им представление о необходимости вывести войска из замешательства и обратить к устройству».
Очевидно, это «представление» было достаточно внушительным, судя по тому, что рассорившиеся в разгар боя генералы приняли все необходимые меры, и беспорядочное бегство превратилось в достойное отступление.
В воспоминаниях Ермолов жестко прокомментировал этот эпизод: «Невозможно оспаривать, что продолжая с успехом начатое дело, приятно самому его кончить, но непростительно до того простирать зависть и самолюбие, чтобы допустить беспорядок, с намерением обратить его на счет начальника. В настоящем случае это было слишком очевидно!»
Ермолов постоянно и решительно вмешивался в управление армией, рискуя раздражить Барклая, как было и в случае отступления от Витебска.
Несмотря на героизм и ожесточенное упорство войск, удерживавших неприятеля, было ясно, что долго они не продержатся. Надо было или уводить армию, или принимать сражение. Тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, которое можно назвать ретроспективной модификацией реальных событий.
Судя по воспоминаниям Ермолова, Барклай всерьез задумывался над возможностью дать сразу под Витебском генеральное сражение. Хотя это и вызывает сомнения: вряд ли бы он решил перечеркнуть «скифский» план, тем более что ситуация сложилась для русской армии отнюдь не благоприятная.
Известный исследователь войны 1812 года пишет: «Позиция на Лучесе (река. – Я. Г.) была явно неудовлетворительной и для сражения не годилась. Кроме того, первая армия имела немногим более 75 тыс. человек, тогда как у Наполеона было под рукой 150 тыс. человек. Поэтому Барклай де Толли собрал совет, на котором было принято решение отойти к Смоленску, тем более, что туда в это время отходила также армия Багратиона, так что необходимость удерживать позицию у Витебска отпала» [42].
Автор опирался на прочную документальную основу.
В воспоминаниях Ермолова все выглядит и так, и не так.
«Внимательно рассмотрев невыгодное расположение армии, решился я представить главнокомандующему об оставлении позиции немедленно. Предложение всеконечно смелое, предприимчивость молодого человека, но расчет впрочем был с моей стороны: лучше предпринять отступление с некоторым сомнением, совершить его беспрепятственно, нежели принять сражение и, без сомнения, не иметь надежды на успех, а может быть, подвергнуться совершенному поражению. В одном случае, по мнению моему, можно не отвергнуть сражения, если другая армия готова остановить торжествующего неприятеля и преодолеть его, обессиленного потерею. Мы были совсем в другом положении».
Это замечательная декларация: Ермолов через много лет после описываемых событий формулирует основополагающую идею Барклая, ту самую, против которой они с Багратионом горячо протестовали. Но теперь он предлагает ее в качестве собственной.
Неудивительно. Когда Алексей Петрович писал свои воспоминания, абсолютная правота Барклая была очевидна, его репутация восстановлена. Те, кто в свое время поносил и клеймил его, отдавали должное его стратегической мудрости.
Странно было бы Ермолову отстаивать тогдашнюю свою позицию. Поэтому он воспроизводит события так, как они должны были бы выглядеть из 1820-х годов: