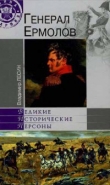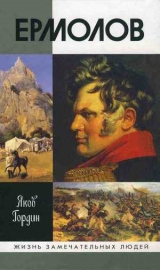
Текст книги "Ермолов"
Автор книги: Яков Гордин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Это характерное для мемуаристов заблуждение. Людям представляется, что являющие реальные жизненные обстоятельства документы вечно будут храниться в пыли и мраке архивов. Если сохранятся вообще. На этом заблуждении и строятся автобиографические мифы.
Алексей Петрович этого заблуждения также не избежал.
То, что происходило с ним в ноябре 1798-го – январе 1799 года, было куда драматичнее и интереснее, чем предложенная им самим картина.
В комплексе документов, относящихся ко второму аресту Ермолова, доставлению его в Петербург, не все логично и ясно. Но в целом ход событий понятен.
В частности, понятно, почему Ермолов не остался в Калуге в качестве жертвы Линденеровой инквизиции и почему следствие, несмотря на обилие новых материалов, захлебнулось.
В дело решительно вмешались «сильные персоны», а нетерпеливому, мятущемуся императору явно надоело разбираться в потоке бумаг, поступающих от Линденера, и он полностью перепоручил дело генерал-прокурору князю Лопухину.
А Лопухин повел себя и тонко, и решительно.
17 января 1799 года, после доклада Павлу, он оформил результат доклада в следующем документе: «Генерал-лейтенант Линденер по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению уничтожа дело по доносу генерал-майора Шепелева и подполковника Энгельгардта на 31 человек, и уведомляя меня о том, упомянул, что хотя после того открылись важнейшие обстоятельства, но арестанты от дальнейшего изыскания освобождены. (Речь идет о том моменте, когда был арестован и сразу же освобожден Ермолов. – Я. Г.) На всеподданнейший от меня доклад Вашему Величеству благоугодно было приказать истребовать от него сведения, какие еще открылись важнейшие обстоятельства и в чем именно они состоят».
Перечислив уже известные соображения Линденера в несколько ироническом тоне: «генерал-лейтенант Линденер гадательно себя вопрошает» и так далее, Лопухин завершает изложение своего доклада вполне издевательски:
«Наконец заключает (Линденер. – Я. Г.), что вся важность дела сего состоит в том, что буде Каховский и прочие останутся удаленными и обезоруженными, то опасность вовсе минуется».
Понятно, что по поводу такой «важности» Павел мог только пожать плечами.
Заканчивает Лопухин и вовсе уничижительно для Линденера: «Что касается до подражателей Каховского и прочих, то генерал-лейтенант Линденер по доставленным оригинальным письмам почитает, кажется, всех тех, с кем они по знакомству переписывались о разных обыкновенных делах и случайных. Число же, составляющее их шайку, уповательно объявлено потому, что в Смоленске под следствием было и с лишком».
Линденеру пришлось смириться с тем, что Ермолов и Кряжев были изъяты из его юрисдикции и отправлены к «сумнительным» следователям в столицу. В результате капитан Кряжев, несмотря на данные им убийственные для Каховского и Дехтярева показания, изобличающие их в замыслах цареубийства, был отправлен в дальний монастырь в качестве вечного узника.
Судьба Ермолова при таком повороте событий сложилась иначе. После решения Павла по докладу Лопухина начался классический бюрократический процесс по вполне элементарному поводу – доставки Ермолова в Петербург.
9
Создается впечатление, что Лопухин стремился как можно скорее вырвать Ермолова из цепких рук Линденера, не допустив глубокого исследования связей подполковника с Каховским и «канальским цехом» вообще.
Дальнейшие события это предположение подтверждают.
Ермолов в воспоминаниях рассказывает: «В Петербурге привезли меня прямо в дом генерал-губернатора Петра Васильевича Лопухина (Лопухин был генерал-прокурором. – Я. Г.). Долго расспрашиваемый в его канцелярии фельдъегерь получил приказание отвезти меня к начальнику тайной канцелярии. Оттуда препроводили меня в С.-Петербургскую крепость и в Алексеевском равелине посадили в каземат. В продолжение двухмесячного там пребывания один раз требован я был генерал-прокурором; взяты от меня объяснения начальником тайной экспедиции, в котором неожиданно встретил я г. Макарова, благороднейшего и великодушного человека, который, служа при графе Самойлове, знал меня в моей юности, и, наконец, его адъютантом».
Все замыкается на том же круге лиц. Вряд ли случайно Лопухин с такой настойчивостью требовал Ермолова в столицу, где начальником Тайной канцелярии был человек, близкий к графу Самойлову.
«Ему (Макарову. – Я. Г.) известно было о дарованном мне прощении, о взятии же меня в другой раз он только что узнал, что по приказанию государя отправлен был дежурный во дворце фельдъегерь и причина отсутствия его покрыта тайною».
Неосведомленность Макарова, непосредственно подчиненного Лопухину, сомнительна. «Дорогобужское дело» было громким. Финальное расследование производилось именно в Тайной канцелярии под надзором генерал-прокурора, и калужское продолжение дела, столь близко известное Лопухину, вряд ли прошло мимо Макарова.
«Объяснения мои изложил я на бумаге; их поправил Макаров, конечно не прельщенный слогом моим, которого не смягчало чувство правоты, несправедливого преследования и заточения в каземате. Я переписал их и возвратился в прежнее место».
Здесь опять-таки сработал уже упомянутый синдром неверия в сохранность и обнародование документов. Далее Алексей Петрович со свойственной ему выразительностью рисует мрачную картину своего пребывания в каземате: «Из убийственной тюрьмы я с радостью готов был в Сибирь. В равелине ничего не происходит подобного описываемым ужасом инквизиции, но, конечно, многое заимствовано из сего благодетельного и человеколюбивого установления. Спокойствие ограждается могильною тишиною, совершенным безмолвием двух недремлющих сторожей, почти неразлучных. Охранение здоровья заключается в постоянной заботливости не обременять желудка ни лакомством пищи, ни излишним его количеством. Жилища освещаются неугасимою сальною свечою, опущенною в жестяную с водою трубкою. Различный бой барабана при утренней и вечерней заре служит исчислением времени; но когда бывает он недовольно внятным, поверка производится в коридоре, который освещен дневным светом и солнцем, не знакомыми в преисподней».
Это, безусловно, было написано человеком, побывавшим в равелине и прочувствовавшим убийственные подробности существования узника. Выдумать все это или описать с чужих слов – невозможно.
Непосредственность и силу впечатления от пребывания Алексея Петровича в каземате подтверждает и позднейший рассказ его Денису Давыдову: «Ермолова повезли на время в Петропавловскую крепость, где заперли в каземат, находящийся под водою в Алексеевском равелине. Комната, в которую он был заключен под именем преступника № 9, имела шесть шагов в поперечнике и печку, издававшую сильный смрад во время топки; комната эта освещалась одним сальным огарком, которого треск, вследствие большой сырости, громко раздавался, и стены ее от действия сильных морозов были покрыты плесенью. Наблюдение за заключенным было поручено Сенатского полка штабс-капитану Иглину и двум часовым, неотлучно находившимся в комнате».
Приведенные подробности делают рассказ абсолютно правдоподобным. Вопрос только в том – сколько же времени он там пробыл.
Когда речь идет о корректировке Ермоловым реальных событий, выстраивании того, что называется автобиографическим мифом, не надо воспринимать это как обвинение в преднамеренном обмане потомков и современников. Надо учитывать отношение к жанру мемуаров у людей того типа, к которому принадлежал Ермолов. С подобным явлением мы, например, часто встречаемся в мемуарах декабристов.
Задача мемуаристов этого типа – не воспроизвести буквально ход событий в его бытовой достоверности, но представить читателю модель судьбы человека, сознающего себя лицом историческим, выявить существо процесса, сформировавшего такую личность.
Вопрос о грани, отделяющей мемуары в точном смысле от художественно обработанной и выстроенной истории, – весьма непростой вопрос, особенно по отношению к людям XVIII – первой четверти XIX века.
Мемуары во все времена требуют осторожного и критического подхода, но нужно отличать корыстный обман от высокой задачи поучительного моделирования истории, создания новой реальности, отвечающей представлениям мемуариста о том, какдолжна была выглядеть эта реальность.
Ермолов так описывает отправление свое в Петербург: «Прошло не менее двух недель (от свидания с Линденером и освобождения. – Я. Г.), как исполненный чувств благодарности, прославляющий великодушие монарха Ермолов, призванный к своему шефу, получает приказание отправиться в Петербург с фельдъегерем, нарочно за ним присланным. Я не был отставлен от службы, не был выключен, ниже арестован, и объявлено, что государь желает меня видеть.
Без затруднения дано мне два дня на приуготовление к дороге; до отъезда не учреждено за мною никакого присмотра; прощаюсь со знакомыми в Несвиже и окрестности и отправляюсь».
Но судя по приведенной выше переписке официальных лиц, уже 18 декабря Ермолов сидел под «крепким караулом». Маловероятно, чтобы Эйлер столь дерзко обманывал высокое начальство и позволял возможному преступнику находиться безо всякого присмотра.
Далее из рапорта Эйлера следует, что, получив в семь часов вечера 31 декабря предписание отправить арестанта в столицу, он выполнил это немедленно. Для того чтобы по указанию Лопухина дать арестанту возможность соответственно одеться и взять с собой белье, много времени не понадобилось.
Стало быть, «два дня на приуготовление к дороге» вызывают сомнения.
Лопухин отправил курьера к Эйлеру из Петербурга в Несвиж 26 декабря. Эйлер получил предписание вечером 31 декабря. Если он – по его утверждению – тут же отправил Ермолова с курьером, то они должны были прибыть в столицу через те же четыре дня на пятый, то есть не позднее 5 января. Хотя возможно, что Лопухин, написавший письмо Эйлеру, отправил курьера не сразу. Тогда все сроки сокращаются, но не более чем на один-два дня.
Вскоре по приезде Ермолов был заключен в каземат, допрошен расположенным к нему Макаровым. В результате этого стремительного следствия Алексею Петровичу инкриминировано было только его письмо Каховскому.
7 января Лопухин докладывал императору дело Ермолова, скорее всего не обременяя Павла ни текстом письма, ни вполне проницательными комментариями к нему Линденера.
Доклад состоял в следующем: «Генерал-лейтенант Линденер, отыскав в деревне Каховского бумаги и в числе их к Каховскому письмо артиллерийского Эйлера баталиона от подполковника Ермолова с дерзновенными выражениями, представил с оных к Вашему Императорскому Величеству копии, а Ермолова от команды требовал к следствию в Калугу. Вашему Величеству по тем бумагам благоугодно было предписать генерал-лейтенанту Линденеру дело сие уничтожить, что он, исполня, донес Вашему Величеству и меня уведомил. Между тем Ермолов, по первому его требованию, отправлен в Калугу, где уничтожением дела, получив свободу, отпущен был к должности. А как об отправлении его туда Ваше Императорское Величество изволили получить от генерал-лейтенанта Эйлера донесение, то по сему высочайше мне повелели того Ермолова от Линденера взять сюда; вследствие чего он ныне от Эйлера паки арестован и прислан сюда. Здесь в учиненной им дерзости раскаиваясь с сокрушением сердца, объявляет, что писал письмо к брату своему Каховскому 1797-го года в мае месяце без всякого, впрочем, основания, единственно по безрассудной молодости и ветрености. И как от Линденера уничтожением дела объявлено ему уже Высочайшее Вашего Императорского Величества прощение, то всеподданнейше и теперь просит продолжать дарованное милосердие.
Представя на благоусмотрение Вашего Императорского Величества объяснение Ермолова, испрашиваю дальнейшего о нем повеления».
Письмо, представленное императору, мало напоминает послание, написанное «слогом <…> которого не мягчило чувство правоты, несправедливого преследования и заточения в каземате». Это конечно же вариант опытного Макарова.
«По спросу о письме на имя брата моего Каховского в 1797-м году в мае покорно объясняю, что оное точно писал я и признаю произведением безрассудной моей дерзости и минутного на то время отсутствия разума, повергнувшего меня в таковое преступление, кое выше всякого снисхождения и нет жестокого наказания, коего бы я не заслужил и не почитал справедливым. Но, с другой стороны, смею донести, что сие письмо одно только есть, какое писал я к моему брату и кое с деяниями моими по службе не имело никакого сходства, ибо оную всегда выполнял со всевозможным усердием и рвением и начальству повиновался беспрекословно, в чем смею на всех моих начальников сослаться. В следствие сообщения генерал-лейтенанта Линденера к шефу моему, господину Эйлеру, по Высочайшему Его Императорского Величества повелению был я арестован и бумаги мои без изъятия все по строгом обычае взяты, в коих ничего противного и дерзкого не найдено, что все подтверждает истину мною вышесказанного, что переписки с братом я уже не имел и преступления брата моего от меня совершенно сокровенны. По милосердию Его Императорского Величества Всемилостивейшее и без сомнения по презрению оной глупости моей объявлено было мне Всемилостивейшее прощение и отправлен был к должности моей, но в Несвиже паки шефом господином Эйлером арестован и прислан сюда. Я не могу вновь никакого открытия сделать, как повторить мою вышесказанную вину и всеподданнейше прошу продолжить дарование Высочайшего милосердия, обещаю заслужить оное ревностию к службе, в которой жертвовать всегда готов жизнию.
От артиллерии подполковника и кавалера Ермолова».
Денис Давыдов предлагает свою, надо полагать – со слов Ермолова, версию: «По совету Макарова Ермолов написал на имя государя письмо, которое, будучи сообща исправлено, было им переписано начисто. Хотя оно было несколько раз прочитано и по возможности исправлено, но от внимания сочинителя и читателей ускользнуло одно выражение, которое, возбудив гнев Павла, имело для Ермолова самые плачевные последствия. В начале письма находилось следующее: „Чем мог я заслужить гнев моего государя?“ Прочитав письмо, государь приказал вновь заключить Ермолова в Алексеевский равелин, где он уже оставался около трех месяцев».
Но подобной фразы в письме нет: оно выдержано в классическом покаянном стиле тех времен. Однако Ермолову, как и следовавшему за ним Давыдову, важно было воссоздать тот образ молодого героя, который соответствовал бы общим представлениям о зрелом Ермолове, строптивом и высокомерном прославленном генерале, никому не позволявшем посягать на свое достоинство…
По свидетельствам Ермолова и Давыдова получается, что Ермолов провел в Алексеевском равелине около четырех месяцев – три недели до допроса и три месяца после доклада Лопухина Павлу.
Между тем имеется документ, который принципиально меняет картину.
Это указание императора генерал-прокурору:
«Господин действительный тайный советник и генерал-прокурор Лопухин. Артиллерии Эйлера баталиона подполковника Ермолова за дерзновенные в письмах выражения повелеваю, исключа из службы, отослать на вечное житье в Кострому и предписав тамошнему губернатору, чтобы имел за поведением его наистрожайшее наблюдение.
Пребываем вам благосклонны.
На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
Павел.
Генваря 8 дня 1799 года в С.п. бурге».
Павел решил судьбу Ермолова на следующий день после доклада Лопухина, который, судя по явной проермоловской направленности доклада, рассчитывал на иной результат.
Очевидно, генерал-прокурор каким-то образом отсек императора от аналитических примечаний Линденера к ермоловскому письму, между тем комментарии Линденера были достаточно выразительны: «Дерзкая критика к оскорблению Величества, возмущая притом к нарушению спокойствия и тишины»; «Наименование Бутова тож значит, что и выше явствует к оскорблению Величества». И так далее.
И далее – известный уже нам вывод: «Сей Ермолов артиллерии подполковник, имевший с Каховским родство и особливую в презрительных делах связь».
Его организационная принадлежность к «канальскому цеху» явно подтверждалась наличием «конспиративной» клички – Еропкин. Останься Ермолов в руках Линденера, дело вряд ли обошлось бы ссылкой в уютную Кострому. Но в связи с этим комплексом документов встает вопрос – сколько же времени провел Ермолов в каземате?
В начале января он доставлен в Петербург. 8 января Павел определил его судьбу. В тот же день Лопухин пишет костромскому губернатору Кочетову:
«Милостивый государь мой Николай Иванович!
Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил подполковника Ермолова за известное Его Императорскому Величеству преступление, исключа из службы, отослать на вечное житье в Кострому, где за его поведением чинить наистрожайшее наблюдение. Сообщая вашему превосходительству к непременному и неукоснительному со стороны вашей исполнению объявленного Высочайшего повеления, препровождаю при сем означенного Ермолова, с тем, чтобы за перепискою его иметь смотрение и меня о том каждомесячно уведомлять».
Ермолов был отправлен в тот же или на следующий день – реакция Кочетова была скорой:
«Секретно.
Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь Петр Васильевич!
Сего числа имел я честь получить с сенатским курьером секретное предписание Вашего Высокопревосходительства от 8-го генваря, при котором прислан по Его Высочайшему Императорского Величества соизволению исключенный из службы за известное Его Величеству преступление подполковник Ермолов в здешний город на вечное житье; и вследствие Высокомонаршей воли изображенной в предписании Вашего Высокопревосходительства долгом себе поставлю чинить точное и неупустительное исполнение и уведомлять каждомесячно Ваше Высокопревосходительство о пребывании помянутого Ермолова. О чем донеся, пребуду всегда с истинным высокопочитанием и совершенною преданностию
Вашего Высокопревосходительства Милостивого Государя всепокорный слуга
Николай Кочетов.
Генваря 12 дня 1799 года в Костроме».
Стало быть, Ермолов пробыл в Петербурге меньше недели и 12-го числа был уже в Костроме.
Времени на «без малого четырехмесячное сидение в равелине» категорически не остается.
Все было: и мрачный промозглый сумрак каземата, и чадящая свеча, и дымящая угарная печь, и гробовое молчание мира вокруг, и ужас перед возможностью провести в этом страшном пространстве годы и годы…
Все это секретный арестант испытал за несколько дней. И на впечатлительную натуру молодого Ермолова, ошеломленного ужасающим поворотом судьбы, эти несколько дней произвели незабываемо тяжкое впечатление.
Он на всю жизнь понял, что может грозить строптивцу, если он перешагнет некую черту…
Судя по мучительной подробности описания каземата, сделанного через много лет, этот дремлющий ужас был с ним всегда.
Остальное было все тем же автобиографическим мифом, призванным трагически укрупнить события.
В двух направлениях Ермолов-мемуарист модифицировал реальность. Во-первых, как уже говорилось, он старался изобразить горькую для него реальность более благостной и по отношению к нему уважительной, а во-вторых, хотел все же предстать перед потомками и поздними современниками рыцарем, отстаивающим свое достоинство, невинной, но гордой жертвой павловской тирании.
10
Ермолов вспоминал:
«По прибытии в Кострому мне объявлено назначение вечного пребывания в губернии по известному собственно государю императору преступлению. По счастию моему при губернаторе находился сын его, с которым в молодости моей учились мы вместе. По убеждению его он донес генерал-прокурору, что находит нужным оставить меня под собственным надзором для строжайшего наблюдения за моим поведением, и мне назначено было жить в Костроме».
Здесь мы сталкиваемся с очередной странностью. С одной стороны, Алексей Петрович уснащает свой рассказ вполне правдоподобными подробностями о вмешательстве бывшего соученика, губернаторского сына, с другой – в имеющихся документах версия ссылки в губернию подтверждения не находит. Приказ Павла о ссылке именно в Кострому – недвусмысленен. Отношение губернатора Кочетова к генерал-прокурору подтверждает: Ермолов прислан был для «вечного житья» в Костроме. И никакого послания к генерал-прокурору, о котором говорит Ермолов, в деле нет.
Ермолов лаконично, но вполне содержательно описал свою жизнь в Костроме:
«Некоторое время жил я в доме губернского прокурора Новикова, человека отлично доброго и благороднейших свойств, и вскоре вместе войска Донского с генерал-майором Платовым, впоследствии знаменитым войсковым атаманом, которому по воле императора назначена так же Кострома местопребыванием. Полтора года продолжалось мое пребывание; жители города оказывали мне великодушное расположение, не находя в свойствах моих, ни в образе поведения ничего обнаруживающего преступника. Я возвратился к изучению латинского языка, упражнялся в переводе лучших авторов, и время протекло почти неприметно, почти не омрачая веселости моей».
Относительно веселости, конечно, можно и усомниться. Прозябание в Костроме могло стать если не вечным, то многолетним.
Что до изучения латыни, то это важнейший психологический момент.
Ермолов всецело принадлежал к культуре, ориентированной на античные образцы. В его детстве это был Плутарх; можно смело предположить, что в жизнеописаниях Плутарха его более всего влекли истории удачливых полководцев. Денис Давыдов свидетельствует и в данном случае вполне основательно:
«Ермолов, воспользовавшись своим заточением, приобрел большие сведения в военных и исторических науках: он также выучился весьма основательно латинскому языку у соборного протоиерея и ключаря Егора Арсеньевича Груздева, которого будил ежедневно рано словами: „Пора, батюшка, вставать: Тит Ливий нас давно уже ждет“».
Через некоторое время он мог читать в подлиннике Тита Ливия, Тацита и Юлия Цезаря.
Литература на латыни, которую мог читать и переводить Ермолов, была обширна. Но он выбирает именно этих авторов. И вполне понятно почему.
Но прежде чем рассмотреть отношения его с античными авторами, надо представить себе его действительное настроение.
Он остался один. «Старшие братья» и общие их друзья по «канальскому цеху» были в крепостях и сибирских ссылках. Многочисленные приятели прекратили с ним отношения, опасаясь компрометации.
Верен ему оказался только Казадаев, письма к которому и дают нам картину, адекватную реальности. Как выяснилось в этот трагический момент, его клятвы в вечной дружбе не были пустой риторикой.
Как только возобновилась переписка между ними, Алексей Петрович счел необходимым представить другу свой вариант происшедшего.
Письма Ермолова своему другу из Костромы тщательно хранились в семье Казадаевых и уже в конце XIX века сын Александра Васильевича передал их Николаю Дубровину, когда тот писал краткую биографию Ермолова докавказского периода. Дубровин использовал несколько фрагментов. Теперь письма хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки [16].
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Долгое молчание мое, думаю я, заставило тебя заглянуть в приказы, дабы усмотреть, не случилось ли со мной чего неприятного? Итак, я полагаю, что ты извещен, что я исключен из службы. Так, любезнейший друг, пал жребий судьбы на меня, и в моей воле осталось лишь терпеливо сносить ее жестокость. Я тебе скажу причину несчастия моего: ты знал брата моего, он впал в какое-то преступление, трудно верить мне, как брату его, но я самим Богом свидетельствую, что о преступлении его мне неизвестно. Бумаги его были взяты и в том числе найдено и мое одно письмо, два года назад писанное, признаюсь, что мерзкое несколько, но злоумышления и коварства в себе не скрывающее. Я был взят к ответу в Калугу к генералу Линденеру, и пока ехал я туда или, лучше сказать, везли меня туда, был я уже в продолжение того времени прощен и Линденером возвращена была мне шпага и объявлено Всемилостивейшее Государя прощение. Итак, я обратно прибыл к баталиону, питая в душе моей чистейшие чувства благодарности к нашему Монарху. Но недолго, любезный друг, был я счастлив. В другой раз за мною прислан курьер и я отправился в Петербург, однако же имея добрую надежду, ибо я ни арестован, ни выключен не был и льстился счастием быть представлен Государю. Не таковы были следствия моей надежды, я вместо быть представлен Государю посажен был в Петропавловскую крепость, а оттуда препровожден в Кострому, где полгода живу».
И дальше начинается собственно деловая, так сказать, часть письма:
«Нет, любезнейший Александр Васильевич, покровителей, которые бы могли облегчить мою участь, все средства вдруг пресеклись с моим благополучием, всему для меня конец, отдален от родных моих, лишился брата, коего не только участь для меня сокрыта, но самое место пребывания его неизвестно.
Любезнейший друг, ты столь хорошо был ко мне расположен, писал ко мне в Польшу, чтобы я назначил, чем одолжить меня. Вот случай не только одолжить меня, но и счастие мое составить. Ты средства делать добро не лишен, имеешь добрую душу, некогда называл меня своим приятелем, теперь уже состояния наши весьма разные, тем великодушнее будет с твоей стороны помочь мне в моем несчастии. Приведи на память те старания, которые употреблял я, чтобы оказать тебе мои услуги, то расположение, которым тщился доказать мою приверженность, но все сие не может сравниться с тем, что ты в состоянии мне сделать. Я жду возможного. Если и в сем случае я столько несчастлив, что по средствам твоим ничего получить невозможно сделать, по крайней мере через подателя сего Ивана Николаевича г-на Назарова, моего хорошего приятеля, сделай милость – отвечай мне. Ты же в состоянии вообразить себе, какое мне доставит сие удовольствие, тем еще более, что все меня оставили, к кому ни пишу, никто не отвечает. Вот, любезный друг, состояние человека, некогда бывшего счастливым. Теперь и само здоровье от чрезвычайной скорби ослабевает, исчезают способности, существование меня отягощает, лишь обязанность к родным моим обращает меня к должности христианина. Живу я здесь совершенно как монах, отдален от общества, питая скорбь мою в уединении, о упражнениях скажет тебе подробно приятель мой.
Вот, любезнейший друг, краткое начертание моего положения. Долго было бы описывать подробности для чувствительности твоей поразительные.
Впрочем, пожелаю тебе от чистого сердца всевозможных благ, пребуду навсегда с непременною и совершеннейшею приверженностию.
Покорный слуга Алексей Ермолов.
1799 года 9-го июля, Кострома».
Разумеется, можно предположить, что желая внушить другу ясное представление об ужасном положении и настроении своем (намек на тягу к самоубийству), Ермолов значительно повысил градус своего отчаяния по сравнению с реальностью. В конце концов, он не сидел в крепостном каземате, как Каховский и Бухаров, не прозябал в бесконечно далеком суровом Тобольске, как другие «старшие братья». Он жил в уютной Костроме, ничем не регламентированный в своих занятиях. Он сам писал потом, что «жители города оказывали мне великодушное расположение»; большую часть ссылки он жил вместе с Платовым, с которым сдружился, к нему расположен был губернатор, у него, как мы видим из писем Казадаеву, появились новые приятели, которым он доверял.
Вариант ссылки, казалось бы, вполне щадящий.
Но мы должны понимать, с кем имеем дело. То, что другому представлялось бы приемлемым, Ермолова вполне могло ввергнуть в отчаяние.
Надо помнить генеральную, с юности, жизненную установку нашего героя: «вперед и выше».
По его собственному утверждению, в данном случае вполне основательному, его тяжко угнетало ощущение упущенных возможностей. Мечты о славе и великих свершениях, которые еще недавно были основным содержанием его внутренней жизни, теперь становились вполне беспочвенными. «Судьба, не благоприятствующая мне, – писал он в воспоминаниях, – возбуждала сетования мои в одном только случае – когда вспоминал я, что баталион артиллерийский, к которому я принадлежал, находился в Италии, в армии, предводимой славным Суворовым, что товарищи мои участвуют в незабвенных подвигах непобедимой нашей армии. В чине подполковника был я в царствование Екатерины, имел орден св. Георгия и св. Владимира. Многим Суворов открыл быструю карьеру: неужели бы укрылись бы от него добрая воля, кипящая пламенная решимость, не знавшая тогда опасностей?»
Формула «на вечное житье» могла оказаться формулой его судьбы. В 1799 году вряд ли кто рассчитывал на скорое окончание павловской эры. Каждый упущенный год отдалял его от великой цели. Другие совершали подвиги, получали ордена и чины, а он оставался далеко позади, понимая, что наверстать упущенное может оказаться невозможным, даже если житье в Костроме окажется не вечным, но длительным.
Он писал чистую правду, утверждая, что наиболее мучительным для него был именно военный фон его костромского сидения. Он следил по газетам, которые исправно приходили в Кострому, за международными событиями. А кроме суворовских побед в Италии и тяжкого, но героического отступления из Швейцарии – знаменитый переход через Альпы, генерал Бонапарт, еще недавно артиллерийский лейтенант, завоевывал Египет…
Многие вчерашние друзья и приятели Ермолова и в самом деле сочли за благо не компрометировать себя перепиской с опальным. Но кроме верного Казадаева через полтора года после прибытия в Кострому у него появился и еще один корреспондент – тот самый его сослуживец поручик Огранович, который сопровождал его в Калугу после первого ареста. Причина длительного молчания Ограновича была вполне уважительна – он участвовал в Итальянском походе Суворова.
Ермолов писал:
«Любезный друг Иван Григорьевич!
Не в состоянии изобразить я тебе, какое удовольствие доставило мне письмо твое, но только смею уверить, что чувства благодарности с моей стороны были соразмерны оному. И не усомнись, в полной цене принимаю сие одолжение, радуясь при том, что ты окончил поход столь трудный благополучно. Весьма лестно быть участником тех побед, которые навсегда принесут вам много чести, доставя сверх того опытность, нужную достойным офицерам, каковы все те, коим некогда имел я счастие быть сотоварищем. Не думай, чтоб лесть извлекала сии приветствия, но верь, что они истинные чувства того, кто за счастие поставляет иметь многих из вас приятелями.
Я, благодаря Всевышнего, живу спокойно, уединенно; счастлив тем, что и здесь многие обо мне хорошо разумеют. Время хотя и медленно течет для несчастных, но разными упражнениями я сколь возможно его сокращаю; может быть сие и не долго продлится, ибо в милостях государя отчаиваться неблагоразумно, когда многие видим тому примеры».