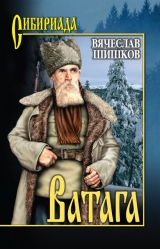
Текст книги "Ватага (сборник)"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Глава XVIII
Когда выбрались на дорогу, наступила ночь, звездная, весенняя, в сыпучем золотом песке.
– Там келья для тебя, место скрытное. Не опасайся.
Та же ночь висела и над городком, над заимкой Зыкова, над всей землей.
И попадья впервые в эту ночь решилась признаться мужу:
– А ведь я, отец, понесла…
– Ну? – И отец Петр радостно перекрестился.
– Уж три месяца, отец.
Батюшка встал, благословил утробу супруги своея и в одном белье опустился перед образом на колени. Молитва его была не горяча, а пламенна: ведь так ему хотелось иметь второе чадо. Девять лет пустовало чрево жены его, и на десятый год разрешено бысть от неплодия. Боже, Боже…
Матушка слушала слова молитвы и не слыхала их. И в эту минуту особенно остро встал перед ней вопрос: чье же дитя зреет у нее под сердцем? За упокой души раба Божия новопреставленного Феодора она молиться будет обязательно, а вот другой раб Божий помер или жив?
Настя тоже три месяца как понесла, но об этом – ни гу-гу. Господи, хоть бы муж не возвращался, Господи… Убьет. Настя, как и попадья, тоже не знала, чье дитя зреет у нее под сердцем. Придушить его, родненького, маленького или оставить – пускай живет.
А ночь шла, катились звезды, золотой песок дрожал вверху и сыпался на землю.
Зыков вскидывал к небу глаза, золотые песчинки залетали в сердце, и так хорошо было сердцу в этот миг. Зыкова охватило свежее, небывалое, такое непонятное чувство. Он пытал побороть себя и не хотелось бороться. Он дышал порывисто, закусывал губы, крякал, но у сердца свои законы, и даже чугунное сердце не в силах превозмочь вдруг вздыбившейся любви. Зыков дрожал, и в его сильных руках дрожала Таня.
Белый конь ступал тяжело, как литая сталь. Сзади серой мышью тащилась пустая кляча.
Таня прижималась к Зыкову. Он целовал ее в лоб, в глаза. Оба молчали, и все молчало кругом: горы, леса, златозвездная ночь, только бессонная речонка, разрывая о камни бегучую грудь свою, стонала в горах, плакала, кого-то кляла.
И настроение Зыкова быстро сменилось, короткие сладостные порывы уступили место гнетущему отчаянию. Страшное известие Тани хлестнуло по его душе, как по одинокому кедру ураган, корни лопнули, Зыков оторвался от земли, и вот жизнь его вдруг вся покривилась, покачнулась, падает, словно подрубленная колокольня. Как? Неужели его колокол отзвонил, и навеки умолкла труба горниста?
Может быть, вырвать из сердца занозу – будет больно, ну, что ж? – Зыков начнет все снова… эх, придушить девчонку, что дрожит в его руках… Черт ли, девка ли, может, волшебница с притворным зельем – раз и навсегда!
А что же дальше? Нет, не в девчонке дело, не здесь застряла окаянная, трижды проклятая судьба его.
Внутренним взглядом он озирается назад. Там, в туманных прошлых днях – крепкий царев острог. За правду, за веру, за смелые слова, по сыску попов и начальства гоняли его, как собаку, из тюрьмы в тюрьму. А кончил высидку – по Руси бродяжил, по Сибири, узнавал людей. «Эх, с этим бы народом, да раскачку. Уж и грохнул бы я ручищей по земле!» Потом подошла война, и за войной – пых-трах: вздыбил народ – мятеж, огонь и буря.
И вот Зыков снова родился в мятежной буре и услыхал в своей душе приказ: «Встань на защиту рабов, борись за правду, а правда и Бог одно – борись за Бога». Как осколок корабля он был выброшен бурей на скалу. И с вершины скалы раздался его призывный смелый клич: «Кто, простой люд, за обиженных? Кто за правду?.. Эй, братья! Все ко мне!»
Зыков думал – нет правды без Бога, и Бог без правды мертв есть. И как думал, так и делал: за старого Бога, за правду, за угнетенный люд! Он все бросил, все спалил, что было назади, обрек себя на страшный бой, и карающий меч его не боялся крови. За Бога, за новую правду! Буря и кровь, и огонь, не страшно, не грех – так надо. Бурей носился по Алтаю Зыков, старый отец бросил ему: – Назад! Богоотступник! – Смерть отцу! И вот отец убит.
Все, все принес Зыков в жертву новой правде: жену, богатство, даже отца убил. А дальше?
Дальше – ночь, горы, звезды, и дорога пошла в подъем.
В нем все дрожит и мутится. Там, у пропасти, куда хотела броситься Таня, Зыков узнал от нее, что красные ищут арестовать и убить его. О, Зыкова не так-то легко поймать. Пусть попробуют. Но за что, за что? За то, что он осквернил революцию своим разгулом в городе, уничтожил казенное добро, разграбил склады, казнил многих невинных по гнусному доносу, без суда. Враки! Суд был, все решалось на улице! Но Таня не виновата, она, переряженная парнем, так подслушала возле Зыковской заимки, у костра.
В Зыкове все дрожит и мутится. Конь напрягает мускулы, дорога идет в подъем, но душа Зыкова неудержимо лезет в преисподнюю.
– Танюха, голубонька моя, – начинает он тихо и не может, не знает, какие надо говорить слова. – Приедем, я тебе буду сказывать сказки. Я знаю занятную сказку про славного вора и разбойника Ваньку Каина.
– Ты сам – сказка.
– Я – черт.
– Ты для меня Бог.
– Пошто этакое святое слово вспоминаешь?.. Я совсем сшибся с панталыку, округовел. И сам не знаю теперича, кто я.
Таня прижалась правой щекой к его груди, и, когда Зыков говорит, его грудь гудит и ухает, как соборный колокол. Тане тепло возле большого сильного тела, Тане беззаботно, радостно: Зыков с ней. И не жаль ей ни мать, ни сестру, ни дядю.
Долго Зыков говорит, потом едут в молчании – Таня дремлет. Он что-то спросил, в голосе надрыв, тревога; Таня поймала сердцем, открыла глаза, думает, как ответить.
– У них своя вера, земная… – говорит она.
– Так, так…
– Когда я училась в губернском городе в гимназии… Недолго я училась, три зимы всего… А брат мой Николенька был техник. Пропал куда-то он. Как настала революция – ни словечка не писал нам. Ну, вот. А жили мы с ним вместе. Студенты к нам захаживали, революционерами считали себя, сходки там, выпивка, запрещенные песни. Что говорили, не помню ничего, да и не понимала тогда. Только хорошо помню, что Бога они не признавали. Бабьи сказки, мол, чушь. Вот также и большевики…
– Ну? Неужто? – Грудь Зыкова загудела, и загудели горы.
– Это – ничего… У них своя религия… Своя правда. Всяк по своей правде должен жить.
– Угу, – сказал Зыков, и горы сказали «угу». Зыков добавил: – У них своя правда, у меня своя. Лоб в лоб друг другу смотрим, а хвостами врозь.
Мускулы лица его судорожно играли, меж сдвинутых бровей углубилась складка, он тяжело вздохнул, присвистнул и ударил коня.
Небо бледнело, звезды скрывались вместе с тьмой. Неуверенно пропорхнула полуночная птица. Где-то вдали кричал марал, и крик его, как мяч, перебрасывался от горы к горе.
Зыков понял, что все для него кончено теперь. Значит, прав подосланный перевертень, рябой кержачишка, – для новой власти Бога нет. Ага!
И неожиданно:
– А ты, Танюха, боишься смерти?
Таня не сразу поняла.
– Боюсь, – передохнув, сказала она и еще сказала: – При тебе нет.
Он опять роняет: «Угу» и долго едут молча.
Он, в сущности, не молчит, он в молчании спорит сам с собой, задает вопросы, соглашается, молча опровергает себя, иногда громко восклицает:
– О, черт!
Тогда Таня открывает глаза, ей очень захотелось перед утром спать, она так за последние дни истомилась.
И на главный вопрос свой Зыков никак не может подыскать ответа. Сначала, с прошлого года, было так просто и ясно все: он бил белых, бил чехословаков, мстил попам, богачам и власть имущим, он стоял за правду. Он чуял и знал, что оттуда, из-за Уральских гор, идет и придет сюда сильная рать, с той же самой, с его, Зыковской, правдой. Вот рать пришла и принесла с собою свою, новую, не Зыковскую правду. Да разве две на свете правды? Нет, вся правда у Зыкова, потому что он с Богом, те же – без Бога, и в их делах, в их сердце – ложь. Так или не так? Кто даст ответ ему?
Он не верит сам себе, и его душу раздирает смертельная тоска.
А дорога подошла к отвесной скале, и отсюда по узкому карнизу-бому будет идти версты две над страшной бездной.
– Танюха, лебедка белая, – ласково говорит он, – а ведь тебе на свою клячонку придется сесть.
– Боюсь. Не езживала по бомам.
– Как же быть?
И горы спросили: «Как же быть?». В горах тишина, горы жадны до звуков, горы, как попугаи, любят поболтать с людьми.
В темных кручах под ногами белел туман, из ущелий, из падей между гор тоже гляделись зыбкие облака тумана. Наступал рассвет, небо полиняло, защурилось. Было очень свежо, в каменных выбоинах замерзли лужи, и бесчисленные хрустальные зеркала поглядывали холодом на Таню.
– Я озябла, – сказала она, передернув худенькими плечами.
– Греться некогда, – сказал Зыков. – Вот встанет солнце, обогреет. Кровь у тебя, как горячая брага хмельная, ничего. Так и быть, поедем на одном коне, только я впереди, а ты позади меня, верхом, сиди прямо в струнку, держись за мой кушак, гляди в спину, вниз не гляди, с непривычки страшно, голову обнесет. Дорога убойная. Вишь, какая дорога? Ну, с Богом.
Он старался говорить уверенно, ободряюще. Когда двинулись, добавил:
– Ничего… Не бойся.
Но Таня вдруг забоялась, ей стало страшно от голоса Зыкова, ей сердце вдруг сказало: берегись!
Да, в голосе Зыкова притаилось что-то, как в чулане вор. Он решил кончить все разом. Он все принес в жертву, отца убил, но что же оказалось на поверку? Партизаны, друзья, все, все оставили его, и правда его – не правда. Значит, довольно жить. И это будет незаметно, будет сразу, Таня не успеет испугаться.
– А ежели, деваха, я умру?.. Вот нечаянно с седла ежели сорвусь. А? Да в пропасть… А?
– Ой, молчи ты, – прозвенело за спиной с мучительной болью. – Лучше я… Зыков, миленький…
– Ты молодая, будешь жить… Мое дело кончено…
– Умирать так вместе.
– Ты с ума сошла, деваха!..
– Аха!.. – раскатились горы.
Стало светло в горах, и небо на востоке порозовело.
Таня повернула голову влево. В аршине от ее глаз медленно двигалась серая стена ребристого с опрокинутыми слоями сланца. Кой-где в расщелинах кустики травы, кой-где мох, вот зеленая ящерица сидит на выступе, как игрушка, ждет солнечных лучей.
– Почему это у меня ноет сердце?.. Ужасно ноет, – помолчав, сказала с тревогой Таня.
– Скоро успокоится, – ответил он.
– Почему скоро?
Он молчал. Таня перестала дышать. Сердце ее захолонуло. Преодолев волнение, спросила сквозь испуг:
– Почему?
Зыков ответил дрожащим неверным голосом:
– Потому что… – и остановился. – Потому что взойдет солнышко.
Таня глубоко вздохнула и уперлась лбом в спину Зыкова.
Ей захотелось взглянуть в провалище, вправо, но страшно. Ах, как хочется взглянуть. Нельзя, надо, нельзя, нет надо. Голова повернулась сама собой, глаза упали в бездну. Таня взвизгнула и мотнулась на седле.
– Защурься! – крикнул Зыков. – Самое опасное место скоро…
И вдруг заговорил как-то необычно торопливо и приподнято:
– Знаешь ты… Только сиди смирно, закрой глаза. Я расскажу тебе все, я покаюсь тебе… Меня томят грехи, дух мой в огне весь, на сердце мрак… Мне надо покаяться, очистить себя… Некому больше, как тебе… Слушай!
– Зыков, что ты…
– Молчи, слушай…
– Я боюсь… Страшно мне, Зыков…
– Слушай!.. Сиди смирно… Закрой глаза…
Они были на страшной высоте. Узкая тропа опоясывала почти отвесный склон скалы, как карниз. Конь выбирал, куда ступить. Конь дрожал. Основание скалы скрыто от взора. В пропасти белым жгутом изогнулась речка, она внизу сотрясает камни, грохочет, но сюда не долетает ее рев. Не надо глядеть вниз… Зыков поднял глаза к небу. Конь, всхрапывая, осторожно шел вперед. Зыков бросил поводья.
– Слушай! На моей душе много крови, может, невинной… Слушай, никому не говорил, тебе скажу: я своего отца убил, старца святого, Варфоломея… Да, да… А твоего я не убивал, твоего убили мои.
У Тани глаза широко открыты, открыт рот, и уж ей не страшна бездна, она забыла про опасность, ее страшит иное.
– Степанушка, Степанушка, голубчик!.. Как мне жаль тебя.
– Правда моя в крови, – Зыков говорил скорбно, с убеждением и страстью. – Грехи свои и людишек на мне, как камни. Боже, Господи! Неужели у тебя не найдется милости ко мне? Неужели нет мне спасения и пощады?
У Зыкова бегут слезы по обветренному носу, на бороду, на грудь. Таня тоже плачет, но не замечает слез.
– Слушай… Ведь не зря же я такой грех на душу взял… Ведь я не изверг, не тать, не убивец, я верный слуга Христов. И вот чую, все дело мое рушилось. Рушилось, девонька, рушилось… Чую, идет против меня сила, сильней меня. И у той силы другая правда… Ежели я прав, они меня сломят своей силой, а ежели правы они – сердцу моему прямая погибель, ведь от своей правды я не отступлюсь. Так стоит ли жить мне?.. Слышишь?
– Ты не любишь меня! Не любишь!..
– Люблю… Вот увидишь, не расстанусь с тобой… Люблю.
Вот оно, самое узкое место. Осторожный конь едва уставляет свои ноги на скользкой, точно отполированной, в аршин, тропе. Левые коленки всадников задевают выступы скалы, правые же, вместе с круторебрым боком коня, висят над пропастью. Конь трепещет. Он наваливается на скалу, боясь низринуться. Его копыта стучат по скользкому краю обрыва. Ах…
– Не любишь!..
– Сказал, люблю…
– Не любишь, не любишь, не любишь…
Солнце всходит, черное-черное, вот его лучи, они, как кинжалами, бьют в глаза и в сердце.
Зыков заносит левую руку, чтоб оттолкнуться от скалы… Ах… Тогда вмиг все трое, конь и всадники ухнут в бездну: смерть скорая, в крике, в грохоте, в движеньи.
Зыков весь похолодел.
– Прощай! – крикнул он, накрепко сомкнул глаза, и с силой оттолкнулся.
Все сразу ахнуло, рушилось, закувыркалось, горы скакали и крутились, грохотом раскатывался гром, под ногами то солнце с небом, то земля, то солнце, то земля – трах-трах-трах – вдруг искры, молчание и тьма.
… – О-о-ох… – надрывно выдохнул всей грудью Зыков и открыл глаза.
– Моченьки моей нет, рука не подымается… Любушка, любушка моя… Танюха.
– Степанушка, Степан Варфоломеич! Что с тобой?
Зыков широко перекрестился и вытер рукавом крупный на лице пот. Он весь дрожал и поводил плечами. Этот ярко представленный и пережитый им миг смерти разом испепелил в нем все отчаяние, всю душевную труху. Он – снова прежний – сильный, крепкий, как чугун.
Тропа повернула влево, в расселину, выбросилась на широкую площадку. Извиваясь меж огромных камней и маленьких, уродливых сосенок, она стала постепенно снижаться в лесистую долину.
– Ну, Танюха, будь что будет, а только перед Богом ты жена мне. Так полагаю, жизнь у меня настанет новая. А никакой власти я знать не хочу, ни советской, ни колчаковской. Я сам себе власть. В Монголию уйду, либо в Урянхай… И тебя с собой… Не отстанешь? Дело будет… Войско соберу. За правдой следить буду. Ха, поди, испугалась? Поди, зашлось сердчишко-то?
Таня смеялась звонко, плакала радостно, целовала Зыкова, смеялась и плакала вместе.
Солнце поднималось жаркое, и густые травы здесь были все в цветах.
Глава XIX
Дул небольшой ветерок, перешептывались сосны, день клонился к вечеру. Тереха Толстолобов сегодня не в духе: вырвавшийся из бани медвежонок задавил двух гусаков и перешиб собаке позвоночник, собака на передних лапах, волоча зад, уползла под амбар и там визжала дурью.
Тереха бил свою старую жену, а Степанида, вытаскивая из жаратка кринки, ухмылялась. Но вот она услыхала во дворе голос Зыкова, и ее бока вдруг тоже зачесались.
– Ладно, ладно, дружок Степанушка… – говорил у ворот Тереха, – ублаготворим, как след быть… И какой это тебя буйный ветер занес опять? Эй, Лукерья! Да не криви ты харю-то… Тьфу, бабья соль. Живо очищай горницу, с девками в амбаре поживете, не зима теперича…
Пред Степанидой стоял Зыков:
– Здорово, молодайка. Отбери-ка самолучшие наряды свои… Вы ростом одинаковы, кажись… Ты погрудастей только. Иди, оболоки ее… там, в лесочке она… Награжу опосля… Ну!..
Степанида сразу все поняла, румяное лицо ее побелело:
– Степан Варфоломеич… А я-то, я-то…
Но в это время вошел Тереха, крикнул:
– Поворачивайся живо, бабья соль!..
По двору бегали собаки. Сука под телегой кормила щенят. В трех скворешниках щелкали и высвистывали скворцы, их полированные перья сверкали на заходящем солнце.
Дно котловины, где заимка, покрывали густые вечерние тени гор. Прямо перед глазами спускался с облаков широкий желто-красный склон скалы, и, как седая грива, метался по склону далекий онемевший водопад. Лукерья с девками молча и деловито перетаскиваются в амбар. Кот, хвост кверху, ходит за ними взад-вперед. Под телегу по-офицерски пришагал петух, повертел красной бородой, что-то проговорил по-петушиному и клюнул сосавшего щенка в хвост.
Задами, чтоб не показываться людям, Таня со Степанидой прошли в баню. Воды немного, но на двоих хватит, да Степаниде и мыться неохота, разделась за компанию.
Таня все рассказала ей. Степанида разглядывала белую, стройную, стыдливую Таню:
– Ну, и сухопара ты, девка. Какая ж ты можешь быть жена ему, этакая тонконогая. Ты погляди-ка, какой он Еруслан… Ох, городские, городские… И все-то вы знаете… Поди, не спроста он прилип-то к тебе… Поди, зельем каким ни то из аптеки присушила…
Таня улыбалась. Горячая вода, белая мыльная пена действовали на нее успокоительно. Она тоже разглядывала Степаниду. Степанида крепкая, ядреная, как свежеиспеченный житный каравай, и пахнет от нее хлебом.
– А ты, должно быть, любишь Зыкова? – спросила Таня.
– Зыкова? Очень надо. У меня свой мужик, – раздраженно ответила баба, плеснув на каменку ковш воды. – Это вы, городские, с чужими мужиками путаетесь… Совесть-то у вас, как у цыгана… Да ты, девка, не сердись…
– Я не сержусь, – сказала Таня. – А про какую это Зыков Лукерью поминал?
– Ну, это так себе… Хозяину моему родня… – Степанида сердито захлесталась веником и, покрякивая, говорила: – А ты напрасно ему кинулась на шею… Для баб прямо злодей он, хуже его нет. Жену бросил, говорят. А мало ли девок через него загибло… И тебя бросит, а нет – убьет…
– От судьбы не уйдешь, – грустно сказала Таня, одеваясь и закручивая в тугой узел темные свои косы.
Тереха угощал их на славу. Тереха рад: Зыков теперь ему не страшен, и Степанидино сердце, Бог даст, образумится. Экая стерва эта Степашка, черт: все ж таки так и пялит глаза на Зыкова, а тот свою монашку по головке да по плечикам точеным гладит. А хороша монашка… Ну, и дьявол, этот самый Зыков.
– Кушай, Степан Варфоломеич, кушай, милячок… Татьяна, как тебя по батюшке, пригубь. Самосядка хорошая, что твой шпирт. Эх, справлять свадьбу, так справлять!.. Черт с ним…
Тереха с радости схватил двухстволку, выставил в окно, грянул сразу из двух стволов и заорал:
– Урра!! В честь новобрачных…
– Оставь, Тереха, не дури, – улыбался Зыков. – Какие новобрачные… Дай поженихаться-то.
– Ужо по грибы будем ходить, по ягоды! Хорошо, едрит твою в накопалки… Степан Варфоломеич, а ты брось свое разбойство-то… Давай работать вместях… Земли здесь сколь хошь. Ни один леший не узнает… А из твоих известна кому заимка-то моя? Ай нет?
– Никому, – сказал Зыков. – Был горбун один, Наперсток, да он теперь водичку в реке хлебает.
– Степан Варфоломеич не разбойник, – вступилась Таня.
– Нет, разбойник я… Это верно, – резко сказал Зыков и, не отрываясь, выпил стакан самогонки. – И ежели правды настоящей не увижу на земле, так разбойником и околею.
– Брось! – крикнул Тереха, и его рукава замотались в воздухе. – Правда твоя убойная. Тьфу такая правда!
– Эх, дружище, – сказал Зыков и похлопал его по плечу. – Ты в горах, как медведь в берлоге. Отсель и неба-то малый клок, с козью бороду видать. Не твоего ума дело это. Не уразуметь тебе. А я, брат, как с торбой по свету путался, таких людей встречал, что ах… Бывают люди, а бывают и мыслете. Понимаешь? Мыслете, горазд мыслят, значит… Они мир-то разумом своим, как столбами, подпирают. Вот у них поспрошай про правду-то… Ну, да бросим об этом толковать… Я и сам не рад, может. Силища прет из меня, как с горы водопад возле твоей заимки… Видал? Поди, останови… Так и я… А может, я родился таким горбатым. У Наперстка на спине горб, а у меня душа с горбом.
– А ты выпрямляйся, Степан Варфоломеич, – сердечно проговорила Таня. – Ведь говорил же ты, когда ехали с тобой.
– Ну, тогда мы в зубах у смерти были… – и Степан бережно обнял ее. – Эх, Танюха, пташечка залетная. Пускай сегодня время будет наше, без тоски, без дум, а там видно будет. Ничего… Зыков не пропадет… Ну, бросим это. А помнишь Ваньку Птаха? Песни его помнишь?..
– Не надо, миленький, не надо…
– Ну, ладно, ладно… А хорошо парнишка пел… Я заприметил тогда, как сердчишко-то твое девичье затрепыхало. Эх, песню бы…
Все были в полпьяна, всем весело, только пред взором Тани мимолетно проплыла страшная та городская ночь. Царство небесное парню-песеннику. Таня вздохнула тяжко, но Тереха уж выплыл на средину горницы, приурезал каблуками в пол и, скосоротившись, загорланил песню:
– И-иэх да и во-о-о-уух… ты…
Зыков нагнулся и поцеловал Таню в губы. Степанида ударила стаканом в стол, – стакан разлетелся, – опрокинула табуретку и быстро вышла в дверь.
– Стой, бабья соль!.. Куда?
За дверью послышался стон и плач.
Когда шли Таня с Зыковым к обрыву, ночь была вся в звездах: в темной вышине все так же дрожал и колыхался золотой песок. Внизу, под обрывом, белели заросли цветущей черемухи. Терпкий, духмяный запах подымался вверх. Наперебой и здесь, и там, в разных местах, заливались соловьи. Зыков развел большой костер. Они сидели в дремучем кедровнике. Землю густо покрывала хвоя. Оба молчали.
Он вдруг вытащил откуда-то Акулькину конфетку с кисточкой, засмеялся и подал Тане:
– Девчоночка одна дала… На-ка!.. Вот сгодилась когда…
– А какая ночь, Степан… Чу, соловьи… Ой, сколько их… И посмотри, как внизу черемуха цветет.
– Эту ночь не забудем, деваха, в жизнь.
– Если завтра умру – жалеть не буду. Больше этого счастья, что теперь, не испытать мне. Ах, какая радость любить тебя…
Соловьи пели всю ночь до утренней зари. И всю ночь плакала Степанида.
Пред рассветом Таня сказала, чуть согнувшись и глядя пред собою:
– Но почему же, Степа, милый, такая тоска? Сердце болит?
Пред рассветом Степанида пробралась сюда, в руках ее топор. У костра тишина. Зыков, должно быть, сказку сказывает, на его коленях разметалась Таня.
Топор в крепких руках Степаниды очень острый. Вот Степанида хлестнет, оглоушит Зыкова, девку искромсает: на! А сама бросится торчмя с обрыва. В ее глазах огненные круги и все, кроме тех двоих, куда-то исчезает. Она заносит топор и делает шаг вперед. Хрустнул сучок. Зыков обернулся. Она яростно швыряет топором в костер и с диким воем: «Дьяволы, погубители!» – как сумасшедшая, мчится прочь, в трущобу, в мрак.


