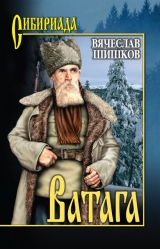
Текст книги "Ватага (сборник)"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
XII
Этим праздничным вечером бродяги подошли к кедровской поскотине. Невдалеке от нее, в самом лесу, на полянке стоял сруб. Он был доведен до половины и брошен, но и ему бродяги обрадовались: подымался холодный ветер.
Андрей-политик подумывал, не пойти ли ему в Кедровку, но, окинув еще раз брезгливым взглядом свои лохмотья и пощупав клочковатую отпущенную в тайге бороду, передумал. Завтра на заре он распрощается с бродягами и, минуя Кедровку, пойдет таежной тропой в Назимово. А вдруг Анна в Кедровке? Нет, время еще раннее, Анна должна прожить у Бородулина до сенокосной поры. Андрей очень утомился большим переходом: лишь прикорнул в углу на груде щеп – сразу же крепко заснул.
– До завтра… – шептал он, засыпая.
Костер ярко горит, варево поспело быстро, бродяги поели с удовольствием.
После ужина Антон забрался в самый дальний угол, положил на сруб согнутую руку, на руку голову и замер. Очень грустно ему стало, так сразу навалилась беспричинная тоска, обвила сердце и гнетет.
Ванька Свистопляс смешное рассказывает.
Тюля смеется по-особому: зажмурится сладко, сморщит нос, схватится за бока и, скривив толстогубый рот, безголосо захыкает.
– А черт ли на них смотреть, – говорит Ванька. – Жил я как-то на речке, на самом малиновом месте, бабы туда по малину ходили, а баб я пуще малины люблю. Баба по малину, я по бабу…
– Хх-хх-хх…
– Да. Лодчонка у меня была. У чалдона угнал. И вот, братец мой, какая история вышла. Сплю это я под елью, пообедал да прилег и чую – то ли наяву, то ли во снях – женски перекликаются. Вот хорошо, думаю. Гляжу: на той стороне малинник шевелится. Ага! Тут! Скок в лодку, гребу тихонько к берегу, думаю: выскочу сразу на берег да как зареву, напугаю всех, а одну бабенку прихвачу-таки.
– Хх-хх-хх… – хрипел Тюля.
– Да. Вот ладно. – Ванька воодушевился, привстал на колени и, представляя все в лицах, зашептал, словно боясь вспугнуть воображаемых ягодниц: – Вот ладно. А берег-то круто-о-ой да высоченный, еле вылез. И только, батюшка ты мой, я к мали-и-ннику, ну-ка, думаю, возгаркну, как следовает быть… кэ-эк медведица всплыла на дыбы да ко мне!.. Из меня и дух вон. Как я заблажу дурноматом да впереверт по откосу-то бух!!
– Хххх-хх, – покатывался Тюля.
– Да не угадал в лодку-то, ляп в воду, а глыбко, с ручками закрыват, да как начал по саженке отхватывать…
– Хх-хх… А медведица за тобой?
– За мн-о-о-ой, – врал Ванька.
– Хх-хх… Настигат?!
– Настига-а-ат! – кричал, размахивая руками, поднявшийся во весь рост Ванька и тоже заливался смехом.
– Ну что ж, слопала? – норовил подвести Тюля.
– Нет! – отрубил Ванька, и глаза его забегали. – Ты что, язва, не веришь?
– Как не верю?! – крикнул Тюля. – Я сам поврать горазд!
– Самоход, так твою так! – вскипел Ванька. – Лапотон! Удивительнай губерни…
– Ну, будя… Брось… – мирно сказал Тюля.
Он лизнул мясистым красным языком «цигарку», покрутил ее грязными пальцами и почтительно подал Ваньке:
– На, не серчай!
Ванька ублаготворенно улыбнулся.
Тюля достал измызганную колоду краденых карт и, растирая уставшие от хохота скулы, начал сдавать.
– Эй, святы черти! А ну-ка, игранем.
Костер прогорал. Щепы мало тепла давали, сруб был без крыши, становилось холодно.
Натаскав топлива, Антон ушел в лес, выбрался к берегу реки и сел на пень.
Тихо кругом было. В небе стояли лучистые звезды, а на речке закурился туман.
Антон становится на колени и начинает молиться, произнося громко жалобные слова. Молитва не утешает, радостных слез нет. Вспоминает грехи свои, вспоминает Любочку, товарищей, брата, всех врагов, хочет всех обнять, простить, – но все не так выходит, не по-настоящему, не сердцем молится – устами, а сам о другом думает, говорит слова и не может понять какие: душа другим занята, другое видит, неясное и расплывчатое. Вот оно надвигается, как из-за гор туча, гнетет.
– Богородица, – шепчет Антон и стукает лбом в землю.
И долго лежит, прислушиваясь, не готова ль к слезам душа.
Политик спит, а те трое играют в карты. Ванька всех удалей орудует. Ему карта валом валит. Дед сердится, Тюля тоже. А Ванька всякий раз, как только дед опасливо клал на кон карту, широко замахнувшись и крякнув, бил своей.
Тюля играл вяло, путал масти, валета называл «клап», даму – «краля».
Ванька острил над ним:
– Эй ты, шестерки козыри!.. Сдавай.
Ванька целую кучу медяков выиграл. Тюля из своих лохмотьев все вытаскивал зашитые пятаки, гривенники и двугривенные и смотрел с тоской, как Ванька складывает медяки стопочкой, а серебро за щеку, в рот.
– Портки заложил, рубаху в гору! – крикнул весело Ванька, ставя карту.
– Бита! – с размаху хлестнул дед тузом.
– А у меня фаля! – подпрыгнул Ванька, показав даму пик, и загреб все деньги.
В это время выросла над срубом чья-то голова в шапке и торчащий ствол ружья.
– Здорово, – сказала голова.
– Здорово, – ответил за всех дед. – Ты что, пастушок, что ли?
– Да…
– Сколько получаешь?
– Сколько получаю, столько и пропиваю…
– Х-хе… удалой ты парень, – пошутил дед. – Залазь к нам: гостем будешь…
Голова дрожащим голосом спросила:
– А вы, дяденьки, откедова?
– А тебе пошто? – осведомился Тюля.
– Да так, за всяко просто…
Дед набил ноздри табаком, чихнул и насмешливо сказал:
– А мы с Тихоновой горки, где пень на колоду брешет…
– Та-а-к, – протянула, что-то соображая, голова.
Антон подошел. Разговор начался за срубом.
– Мы, милый, ничего. Вот переночуем да завтра к вам придем. В бане бы помыться надо. Вша одолела.
– Та-а-ак… – еще раз протянула голова.
– Мы, миленький, люди тихие, мы…
Голоса удалялись. Наконец замолкли.
Антон проводил хромого Семку до поскотины и дорогой всячески старался расположить парня к товарищам.
Приперев покрепче ворота изгороди, Семка заковылял домой. Не доходя с версту до деревни, он уже слышал, что праздник в разгаре. Колыхались отзвуки песен, пилила гармошка, кто-то «караул» орал, взлаивали собаки.
Под кустом у дороги Семка услыхал шепот:
– Миленочек ты мой, родименький ты мой…
Чмок да чмок.
«Это ничего», – думает Семка и хромает дальше, вздыхая и поторапливаясь.
А в деревне содом.
Обабок, связанный, давно взаперти сидит. Он Тимохе-звонарю глаз подшиб да в чьей-то избе рамы оглоблей высадил:
«Вот как у нас. С праздничком!»
В дальнем конце свалка начинается.
– Вас надо, окаянных, глушить! – грозно враз кричат Мишка Ухорез и Сенька Козырь, надвигаясь на Федота.
– Кого?
– Тебе, мироеду, только под ноготь попади, – раздавишь!
– Ну, и проваливай!
– Даешь или не даешь?!
– Нету, вся…
– Говори – дашь, нет?! – взмахнул колом Козырь.
Федот ахнул, отскочил и со всех ног бросился в проулок.
Придурковатый Тимоха сидел пьяный на завалинке и прикладывал к подбитому глазу старинный сибирский пятак с соболями. Пришло ему желание часы отбить, встал, девять прозвонил, опять сел и затянул песню.
– Врешь! – говорит кто-то через дорогу. – Разве девять? Скоро петухи запоют!
Тимоха поднялся и еще добавил два удара.
– Два… шестой, – шамкает столетний, лежа на печи. – Я бы еще пососал… Эй, да-кось… Винца-то… – бормочет он.
Кот подходит к деду и, задрав хвост трубой, мурлычет и трется об его щеку.
– Шесть! – кричит столетний; хотел крикнуть «брысь», да не вышло, сбрасывает кота на пол и добавляет:
– С Богом, аминь…
Сенька Козырь с Мишкой задами, через огороды, к лодке крадутся. Огляделись – нет никого. Оттолкнулись от берега, сидят друг против друга, глаза горят, зубы стиснуты.
– Нож-то у тебя острый?
– Острый.
Как два волка, прошмыгнули они в поскотину, идут, пошатываясь, по росистой траве, высматривают пьяными глазами добычу.
– А ну как у других у кого – тоже белые?
– Но вот, толкуй…
Сенька в два прыжка оседлал белую корову и со всего маху всадил ей в горло нож.
– Дай-ка мне… Дай-ка…
– Вали стягом.
И долго они, гогоча от крови, носились возле опушки тайги, перехватывая мирно дремавших белых Федотовых коров.
– Попомнит, клещ окаянный, – вытирая о траву нож, прохрипел Сенька Козырь.
– Давай заодно и бычка пришьем.
– Ну его к ляду… Будет…
XIII
Под окном кто-то постучал:
– Эй, Пров Михалыч!
Матрена открыла окно:
– В Назимово уехал…
– Ах ты, батюшки, – сказал растерянно Семка Хромой, а стоявшие возле него подвыпившие мужики враз заговорили:
– Ну, стало быть, десятского надо отыскивать, Обабка.
– Десятский пьяный…
– Ково? – вдруг не то спросил, не то крикнул появившийся откуда-то Обабок: одна нога в валенке, другая разута, рубаха без пояса, висит на мускулистом теле рваными лоскутами, правая рука вся в крови, лицо осатанелое.
– Ково? – вновь крикнул Обабок и, посовавшись носом, устойчиво укрепился на земле.
– Вот наряжай-ка мужиков: бузуев брать, за поскотиной сидят… Семка, сколько их? – заговорили мужики.
– Брать так брать… Все едино… Айда! – пробасил Обабок и, заложив руки за спину, направился прочь от мужиков.
– Чего: айда!.. Ты чередом наряжай, че-о-рт!.. Оболокись сам-то… замерзнешь… – шумели ему вслед.
– Айда!! – орал раскатисто Обабок.
– Стой-ка ужо… Кому идти-то?..
– Айда!!
– Ну его к ляду!.. – недовольно загалдели мужики.
А Обабок, выломав в изгороди кол, прытко зашагал вдоль по улице и на всю деревню загремел:
– Мне только бы жану найтить… Стеррва!! Меня запирать?! Меня?! Ха-ха! Убью!! Вот те Христос, убью!..
Мужики отрядили пятерых потрезвее, и те, предводимые Семкой, все с заряженными ружьями, двинулись к поскотине.
Стояла глухая, северная ночь.
Вторые петухи горланят, Матрена все не спит, дожидается Прова. Ей неможется: лежит на лавке, стонет. Видит Матрена: открывается сама собой заслонка, кто-то лезет из печки лохматый, толстый, человек не человек, чудо какое-то, и, сверкая ножом, говорит: «Мне бы только сердце у бабы вырезать…»
Матрена вскрикнуть хочет, но нет сил, мохнатый уж на ней, душит за горло: «Где-ка сердце-то, где-ка?..»
– Бузуев привели!
Матрена ахнула, вскочила, крестом осенила себя и, отдышавшись, приникла к окну. На лошади мужик едет и на всю деревню кричит:
– Бузуев привели!..
На востоке утренняя заря занималась, песни на горе умолкли, а в кустах на речке просыпались робкие птичьи голоса.
У сборни тем временем стал собираться народ, обхватывая живым, все нарастающим кольцом пятерых только что приведенных из тайги людей.
Хмельные, бессонные лица праздничных гуляк были сосредоточены, угрюмы.
Старики и молодухи, ядреные мужики и в плясах отбившая пятки молодежь, то переминаясь в задних рядах с ноги на ногу, то протискиваясь вперед, шумели и перешептывались, бросали бродягам колючие, обидные слова и хихикали, сочувственно жалели и сжимали, рыча, кулаки, готовы были сказать: «Ах вы несчастненькие!» – и готовы были кинуться на них и втоптать в землю.
И бродяги это чувствуют. Недаром такими принужденно-кроткими стали их лица.
Лишь старик Лехман не может побороть обуявшую его злобу: насупясь, сидит на бревне и угрюмо на всех посматривает суровыми глазами.
Да еще Андрей-политик сам не свой. Воспаленные глаза его жадно кого-то в толпе ищут. Он устало дышит полуоткрытым ртом и, облизывая пересохшие губы, невнятно говорит:
– Я вам никто… Слышите?.. Я сам по себе…
Но его слов не понимают.
– Слышите? Где староста? Где сотский?..
– Брось, милый, – советует ему тихим голосом Антон, – ишь они пьяные какие… Брось…
Старый Устин, усердный Господу, ближе всех к бродягам. Он ласково им говорит:
– Вы вот что, робенки… тово… Ведь мы не с сердцов…
– Как же не с сердцов, – злобно сказал Лехман. – Ты спроси-ка вот нашего товарища, – указал он на Антона. – За что мужик ему в ухо дал? Это не резон.
– А потому, что вы пакостники, – раздраженно сказала баба в красном.
– Пакостники? – повысил голос Лехман. – Чего мы у тебя, тетка, спакостили?.. Ну-ка, скажи!
– Дак вы тово, – сказал, размахивая руками, Устин, – вот залазьте в копчег да и спите с Богом, покамест у хресьян гулянка, а там выпустим. Кешка, отпирай чижовку-то…
И, обернувшись, посоветовал:
– А вы, бабы, тово… Принесли бы чо-нибудь пожрать мужикам-то… Молочка там али что…
– Ну, так чо, – ответила баба в красном и пошла.
– Кешка, отпирай копчег! – опять скомандовал Устин. – Робятушки, залазь со Христом.
– Врешь, старик… Не имеешь права!.. – выкрикнул Андрей, погрозив Устину пальцем. – Я не бродяга… Понял?
Народ стал разбредаться.
Придурковатый звонарь Тимоха поглядел на алеющий восток, подумал, почесал бока и пошел к часовенке «ударить время».
Антон продолжал успокаивать Андрея:
– Ничего, Андреюшка… Завтра утречком… Пусть они продрыхнутся…
Устин с каморщиком Кешкой орудовали у чижовки.
– Вы, робенки, идите… Чего вам.
Кешка огарок из сборни принес. Тетка в красном молока две кринки и яиц с хлебом притащила.
– Де-е-ло, – одобрил Устин, заложив руки назад.
Тимоха из усердия три раза в колокол ударил.
Устин взглянул на гору, где часовенка, и опять сказал:
– Де-е-ло…
Бродяги, посоветовавшись, наконец зашли в чижовку.
Ванька Свистопляс уже кринку молока ополовинил, Андрей-политик нейдет:
– Вы меня отпустите… Я политический…
– Политический?! Ха-ха… Ладно… Все такие политики бывают… Ты нам дорогой все уши просмонил, шкелет… Ты пошто наутек было хотел? А?! – враз сердито заговорила стоявшая с ружьями стража.
– Я, господа, вам серьезно говорю… Пустите…
– Тут господов нет, – сказали строго мужики, – а вот коли велят, так и тово…
– Мне Анну… – взволнованно упрашивал Андрей, – девушку Анну…
– У нас Аннов хошь отбавляй, – острили мужики.
Старому Устину спать хотелось, да и всем наскучило.
– Кешка, бери его!.. Робята, подсобляй!..
Андрея потащили.
– Стой!..
– Кешка, налегай!..
– Иди, Андрей, черт с ними, – октависто звал Лехман.
– Нет! – рвался из дюжих рук Андрей. – Черти этаки, олухи!.. Аннину мать позовите… отца… старосту…
– Кешка, запирай!!
– Отвечать, дубье, будете!.. – ломился Андрей в захлопнувшуюся за ним дверь.
– Крепко запер? – спросил Устин.
– Так что комар носу не подточит, – весело ответил сторож Кешка.
– Ну, робенки, расходись! – скомандовал Устин, любивший приказывать толпе, и помахал рукой во все стороны.
XIV
Матрена лежала на кровати и думала об Анне, о Прове, не «натакался ли» в тайге на зверя. Надо бы заснуть, но сон прошел, в комнате бело. Встала, занавесила окна, опять легла. Слышит Матрена: по воде кто-то хлюпает. Коровы, что ль, через брод идут? Не время бы.
Думает о том о сем, но голова устала, нет ясных мыслей, путаются и текут куда-то, как по камням река…
Чует: храп лошадиный раздается и человеческий голос. Думает – сон, опять тот сон: лохматое чудище из печи вылезет.
Стучат.
– Эй, Матрена Ларионовна!
Вскочила, оправила рубаху, густые волосы подобрала, сунулась к окну.
– Ах! – вздрогнула, похолодела: «Знать, Анка кончилась…»
– Отопри-ка скорей, впусти!
Насилу дверь нашла. Без памяти бежит к воротам.
Вошел, коня за собой ведет.
– Занемог я дорогой… Теперь полегчало малость…
– Иван Степаныч!.. А Пров, Анка?
Бородулин провел коня в стойку.
– Сенца-то можно взять?
– Да дочерь-то какова?! – кричит, задыхаясь, Матрена.
– У меня деньги украли, вот я и прикатил… – не слушая ее, говорит вяло Бородулин.
– А?!
– Деньги, мол, деньги украли…
У Матрены ноги подкосились, села на приступки..
«Вот он, лохматый-то… Вот когда сердце-то вырезать начнет».
Петух схлопал крыльями, запел. Тыща петухов запело. Из глаз свет выкатился.
– Ну, пойдем-ка в избу. Ты чего это? – наклоняется к ней Бородулин. – Анка тебе кланяется низко… Прова Михалыча встретил… Все слава богу, ничего…
В глазах Матрены сразу вырос день. Петух снова пропел, тыща – промолчало.
– Кто украл-то, деньги-то? – с усилием едва принудила язык.
– Не знаю.
– Ох, и напугал же ты меня…
Идет впереди, высокая и статная, скрипят приступки под сильными ногами.
«Вся в мать», – думает Бородулин про Анну и подымается по сенцам.
– Дочка-то какова?
– Все слава тебе Господи.
И купец, волнуясь и краснея, долго говорил об Анне, о себе, о новой жизни, сулил всего, мудрил и перемудривал, клялся, просил прощения.
«Не сон ли?» – думает Матрена.
– А ты, Бог с тобой, не выпивши?
В глазах ее застыл радостный испуг и настороженность, дыхание стало коротким и прерывистым, а кожа на руках и шее вдруг покрылась, как от холода, пупырышками.
– Эх, Матрена Ларионовна… Кабы мог я, – вот схватил бы булатный нож, вырезал бы свое ретивое и показал бы: смотри!.. Жить не могу без Анки… Чуешь?
Купец ходил, пошатываясь и сбиваясь в разговоре, лицо то заливалось краской, то бледнело.
– Матренушка, я прилягу… Продрог в тайге, свалился без памяти и не помню, когда Пров уехал. Вскочил от холода, заколел весь, смотрю: вешки на дороге и веточка привязана, вдоль пути смотрит. Сел, поехал, куда веточка указала… Да… Неможется… Прилягу на кровать… Мне поспать бы…
– А ты иди в амбар, я тебе две шубы вытащу. А то… – и она замялась… – Вишь, одна я… Кабы Пров был… У нас живо разговоры поведут… Иди, батюшка.
И когда ложился Бородулин и когда лежал под шубой, все расспрашивал: нет ли кого из Назимова здесь? Нету, а вот бродяг поймали каких-то, кто их знает. Сон ей рассказал: «Найдешь деньги – быть», а что «быть» – неизвестно, – не указание ли это на Анку от ангела-хранителя, спросить некого, вот разве священника? Хе, он и молебен не служил, Устин орудовал, а поп с девками в горелки на лугу играл, чуть с парнями не подрался из-за Таньки, архерею жаловаться надо, что ж это за пастырь. Тьфу!
– Ну, спи, Иван Степаныч… Дак ничего девка-то, говоришь, Анка-то? Экая жаба Овдоха-то. Как наврала, холера…
– Стерва твоя Овдоха-то, и больше никаких. Паскуда.
Матрена захлопнула амбар, вошла в избу, села под окном и пригорюнилась. Хоть красно купец размусоливал, а сердце ноет, да и на!
XV
С того часу, как случился грех, Даша не рада жизни: точно кто приволок ее к пропасти и толкает, и нет сил сопротивляться. Вином, что ли, утолить боль?
Вечером на кривых ногах вошел в кухню полюбовник Феденька. Приказчик Илюха рад, – Бородулин долго в Кедровке прогуляет, – слямзил три бутылки хозяйского коньяку, на всех хватит.
Вчетвером в кухне бражничать стали, но Федосья – баба умная, вскоре ушла к Анне: хозяин велел глаз держать.
Илюхе вино сразу же бросилось в голову: он то хохотал, то слюняво плакал, лез целоваться к Феденьке и костил с плеча Бородулина, попа, пристава, наконец, охмелев окончательно, кубарем слетел под стол.
Черномазый Феденька чавкает железными челюстями говядину, глаза кошачьи прищурил и косится сладострастно на розовые Дашины губы.
Когда Илюха захрапел и забредил, Феденька поднялся, высунув свою стриженую скуластую голову в соседнюю половину, как вор, пошарил там глазами, прислушался и плотно затворил дверь.
– Ну? – подошел он к Даше. Голос ласковый, лицо ласковое, только недоброе в глазах. – Ну?
Даша вся сжалась, точно перед ней разъяренный медведь на дыбы поднялся.
– Ничего я не знаю… Головушка моя… – прошептали ее губы, и она не смела взглянуть на поселенца.
– Да не кобенься, Дашенька, – сверкнув на дверь белками, прошипел он, словно к сердцу змея прильнула: гадко так сделалось, страшно.
– Ежели велишь, что ж… куда денешься… – тихо сказала Дарья и, как на горячие уголья, выплеснула в рот вино, что-то заклубилось внутри, Даша охнула и хотела встать.
– Куда? – И, все так же давя Дашу взглядом каторжника, Феденька грузно придавил ее плечо рукой.
– Ну, ладно, – как во сне сказала Даша, осторожно освобождаясь от его грязной, с желтыми ногтями, руки. – Ну, положим, овдовеет он, Бородулин-то… Ну, подкачусь к нему, как ящерка… хозяйкой буду, женой…
– Дура, Дашенька, – буркнул поселенец и опасливо заглянул под стол на храпевшего Илюху. – Хе, овдовеет… жди… Вы с купцом отравить ее должны, зобастую-то… только вдвоем с Бородулиным… вдво-о-ем, Дашенька. Поняла? Чтоб удавкой его ущемить. Поняла? Тогда командуй, вей из него веревки.
Глаза его блеснули.
– А ежели… держись, Дашенька… финтить будешь – выдам с головой. Разлюбишь – убью!
Говорил он страшные слова с улыбкой, ласково, словно занятную рассказывал сказку.
У Дарьи шире ноздри раздуваются.
– А Анка?
– Анка полоумная, с ней венца не дадут, – шепчет Феденька.
– А солдат?
– Солдата твоего к черту. Я их с Бородулиным сразу… из-за куста, в тайге… – стальным, вдруг изменившимся голосом сказал Феденька и впился взглядом в испугавшиеся Дашины глаза. – На охоту уманю и кончу.
Даша, словно в страшном сне, вскрикнула и отшатнулась.
– Ты что?
– Дьявол ты… мучитель.
– Дашка!! – топнул Феденька.
Та вздрогнула и долгим насмешливым взглядом посмотрела на Феденьку. Потом вдруг с какой-то болью захохотала.
– Эхма! – оборвала она и потянулась к вину.
Зубы стучали о стакан, вино лилось по руке, по голубой, с красными пуговками, кофте, и уж хныкать начала, вот-вот заплачет, а хохот все еще волной в груди.
– А хочешь, Феденька… – погрозила игриво пальцем. – Хочешь, злодей, к уряднику? А? – И, жарко задышав, опьяневшая Даша придвинулась грудью к поселенцу.
Феденька улыбнулся и достал из-за голенища отточенный самодельный кинжал.
– Куда?! – сдвинув брови, железной рукой рванул он отпрянувшую Дашу.
Вся побелев, скрестила на груди руки.
– Ты думаешь, боюсь тебя, Феденька? Боюсь, а? – Она, гордо подняв голову, стояла, а поселенец чуть отклонился от нее, чтоб ловчее было взмахнуть кинжалом.
«А ведь убьет», – мелькнуло в голове у Даши. Но ненависть к любовнику и хмельной угар прогнали страх.
Улыбающиеся глаза Феденьки налились кровью, он вдруг взмахнул кинжалом. Даша ахнула, схватилась за стол. Поселенец сильным броском пустил кинжал через всю кухню в дверь. Цокнув, на вершок врезался кинжал в дерево.
– Вот как я его… в тайге… – спокойным голосом сказал поселенец и шагнул к двери. – А по тебе изнываю… Жару в тебе, черт, много, перцу… Шалишь, Дашенька, не вырвешься… – Он подсел к ней и, как бы играя, тряс ее за плечи. – А ежели тут у тебя много… – постучал он пальцем по ее высокому лбу, – бо-огато за живем.
– Погубитель ты… Ну, уж бери, пользуйся…
Она прижалась к нему и закрыла хмельные глаза. Феденька загоготал. Она вся дрожала; на белом лбу выступил пот.
Заскрипели ворота, копыта застучали по настилу.
– Кого-то черт несет, – буркнул поселенец. – Пойдем на речку.
На крыльце послышались грузные шаги. Кто-то шарил скобку.
– Здорово те живете, – густо сказал, входя, большой, чуть согнувшийся Пров и стал креститься на передний угол.
Анна распахнула дверь и, радостная, остановилась на пороге.
– Пришел?
– Здорово, Анна!
– Батюшка, батюшка! – кинулась к нему на шею. – Что, пришел Андрюша-то? А мамынька-то где?
Пров взглянул на дочь и сразу все понял. Он боднул головой, в глазах запрыгал огонек лампы, все кругом помутнело, и заколыхался пол.
– Вот поедем: матушка горькие слезы по тебе проливает. Что ж ты, доченька… хвораешь?
– Нет, хорошо. Слава богу, хорошо… – а сама стиснула виски и зажмурилась, как от яркого света.
Пров стоял, положив руки на плечи Анны, и уж не мог разглядеть ее лицо.
– Испить ба… – Он мешком опустился на лавку и жадно, не отрываясь, выпил ковш воды.
Дарья и поселенец ушли. Феня увела Прова с Анной на чистую половину, накормила их, и все стали укладываться спать.
Анна, засыпая, говорила, словно жалуясь:
– Тятенька… Ну, как же, тятенька?.. Плохо…
– Чего плохо-то?
– А по книжке хорошо. Все хорошо будет…
– Ну, а как Иван-то Степаныч, как он с тобой в обхожденье-то?
– А не знаю, сбилась. Не понять.
– Ну, а сколько ты зажила-то? Расчет-то покончил он с тобой али как? После?
– Тятенька, после. Вот высплюсь – завтра другая…
Тихо стало. Только из кухни долетал пьяный Илюхин храп.
Прову не спалось. Он поглядел на образ. Огонек лампадки колыхался и озарял лик Христа. Пров вздохнул. Его душа требовала молитвы. Нужно сейчас встать и все открыть Господу, совет благой принять, вымолить спокой сердцу. Он подошел к образу, опустился на колени. Огонек поклонился ему и затрепыхал. Лицо Прова скривилось, сморщилось. И когда он сделал земной поклон, уже не мог выдержать, всхлипывать стал и тихо, чтобы не подслушали, по-женски голосить.
– Рабу твою Анн… звоссияй… Боже наш.
И не знает Пров, какими словами можно разжалобить Бога, от этого еще больше ноет его душа и печалится, и тоскует.
– Звоссияй… совсем… гля ради старости… гля утешенья.
После вторых петухов пожаловала Даша. Она легла рядом с Фенюшкой и крепко ее обняла.
– Стерва ты, Дашка, – сказала Фенюшка, – попадетесь вы с хахалем-то.
– Мо-лчи-и, – тянула, засыпая, Даша, – ехать хочу… в Кедровку. Как его, хозяин-то… одного… без досмотру…
– Кати! Все одно шею-то свернешь. Таковская.
– Эх, Феня, Феня, – тяжко вздохнула Дарья. – Ничего ты не знаешь. Ничего ты, Феня, не понимаешь.
– Брось, брось ты его, мазурика, посельгу несчастную.
– Погоди, Феня… Скажу слово… Все тебе скажу…
– Сучка ты, я вижу.
– Ну, не обида ли?! – Даша, чтобы не закричать на весь дом, вцепилась зубами в подушку, застонала.


