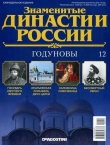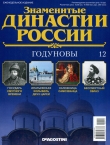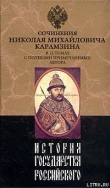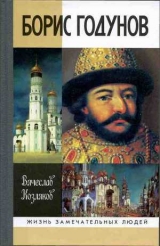
Текст книги "Борис Годунов. Трагедия о добром царе"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
В приведенных словах можно увидеть отражение предвыборной борьбы. Борис Годунов в те дни был не единственным, на кого смотрели как на возможного претендента на царское избрание. Кроме самого Годунова, о котором ходил слух, что «он очень болен», называли имена главы Боярской думы князя Федора Ивановича Мстиславского, братьев Федора и Александра Никитичей Романовых и даже Богдана Бельского, который якобы «приехал в Москву со множеством народа, желая стать царем». Интересен и тот расклад сил, о котором сообщали информаторы оршанского старосты Андрея Сапеги, доносившего обо всем великому литовскому гетману Кшиштофу Радзивиллу. Больше всего сторонников имел Федор Никитич Романов как близкий родственник умершего царя. За него была «бблыиая часть воевод и думных дворян». У Годунова, кроме поддержки в Думе, имелось немало и других сторонников. Самое же главное, что за него «стояли» «стрельцы все» и «чернь почти вся» [483]483
Из Львовского архива князей Сапег… С. 339, 343. С. Ф. Платонов уточнил, что речь шла о «поспольстве» – «простом гражданском свободном населении». См.: Платонов С. Ф.Борис Годунов… С. 253.
[Закрыть].
Дело царского избрания решили провести «всею землею», отсрочив заседание собора представителей всех чинов Московского государства «до Четыредесятницы», то есть до окончания сорокадневного траура по умершему царю, заканчивавшегося 15 февраля [484]484
См.: Платонов С. Ф.Борис Годунов… С. 246.
[Закрыть]. За это время в Москву должны были съехаться представители из разных городов – «весь царьский сигклит всяких чинов, и царства Московского служивые и всякие люди». Им предстояло участвовать в выборах нового царя или, точнее, в его «предъизбрании», потому что без явных знаков Божественного одобрения даже общего соборного признания было бы недостаточно. На соборе, по разным подсчетам, собралось около 500–600 человек, имена которых известны как из перечисления в самой «Утвержденной грамоте», так и из подписей («рукоприкладств») на обороте [485]485
Недавно Д. В. Лисейцев, проанализировав перечень дьяков в «Утвержденной грамоте», датировал составление документа не 1 августа 1598 года, как это сделано при его публикации, а весной 1599 года. Можно согласиться с тем, что сбор подписей под такого рода грамотами, как и позднее, в 1613 году, растягивался во времени. Также справедливы и высказанные ранее мнения о символичности представительства на соборе 1598 года, реконструируемого по «рукоприкладствам». Однако эти наблюдения не отменяют факта составления «Утвержденной грамоты» в год избрания на царство Бориса Годунова. См.: Лисейцев Д. В.Приказная система Московского государства в эпоху Смуты… С. 137–141.
[Закрыть]. Но самое главное было в том, что на этом соборе находился и будущий царь. Мысль о том, чтобы избрать государя «мимо» боярских родов или снова призвать «варягов», даже не обсуждалась.
Основные споры у историков вызывает характер соборного представительства, относящийся к более общей проблеме законности царского избрания. В. О. Ключевский первым отнесся к Земскому собору 1598 года как к правильно избранному и показал его принципиальное новшество – «присутствие на нем выборных представителей уездных дворянских обществ». Как обычно, он выразил свою концепцию в афористичной манере: «Подстроен был ход дела, а не состав собора» [486]486
Ключевский В. О.Состав представительства на земских соборах Древней Руси // Ключевский В. О.Сочинения. В 9 т. М., 1990. Т. 8. С. 332, 334. Точку зрения В. О. Ключевского впоследствии поддержал и С. Ф. Платонов: Платонов С. Ф.К истории московских земских соборов // Платонов С. Ф.Статьи по русской истории (1883–1912). СПб., 1912. С. 298–299; Он же.Борис Годунов… С. 247–248.
[Закрыть]. С. П. Мордовина в специальном исследовании об «Утвержденной грамоте» уточнила многие детали созыва собора. Она оспорила мнение Ключевского о наличии на соборе выборного дворянского представительства и показала, что столичные служилые люди – стольники, стряпчие, московские дворяне (кроме одного чина – «жильцов») были представлены по принципу «поголовной мобилизации», а выборные дворяне из «городов» тоже служили в это время в столице [487]487
См.: Мордовина С. П.К истории Утвержденной грамоты 1598 г. // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970. С. 127–141; Она же.Характер дворянского представительства на земском соборе 1598 г. // Вопросы истории. 1971. № 2. С. 55–63. См. также: Павлов Л. П.Соборная утвержденная грамота об избрании Бориса Годунова на престол // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. 10. С. 206–225; Станиславский Л. Л.Труды по истории Государева двора… С. 118.
[Закрыть]. Другой исследователь истории избирательного собора 1598 года А. П. Павлов все-таки склонен видеть в его составе сочетание «чиновно-должностного» и «территориально-выборного» принципов представительства [488]488
Павлов Л. П.Государев двор и политическая борьба… С. 225–226.
[Закрыть]. В любом случае у историков нет сомнений в правомочности собора, а разговоры о попытке правителя Бориса Годунова оказывать прямолинейное давление на его решения остаются разговорами.
Земский собор с участием патриарха, освященного собора, Боярской думы и сословных представителей открылся 17 февраля 1598 года: «Февраля в 17 день, в пяток на мясопустной неделе, святейший патриарх Московский и всеа Русии велел у себя быти на соборе о Святем Дусе сыновем своим пресвященным митрополитом, и архиепископом, и епископом, и архимаритом, и игуменом, и всему освященному собору вселенскому, и боляром, и дворяном, и приказным и служилым людям, всему Христолюбивому воинству, и гостем, и всем православным крестьяном всех городов Росийского государьства» [489]489
ААЭ. Т. 2. № 7. С. 24.
[Закрыть]. На соборе возникла единственная кандидатура – Бориса Годунова, о которой только и говорил патриарх Иов: «Мысль и совет всех единодушно, что нам мимо государя Бориса Федоровича иного государя никого не искати и не хотети».
Права Бориса Годунова на престол обосновывались, помимо всего прочего, благословением на царство, якобы полученным им от царя Ивана Грозного и его сына Федора. Обращение к авторитету прежних царей понадобилось в соборных заседаниях для того, чтобы доказать полученное от них «соизволение» на принятие власти будущим царем Борисом. В «Соборном определении» говорилось следующее: «…тако и Бог предъизбра; на нем же бо и обоих царей благословение бысть, царево бо сердце в руце Божии, еже цари рекоша, сие Бог благоизволи». Позднее этот аргумент будет более подробно развит и обоснован в «Утвержденной грамоте», и акцент сделают на том, что Борис Годунов уже проявил себя как исполнитель воли и даже «сын» царя Ивана Грозного. Умирая, Иван Грозный «приказал» ему охранять «от всяких зол» царя Федора Ивановича и его царицу Ирину, что правитель и исполнил.
В первый день соборных заседаний 17 февраля 1598 года удалось договориться о «предизбранной» кандидатуре Бориса Годунова. На следующее утро, в субботу 18 февраля, начались молебны в Успенском соборе в Кремле, продолжавшиеся три дня. После них представители всех чинов пошли в Новодевичий монастырь, чтобы просить царицу-инокиню Александру Федоровну и ее брата Бориса Федоровича согласиться с «советом и хотением всея земли», поддержанным патриархом и освященным собором. Но в понедельник 20 февраля опять ничего не получилось: государыня «не пожаловала», а Борис Федорович «милости не показал же». Более того, Борис Годунов продолжал убеждать патриарха Иова, «что ему о том и в разум не придет». Конечно, это был ритуал, но ритуал необходимый. Прояви Борис нетерпение и пропусти что-то важное в этот момент, ему уже никогда не простили бы отсутствия смирения перед мнением «мира», то есть народа. Даже те, кто позднее обвинял Бориса в «похищении» престола, не могли разобраться: «хотя или не хотя воцарился правитель Борис Федорович» [490]490
История о первом патриархе Иове // РИБ. Т. 13. Ст. 930.
[Закрыть]. Но отказывая «о государьстве», Борис Годунов не отказывался «о земских делех радети и промышляти» вместе с другими боярами. Как напишет автор «Повести, как восхити царский престол Борис Годунов», «егда нарицали его царем, тогда в наречении являлся тих, и кроток, и милостив» [491]491
Повесть как восхити царский престол Борис Годунов // РИБ. Т. 13. С.153.
[Закрыть]. Однако смирение Бориса Годунова было обманчиво: он продолжал деятельно работать над тем, чтобы все-таки найти путь к престолу. Даже в горе, утешая сестру, он не забывал об устроении «земного правительства тишины и мира» [492]492
ПСРЛ. Т. 14. С. 21.
[Закрыть].
В Москве развернулась настоящая агитация за избрание Бориса Годунова на царство. В ход шли самые разные приемы: подкуп, лесть, увещевание, запугивание. Считается, что апофеоз предвыборных «технологий» конца XVI века случился в момент знаменитого похода москвичей в Новодевичий монастырь с целью «умолить» Бориса принять царский венец. Красочный рассказ «Иного сказания», ставшего одним из источников «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, а вслед за ним и пушкинского «Бориса Годунова», заслуживает внимания сам по себе. В нашем восприятии этой повести, под обаянием литературного гения Пушкина, некоторые акценты сместились, и мы видим события такими, какими они переданы в исторической драме, а не в тексте памятника времен Смуты [493]493
Особенно отчетливо такой подход проявился в комментариях В. Непомнящего, воспринимающего Годунова только таким, каким он написан у А. С. Пушкина. Это снижает достоверность исторических комментариев исследователя, контрастируя с его исключительно глубоким поэтическим прочтением «Бориса Годунова» в цикле передач на телеканале «Культура», вышедшем в эфир в июле 2010 года.
[Закрыть]. Надо помнить, что избрание Бориса Годунова на царство было делом не одного дня. В Русском государстве впервые знакомились с тем, как должно происходить царское избрание. Правитель действовал не один, а во главе целого клана своих друзей и ближайших родственников – Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых, вполне обоснованно ожидавших для себя будущих царских милостей. Но активны были и противники Бориса Годунова, со слов которых воспроизводятся все обвинения в принуждении к выбору именно годуновской кандидатуры на царский престол. Обида бояр, проигравших Борису Годунову борьбу за трон, слышна в описании этих событий в Хронографе: «Яко же преже имел нрав лукав и пронырлив и боляр и царских синглит и велмож и властей и гостей и всяких людей прелстил ово дарми, ово любовию, а иных злым прещением, и не смеяше никто впреки ему глаголати от боляр и до простых людей, такоже той Борис… нача посылати злосоветников своих и рачителей по царствующему граду Москве, и по всем сотням, и по слободам и по всем градом Руския области ко всем людем, чтобы на государство всем миром просили Бориса». Петр Петрей тоже писал о ненависти, которую вызвала победа Годунова: «После того как Борис Годунов захватил власть после смерти Федора Ивановича, многие возненавидели его, как духовные, так и светские люди, и было много таких, которые охотно отняли бы у него власть. Но не нашлось никого, кто бы осмелился укусить эту лису. Многие отрубили бы ему голову, но никто не осмеливался взяться за топор» [494]494
Реляция Петра Петрея о России начала XVII в…. С. 82.
[Закрыть]. Русские источники тоже свидетельствуют, что «никто не сме противу его реще». Когда дело дошло до самого царского избрания, молчали даже те, кто готов был взять «скифетр Великия Росии», выпавший из рук царя Федора Ивановича: «…и сего ради и от достоинных на се не смеяху поступити народного ради изволения, чающее их от истинныя сердечныя любви, а не неволи ради» [495]495
Попов А.Изборник… С. 214.
[Закрыть].
Примером антигодуновской агитации могут служить сообщенные (или сочиненные?) Львом Сапегой «речи» дворецкого Григория Васильевича Годунова, якобы выступившего на соборе с резким обличением преступлений правителя, включая убийство царевича Дмитрия. Если бы такая речь действительно была произнесена на московском избирательном соборе 1598 года, она осталась бы одним из самых ярких памятников отечественной политической мысли на все времена. В ней очень умело были собраны все ходившие в то время обвинения в адрес Бориса Годунова, доказывающие его властолюбие. Однако постоянные отсылки автора «речи» к опыту Древней Греции и Рима, рассуждения о свойствах гражданина характерны отнюдь не для московского боярина, а скорее для представителя польской культуры. В этот так называемый «сарматский» период обсуждение примеров из античной истории было в Польше и Литве признаком хорошего тона. Автор «речи» признавал рано проявившиеся достоинства Бориса Годунова, отмеченные Иваном Грозным: «Счастье Бориса Федоровича Годунова началось еще при Иване Васильевиче Грозном… Следствия родственных связей с царским домом, недостаток здоровья, неопытность, снисхождение и простодушие наследника упомянутого государя служили для Бориса лествицею возвышения». Дальше же ставились вопросы, роковым образом звучащие для правителя Годунова: «Но как он мог пробиться сквозь ряд окружавших сияние престола особ, последнею волею Грозного определенных направлять наследственную власть Федора Ивановича к общественному благу? Каким волшебным жезлом уничтожил их преимущества, преломил их полномочие, затмил блеск добродетелей, достойных величия Рима?» В «речи Григория Годунова» показано, как его высокий родственник последовательно расправлялся с князьями Шуйскими, Мстиславскими и Воротынскими, с Юрьевыми и другими боярскими родами – князей Куракиных, князей Голицыных и Головиных. Упоминалось дело Богдана Бельского, история ливонской королевны «Марфы Владимировны» и ее дочери-ребенка, смерть которой тоже приписывалась Борису Годунову.
Много в этом памфлете говорилось и об убийстве царевича Дмитрия. Сторонников правителя обвиняли в распространении слухов о жестокости царевича: «Царевич Димитрий – живой образ отца своего, свойства коего оказывает уже в младенчестве своем: он изъявляет удовольствие, когда бьют баранов или другое какое животное; с охотою смотрит на текущую кровь, обыкновенно бьет гусей и кур палкою до смерти». Говорили о подосланных убийцах Никите Качалове и Даниле Битяговском, признавшихся в своем преступлении и за это побитых угличанами. Правда, доказательств опять не приводилось: «Ссылаюсь в этом на общее мнение, заменяющее своею важностью недостаточные в подобных случаях признаки достоверности: глас народа – глас Божий». Слезам, будто бы пролитым Борисом Годуновым, не верили: «…Борис, говорят, заплакал, получивши весть о смерти царевича. Не диво! И Цезарь плакал над головою Помпеевою». Вместо настоящего расследования Борис отвлек всех тем, что «подкупил» крымского хана на поход в Москву и устроил пожары. Сама щедрость его по отношению к «несчастным погорелым» тоже была поставлена ему в вину.
Автор «речи» нарисовал впечатляющую картину общественного удушья, в которую погрузилась страна при Борисе Годунове: «Образ мыслей, положение умов, стремление страстей, все внутренние силы гражданского тела столько изменились, что число окровавленных жертв, падающих под ударами бесчеловечия, повседневно умножалось. Друг стал подозревать в измене своего друга, слуга клеветал на господина, сродник доносил на сродника, жена на мужа, сын на отца; исчезла в сердцах доверенность – душа общежития; законы превратились в паутину; слабые только запутывались в ней, сильные расторгали. Умеренные люди с прискорбным сердцем и сокрушенным духом взирали на гонение дознанных добродетелей, заслуженных почестей; с душевным соболезнованием смотрели на истребление лучших умов, отличных дарований; ожидали благоприятного времени; всего надеялись от перемены обстоятельств. Горе тому государству, в котором дела приняли такой вид в угождение прихотям одного!» Было замечено, что Годунов использовал для «прикрытия» своих дел суды: «Борис умел прикрывать действительные признаки самовластия священною завесою правосудия». Он подчинил себе Боярскую думу и заставил бояться всех людей: «все ненавидели самовластие его и, однако же, не смели сообщать о том мыслей друг другу; молча проклинали кровопийцу, а явно боялись говорить о нем; потому что Борис все видел, все слышал. Лазутчики служили ему вместо зрительных и слуховых труб». Не были забыты даже крестьяне, «с некоторого времени придавленные железною рукою хитреца к земле, ими возделываемой». Таким образом, неизвестный автор, доставивший сведения ко двору Речи Посполитой, выносил приговор Годунову: «Это адское чадо в продолжении целых пятнадцати лет было всего законопреступного или защитником, или свидетелем, или примером».
Все эти аргументы была призвана разбить речь защитника Бориса Годунова «окольничего Клешнева» (Андрея Петровича Клешнина). Он подтверждал, что царь Иван Грозный первым заметил и оценил таланты Бориса Годунова: «Природа украсила юного Бориса душевными и телесными качествами: его остроумие, кстати выказанное, необычайное в детских почти летах удаление от всего ребяческого, расторопность и осмотрительность его при Дворе удостоены были особенного внимания Грозного и вкупе справедливейшего из Царей». Борис Годунов, по «словам» Клешнина, – именно тот, кто охранял наследие царя Ивана, являясь другом царя Федора Ивановича, оправдавшим его доверие, вопреки всем клеветникам: «После богатырских подвигов Грозного нужно было оградить силою ума плоды быстрых завоеваний; усилием приобретенное требует охранения самой премудрости. Иван Васильевич скончался, и любимец его стал другом наследника его. Друзья требуют доверенности; никто так много не дорожил ею, как царский свойственник; благодеяния полились рекою на достойных токмо. И действительно, правосудие не видело еще до него пред собою такого обожателя, истина подобного ему поборника, невинность ревностнейшего защитника. Государство нашло в нем неусыпного рачителя о благе общественном; в нашем отечестве явился сын славы; мы увидели в нем редкого человека: вот лествица возвышения его! О, когда бы все восходили по ней к величию! Дарования Бориса Федоровича сделались бы необходимыми условиями царствовать. Муж этот, без сомнения, пребудет единственным в наших летописях; один только можно заметить в нем недостаток: сравнившись со всеми великими мужами, до него жившими, не успел превзойти их, потому что тщеславие заставило его очень долго стоять ниже своего достоинства» [496]496
Дипломатическое донесение Сигизмунду III, королю польскому, о делах Московских // ЧОИДР. 1858. № 2. С. 3–24. В тексте «дипломатического донесения» очень точно воспроизводятся некоторые детали, автор, безусловно, был знаком со всеми поворотами политической борьбы в годы царствования Федора Ивановича. Но считать его очевидцем царского избрания 1598 года, как он об этом пишет, нет никаких оснований. Скорее это составленный с определенными целями исторический памфлет. Можно указать на один из его книжных источников – сочинение Джильса Флетчера «О государстве Русском». Из книги англичанина позаимствована цифра общего дохода Годунова – 93 тысячи 700 рублей. В «речи Григория Годунова», как и у Флетчера, говорится, что Борис Годунов занимал 17-е место в Думе, состоявшей из 31 человека. Отсутствие ссылок на рукопись донесения, сами обстоятельства публикации в эпоху первой «гласности» в конце 1850-х годов, стиль переводчика, включавшего свои комментарии непосредственно в текст донесения, наводят на предположение о том, что, возможно, текст исторического источника был искусно «доработан» уже в XIX веке. См.: Флетчер Джильс.О государстве Русском… С. 43, 53–54.
[Закрыть].
То, что речь была сказана царским родственником, то, что рядом приводилась другая, оправдательная, речь сторонника Годунова, придавало видимость подлинности соборных выступлений. Правда, сам дворецкий Годунов умер еще в конце 1597 года [497]497
Павлов А. П.Государев двор и политическая борьба… С. 53.
[Закрыть]. Но густого дыма без большого огня, действительно, не бывает. Много позднее в текст Хронографа оказалось включено известие о том, что Годунов отравил своего родственника из-за противодействия планам правителя: «Такоже и от сродных своих ужика {10} своего Григорья Васильевича Годунова злоковарным своим ядовитым отравным зелием опоив, зане же много возбраняше ему, и понося в таком начинании его, яко начинаше выше меры своея, той бо и царя храняше от него крепце, но прежде незадолго государевы царевы смерти почтен бысть смертию, потом же не по мнозе времени его и царь такоже вкуси» [498]498
Попов А.Изборник… С. 215.
[Закрыть]. Скорее всего враги Бориса использовали какую-то рознь Годуновых между собою («Новый летописец», напомню, выводил ее начало от событий, связанных со смертью царевича Дмитрия).
Трудно поверить и в другую описанную оршанским старостой сцену, в которой Федор Никитич Романов бросался с ножом на Бориса Годунова, «желая его убить». Произошло это будто бы из-за того, что Годунов… едва не посадил на престол самозваного царевича Дмитрия! По словам Сапеги, «после смерти великого князя Годунов будто бы держал при себе своего друга, во всем очень похожего на покойного князя Дмитрия, брата великого князя Московского» [499]499
Из Львовского архива князя Сапеги… С. 341.
[Закрыть]. Само по себе это интересно только тем, что идея самозванства уже витала в воздухе в 1598 году. «Письмо Сапеги, – писал С. Ф. Платонов, – свидетельствует, что обвинение в покушении на жизнь Димитрия, совместно с мыслью о самозваном воскрешении царевича, существовало уже перед воцарением Бориса и было широко пущено в оборот как средство избирательной борьбы против Бориса» [500]500
Платонов С. Ф.Борис Годунов… С. 253.
[Закрыть]. Детали же самого происшествия неимоверно перепутаны. Не случайно С. Ф. Платонов назвал их «вздорной и злостной молвой», а А. А. Зимин посчитал «дебрями измышлений», впрочем, признавая, что за ними «все же вырисовывается картина придворной борьбы, которая объясняет отъезд Бориса из Москвы» [501]501
Зимин А. А.В канун грозных потрясений… С. 216–218.
[Закрыть].
То, что после Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина стали называть спектаклем, на самом деле было частью определенного общественного договора, отражавшего своеобразное представление о том, что дозволено боярской власти и какое право принадлежит «миру». С. Ф. Платонов справедливо замечал: «Можно считать окончательно оставленным прежний взгляд на царское избрание 1598 года как на грубую „комедию“» [502]502
Платонов С. Ф.Очерки по истории Смуты… С. 172.
[Закрыть]. Хотя историки по-прежнему разделены в своих оценках Земского собора. А. А. Зимин считал, что не обошлось без «приемов социальной демагогии»; Р. Г. Скрынников склонен был думать, что собор «многократно менял свои формы и состав». Но, пожалуй, никто не станет спорить с оценкой собора 1598 года, данной Л. В. Черепниным: «Учредительный акт, им совершенный, – „поставление“ главы государства, – во многом определил дальнейшее направление политики России» [503]503
Зимин А. А.В канун грозных потрясений… С. 233; Скрынников Р. Г.Борис Годунов… С. 130; Черепнин Л. В.Земские соборы… С. 147.
[Закрыть]. Важнейшей особенностью собора 1598 года стало то, что он показал: государственную власть царь получает из рук «мира», от имени которого действовал патриарх с освященным собором и чье мнение выражал «совет всея земли».
Наконец, настало утро вторника Сырной (Масленой) недели, 21 февраля 1598 года, когда и решился неподобающий этому разгульному времени перед Великим постом серьезнейший вопрос о царе. Еще с утра, когда из Кремля двинулся крестный ход с Владимирской иконой Божьей Матери и другими святынями, все было по-прежнему зыбко и неопределенно. «Борисовы рачители» много дней безуспешно пытались воздействовать на царицу Ирину – инокиню Александру. Ей так и не удалось удалиться из мира, чего она хотела и что, наверное, обещала своему супругу царю Федору Ивановичу. «Мир» доставал ее своими страстями: «И такоже докучаемо бываше от народа по многи дни. Боляре же и вельможи предстоящий ей в келии ея, овии же на крылце келии ея вне у окна, народи же мнози на площади стояше» [504]504
Иное сказание // РИБ. Т. 13. Ст. 14.
[Закрыть]. Царица Александра Федоровна по-прежнему отказывалась и за себя, и за брата, хотя и не могла скрыть умиления и растерянности: «…и у меня на то мысли никак нет, а у брата нашего у Бориса по тому же никак мысли и хотения на то нет же, сведетель и сердца наши зрит Бог. А будет на то святая Его воля будет, яко же годе Господеви, тако и буди» [505]505
ААЭ. Т. 2. № 7. С. 32.
[Закрыть]. Пусть те, кто хочет, обвиняют после этих слов царицу и инокиню Александру в неискренности. Однако она всей жизнью доказывала обратное. Не случайно и позднее автор «Нового летописца» приводил сказанные ею слова, не подвергая их никакому сомнению: «Отоидох, рече, аз суетного жития сего; яко вам годно, тако и творите» [506]506
Новый летописец. С. 50.
[Закрыть].
Оставалось просить ее снова и снова. А дальше разыгралась знаменитая сцена с молитвенным обращением к затворившейся в келье царице-инокине Александре Федоровне, чтобы та дала согласие на царствование ее брата Бориса Годунова. Автор «Иного сказания» приводит подробности некоторых избирательных приемов того времени: по его словам, во всем, что происходило в стенах Новодевичьего монастыря, не было никаких знаков Божественного промысла, но лишь издевка и скомороший выворот обстоятельств, игра в выборы, сопровождавшаяся фальшивыми слезами и демонстрацией волеизъявления по команде закулисных дирижеров: «Мнози же суть и неволею пригнани, и заповедь положена, аще кто не придет Бориса на государство просити, и на том по два рубля правити на день. За ними же и мнози приставы приставлены быша, принужаемы от них с великим воплем вопити и слезы точити. Но како слезам быти, аще в сердцы умиления и радения несть, ни любви к нему? Сия же в слез ради под очию слинами мочаше». На этом фантазия тех, кто непременно хотел склонить царицу Александру к избранию Бориса Годунова на царство, не иссякла. Автор «Иного сказания» убеждает читателей, что бояре заставили москвичей сыграть роль массовки в этом грандиозном спектакле, устроенном для одной потрясенной судьбой и обстоятельствами зрительницы: «Предстоящий же пред нею внутрь келии моляше ея преклоните ушеса, и внимати к молению народному, и прозрети на собранное множество народное и слезное их излияние и вопль прошения ради Бориса царем на Московское государство. Она же, егда хотяше на народ позрети и видети бываемая в них и егда хотяше обратитися к прозрению в окно, велможи же предреченнии они Борисовы рачители, предстоящий ту внутрь келии, помаванием рук возвестят вне келии у окна на крылце стоящим. Они же возвестят такое же помаванием рук своих приставом у народа приставленным». Все это подчеркивало вину и ответственность людей, устранившихся от самостоятельного решения и позволивших играть собою: «…и повелевают народу пасти на землю ниц к позрению ея, не хотящих же созади в шею пхающе и биюще, повелевающе на землю падати и, востав, неволею плакати; они же и не хотя, аки волцы, напрасно завоюще, под глазы же слинами мочаще, всях кождо у себе слез сущих не имея. И сице не единова, но множицею бысть. И таковым лукавством на милость ея обратиша, яко, чающе истинное всенародного множества радение к нему и не могуще вопля и многия голки слышати и видети бываемых в народе, дает им на волю их, да поставят на государство Московское Бориса» [507]507
Иное сказание // РИБ. Т. 13. Ст. 14–15.
[Закрыть].
В «Утвержденной грамоте» чувства толпы, естественно, описаны по-иному, подобающе торжественному статусу события: «…а окрест кельи, и по всему монастырю и за монастырем, все православное крестьянство всея Руския земля с женами и с детьми великий плач и рыдательный глас и вопль мног испущаху». Но ни крестный ход, ни чудотворные иконы, казалось, так и не смогут ничего изменить. Борис твердил патриарху Иову и пришедшим с ним людям: «О государь мой отец святейший Иев патриарх! Престани ты, и с тобою весь вселенский собор, и бояре, престаните от такового начинания». Он никак не соглашался принять «великое бремя, царьски превысочайший престол». Для получения согласия Бориса Годунова использовали «светские» аргументы, и патриарх Иов сослался на то, что «безгосударное» время может быть использовано врагами Московского государства и православной веры: «…и услышав о том, окрестные государи порадуются, что мы сиры и безгосударны, чтоб святая наша и непорочная крестьянская вера в попранье не была, а мы все православные крестьяне от окрестных государей в расхищенье не были».
Сначала убедили царицу и инокиню Александру Федоровну. Она произнесла требуемые от нее слова: «Даю вам своего единокровного брата света очию моею единородна суща: да будет вам государем царем и великим князем всеа Русии самодержцем». А дальше она должна была освятить своим царским саном выбор Бориса Годунова и убедить брата принять бремя царской власти. Впервые услышав слова царицы, Борис не смог удержаться и «из глубины сердца воздохнув». Такая живая деталь, приведенная в «Утвержденной грамоте», похоже, вписана в ее текст человеком, видевшим, как все происходило, своими глазами. Скорее всего патриархом Иовом. Но если все этапы избрания Борис Годунов проходил как человек, показывая, что и ему не чужды ни страх, ни слезы, то закончил он этот день как царь, сразу и точно выразив то, что от него давно ждали: «Аще будет на то воля Божия, буди так» [508]508
ААЭ. Т. 2. № 7. С. 25–34.
[Закрыть].
21 февраля 1598 года Борис Годунов был наречен на царство прямо в Новодевичьем монастыре [509]509
В разрядных книгах встречается другая дата наречения Бориса Годунова «в царское имя» – 16 или 17 февраля 1598 года. Это связано с особенностью составления разрядов, в них названа самая ранняя из возможных дат наречения, приуроченная к окончанию «сороковин» – сорокадневного траура по царю Федору Ивановичу. Вопрос о подобающем правилам времени царского наречения и избрания, конечно, волновал современников. В Литве оршанский староста Андрей Сапега записал слух о таких разговорах, в которых называлась еще более поздняя дата «Сборного воскресенья» – первого воскресенья после начала поста: «ибо у них как при жизни великого князя, так и после смерти его, выборные сеймы происходят в это Сборное Воскресенье». На самом деле Борис Годунов был наречен на царство еще до начала поста. См.: Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1994. Ч. 4. Вып. 1. С. 17; Из Львовского архива князя Сапеги… С. 339, 344.
[Закрыть]. Образцы избрания «великих царей», не имевших царского происхождения, как следовало еще из текста «Соборного определения» об избрании Годунова, изыскали «от древних писаний», найдя их «во Израили и Греческия хоругви» (то есть в Византии). Этот ряд открывали сам царь Давид, Иосиф Прекрасный, византийские императоры Константин Великий и Феодосий Великий, а также Василий Македонянин, который тоже сперва был «царев конюшей». Все эти исторические примеры должны были оправдать избрание человека «не от царьского роду» и показать, что в этом не было ничего необычного: «Не на благородство зрит Бог любящих его…» Все сомневающиеся должны были умолкнуть [510]510
Там же. № 6. С. 15–16.
[Закрыть]. Торжественный въезд «Богом избранного» великого государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии самодержца из Новодевичьего монастыря в Кремль и молебен в Успенском соборе состоялись в Прощеное воскресенье 26 февраля 1598 года. В этом опять было много продуманного и символичного. Царь Борис Годунов начал с того, что «наедине беседовав не мало время» с патриархом Иовом, получил его благословение и просил у освященного собора прощения грехов. Его подданные, в свою очередь, тоже получили царское прощение. С самых первых шагов в Кремле Борис Годунов стал утверждать духовную преемственность полученной им власти с властью царя Ивана Грозного. Он молился перед гробами царей Ивана Васильевича и Федора Ивановича, а также царевича Ивана Ивановича, в кремлевском Архангельском соборе и просил их о небесном заступничестве: «Помолитеся и о мне, и помозите ми». Все должны были увидеть, что Борис не испытывает радости от свалившейся на него царской власти и начинает свое правление со строгой молитвы и Великого поста: «…получив же благословение и прощение к подвигу к посному, тщашеся на духовный подвиг святую четыредесятницу совершите». Борис по-прежнему не занимал царские покои и не возвращался на свой двор в Кремле, а ездил к сестре царице и инокине Александре Федоровне в Новодевичий монастырь, чтобы вместе с нею провести начало поста. Упустить эту деталь – значит, не понять очень важный духовный перелом, происходивший в то время в душе Бориса Годунова. Уединившись для молитвы в монастыре, он как будто хотел очиститься от всех прежних прегрешений, тысячи раз повторяя слова покаянного канона Андрея Критского, открывавшего молитвы первой недели Великого поста: «Помилуй мя, Господи, помилуй мя». Не прошло это незамеченным и для летописца, записавшего, что царь Борис Федорович «приидоша из Девичья монастыря к Москве в государевы хоромы, уговев Великого поста неделю на Зборное воскресение; к царице же Александре ездиша в Новой Девичей монастырь по вся дни».
9 марта 1598 года был установлен праздник Богородицы и крестный ход, которым полагалось впредь отмечать состоявшееся избрание Бориса Годунова на царский престол. Автор «Нового летописца» писал, что «празноваху той день Пречистыя Богородицы до приходу Ростригина» [511]511
Новый летописец. С. 50.
[Закрыть](то есть до захвата царского трона самозваным «царевичем Дмитрием»). 15 марта 1598 года по всем монастырям и церквям была разослана окружная грамота патриарха Иова, рассказавшая о том, что происходило в Москве со времени смерти царя Федора Ивановича и как избирали царя Бориса Федоровича. Повсюду должны были петься трехдневные молебны о здравии царской семьи и возноситься молитвы о многолетии его царствования. К патриаршей грамоте была приложена «Роспись, как Бога молити в октеньях и многолетие пети». Эта роспись вносила изменения в тексты церковных служб, связанных с упоминанием нового царя. Но царица-инокиня Александра по-прежнему поминалась на ектеньях первой: «Помолимся о благоверной царице и великой княгине иноке Александре, и о державном государе нашем благоверном и христолюбивом царе и великом князе Борисе, и о его благоверной царице и великой княгине Марье, и о благоверном царевиче Феодоре, и о благоверной царевне Ксении, и о патриархе нашем имярек (аще ли где митрополит, или архиепископ, или епископ и того и поминати)»; «о пособлении и укреплении христолюбивого воинства и вся прочая октенья по ряду» [512]512
ААЭ. Т. 2. № 1. С. 4.
[Закрыть].
Таким образом, новый чин очень точно отражал роль царицы-инокини Александры, патриарха Иова и освященного собора в делах царского избрания. Кроме того, на церковных молебнах и службах многие подданные впервые должны были узнать не только имя нового царя, но и имена его жены и детей, что говорило о начале новой династии. В этом Борис отступил от старины. Придет время, и ему вспомнят ненужные «приклады» с упоминанием на ектеньях членов его семьи. Кощунственным покажется и то, что золотой ларец с патриаршим экземпляром «Утвержденной грамоты» об избрании на царство Бориса Федоровича поставят к мощам московского митрополита Петра в Успенском соборе, вскрыв для этого раку чудотворца и небесного покровителя Московского государства. Хотя при самом царском избрании это, напротив, казалось особенно благочестивым и важным для подтверждения выбора, сделанного на Земском соборе.
Окончательно царь Борис Федорович и вся его семья въехали в Кремль «в свой царьской московской черьтог житии, где прежнии московские государи цари и великие князи живали», только 30 апреля 1598 года. В разрядной записи подчеркивалось, что это делалось «по благословению великие государыни царицы и великие княгини иноки Олександры Федоровны всея Руси» [513]513
Анхимюк Ю. В.Разрядная книга 1598–1602 годов (далее – Разрядная книга 1598–1602 гг.) // Русский дипломатарий. М., 2003. Вып. 9. С. 371.
[Закрыть].