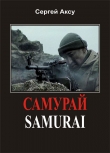Текст книги "Сто первый (сборник)"
Автор книги: Вячеслав Немышев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Один – это «он». Получается мужского рода, – делово и глубокомысленно отвечал санитар. – Три – их много. Два – «она». Женская, значит, как и курица.
Томанцев пошел к себе и записал санитаровы слова на календарике, где отмечал крестиком дни. Посчитал сколько осталось, первый раз за много дней вздохнул тяжело и с болью – долго еще!
Курице несла яйца; несушке смастерили из масксетей загон, выставили часового.
Когда по утрам съедал Томанцев яичко всмятку, забывал крестики ставить на календаре, такую испытывал желудком радость и теплоту. Ясное дело тепло – после перловки-то.
Через три дня курицу казнили и съели двое негодяев: санитар-философ и подговоренный им малослужащий часовой. «Душару» часового Томанцев простил, санитара бить не стал, но собрал документы. Потопал залетчик на передок. Не мучила Томанцева совесть, что отправил мальчишку туда, где стреляют: авось наберется здравого ума санитар-анашист. В тылу все едино сгинет не от пули, так от дури.
Шали брали с потерями. Повалили раненые. Новый санитар жег яму с рваньем.
«Улыбнитесь каскадеры»! Пел танкист с поллицом, замотанным бинтами, косился одним глазом и подговаривал всех взять, не раздумывая, стволы, повернуть пушки и «ка-ак шмякнуть по Кремлевским стенам, чтоб тама все летели, пердели и кувыркались!» Под танкистом сожгли три танка. Он рассуждал, размахивал руками, мешал врачам обрабатывать обожженный бок и ягодицы:
– Мне бы экипаж: водитель чтоб был немец, командиром я – хохол по маме, огневика чечена из служивых. Хрен бы вы меня подбили, особенно последний раз!
Томанцев слушал речь танкиста, в глубине души соглашался с ним, но сознавал, что особистам непременно станет известно о желании танкиста стрельнуть по Кремлю. Томанцев никогда не сомневался в том, что подвиг, на самом деле, это русская народная забава, – когда на пожаре всегда найдется дурак, что полезет в огонь спасать кошку. Танкист три раза пер на огневую точку противника – пер с трех сторон. Три раза его жгли. Он бы и в четвертый раз полез, но когда вынимали его из дымящегося танка, потерял сознание.
– А потом ка-ак по Кремлю фугасным!..
На эвакуацию танкист ушел первым. Кричал напоследок: заживет рука и жопа, вернется он и всем, кто мирно жить не хочет «мозги-то повправляет».
Войска взяли Шали и ушли на восток брать Ведено.
Томанцев по казенной надобности оказался в батальоне, что стоял за селом и передовыми позициями: смотрел на пологие предгорья, заросшие корявым буком и широколистым горным деревом.
Стреляли в округе редко. В санитарной палатке Томанцев выковыривал осколок из спины солдата-минометчика: мина жахнула в стволе – троих наповал, а у этого сквозь задницу можно было макароны откидывать.
– А-а, бля-аа! – орал минометчик.
Томанцев выбрался из палатки, со шлепком стянул с рук кровяные перчатки. На горы опустилось шелковое одеяло. Стало промозгло. Подошел комбат, молодой наглый майор, с ним ординарец солдат.
– Туман, – задумчиво произнес комбат. – Доктор, – он обратился к Томанцеву, – давай, организуем войну.
– Зачем, – спросил Томанцев и глубоко затянулся.
– Надо, – таинственно произнес комбат.
Война началась, когда шелковое одеяло тумана стало фиолетовым от скорых южных сумерек. Томанцев глотал горячий воздух. Темнело на глазах, но прохлада не приходила. Жаркое будет лето, думал Томанцев. Когда стрельнули всем батальонным калибром, Томанцев присел в окопе и голову вжал в плечи. Комбат подмигнул, мол, знай наших; над бруствером водит биноклем, корректирует огонь. Отстрелялись наши. И тут же в ответ с гор, будто по-команде, бешено застрочило. Комбат по плечу Томанцева: теперь, доктор, не высовывайся! Пульки над окопом фьють-фьють.
Закончилась война минут через тридцать.
В командирской палатке начштаба писал докладные записки: что во столько-то и во столько-то «…со стороны гор позиции батальона были обстреляны из стрелкового оружия и минометов. Ответными действиями огневые точки противника были частично уничтожены, частично рассеяны по горным склонам. Спецгруппа на преследование не выдвигалась, из-за сильного тумана. Потери: трое «двухсотых», один «трехсотый»…».
Комбат разлил по кружкам спирт.
– Ты доктор не грузись, – говорил комбат, вроде как вместо тоста. – Там, – он кивает в сторону гор, – их начштаба сидит и такую же ху…ю пишет. А мне минометчиков надо списать на боевые. Так хоть ордена посмертно… Выпьем.
Они выпили, начштаба оторвался от писанины и тоже выпил.
Комбат стал рассказывать:
– Я на переговоры ходил. Ихний комбат – мой однокурсник по училищу – толковый мужик. Договорились, заключили мирный договор: пока тишина на фронте, друг друга не гробить. Но с одним условием…
Пол в палатке земляной. Комбат носком ботинка линию прочертил.
– Вот линия. Я ему говорю, если твои ко мне заявятся, все – валю без разговора. Мои к тебе – делай с ними что хочешь. Слоны взяли моду: ходят к духам меняться! Патроны, гранаты на анашу. Видал?..
Томанцев пожал плечами.
Посидели еще немного, поговорили о доме и разошлись на ночь отдыхать.
Утром на позиции батальона принесли убитого, подкинутого с той стороны.
Комбат стоял над телом и ломал желваки под щеками.
Томанцев нагнулся и развернул скукоженные от крови простыни. Солдата сначала оскопили, вспороли живот, насыпали туда жмень анаши, после уж отрезали голову. Голова лежала рядом. Томанцев повернул голову к себе лицом. Мутным мученическим взглядом на него смотрели мертвые глаза санитара-анашиста.
– Доходился, – процедил сквозь зубы комбат. И начштабу буркнул: – Четвертым запиши.
«Сгинул от дури», – подумал Томанцев
К обеду у Томанцева закончился срок казенной надобности, и он уехал с колонной обратно в Северный госпиталь. Спустя некоторое время к ним попал раненый начштаба того батальона: словил ртом пулю, но не сильно – зубы только повышибало. Шепелявил начштаба, что жили они с боевиками мирно и без потерь целый месяц.
Закончилась чеченская командировка Томанцева. Он вернулся домой.
Через четыре года его вызвали к командованию и вручили ему орден за боевые заслуги. Обмывали орден в гнойной хирургии. Старший ординатор налил Томанцеву полный стакан коньяка. Орден уже хотели опустить в коньяк, но Томанцев попросил налить ему не коньяку, а спирту и разбавить не пополам, а три к одному: три – спирта. Он положил орден в стакан и выпил залпом… Поздним вечером на карете скорой помощи с мигалками и сиреной Томанцева доставили домой. Уложили спать. Старший ординатор пьяно шептал на ухо его жене, что «главный наш – мужик правильный». И плакал…
В двухтысячном пришлось Томанцеву снова ехать в командировку. Он уже носил к тому времени погоны полковника. Получив предписание, прибыл в город Моздок в госпиталь Министерства обороны. Своих врачей в эвакогоспитале Моздока было дай бог человек двадцать пять, а как пошла война, прислали командированных на подмогу: хирургов, кожников, окулистов, реаниматологов. И полковников, и майоров и лейтенантов зеленых.
Прождав в приемной с полчаса, вошел Томанцев в кабинет к главному.
Главный сидел в кресле за широким чистым столом. Бумаги ровными стопами громоздились справа и слева от главного. Был главный в звании подполковника. Обратил внимание Томанцев, что форма на подполковнике неопрятно как-то выглядела, будто через силу напялил главный эту форму. Мешает форма ему: жмет в подмышках и здоровенном животе. Главный брал бумаги с одной стопки, смотрел, подписывал или не подписывал и перекладывал в другую стопку.
– Ждали. Присаживайся, полковник, будь как дома.
Томанцев сухо поздоровался. Главный бумагами шелестит: из кучки слева – в кучку справа. Томанцев ждет. Главный бросил бумажку и уставился на Томанцева; глазки кругленькие бегают по лицу, бровки хмурятся. Улыбочка вальяжная хозяйская растеклась от уха до уха.
– Располагайся, полковник. Как тебя?.. – Томанцев еще раз назвал имя, отчество и воинское звание. – Ну, так я и говорю, служба у нас сам знаешь… Командировочку тебе выпишем раз, другой. Туда, туда – в Грозный. Ехать будет не надо. Ну, ты понимаешь… Бумажка есть, будут и боевые… Лишняя копейка не помешает ни тебе, ни нам. Договоримся… Одним словом, все будет океюшки, в шоколаде будешь. И орденок тебе раздобудем, если гибким, правильным будешь. Как – нравится расклад?
Томанцев резко поднялся со стула, вытянув руки по швам, стал прямым и ровным, как будто стоял он в первой шеренге парадного батальона. Высок был ростом Томанцев: в курсантскую свою бытность на парадах тянул мысок, шаг чеканил. Поднялся и кулаки до белых костяшек сжал.
– Вы, товарищ подполковник, извольте встать и приветствовать старшего по званию, как предписано воинским уставом. Извольте не паясничать, а изъясняться четко и понятно, как подобает офицеру русской армии!
У главного глазки страшно быстро забегали, и руками он зашарил по столу, потом спрятал ладошки под стол, будто боялся, что отберут у него «копейку лишнюю».
Во рту у Томанцева пересохло. Потом холодным прошибло, в глазах потемнело. Но сдержался Томанцев…
Он должен был поехать в эту командировку. Разнарядка пришла на госпиталь. А у старшего ординатора, друга его по Афгану, сердце, будь оно не ладно… Жена плакала, уговаривала не ехать. Лизка, дочь, ничего – молодцом держалась. Она в госпитале, в гнойной хирургии, осталась после института. Госы досдала и осталась. Огонь девка, вся в него. Замуж вышла. В ординатуре учится.
Медленно произнес Томанцев последнюю фразу. Подобрал слова, чтоб было емко и понятно сразу. Тихо сказал, но отчетливо:
– Ты себе орденок засунь, знаешь куда… Вот туда и засунь.
«Мазл тов!»
Начхим полка Петр Федотыч Колокольников страшно не любил мусульман.
– Ермак наш, батюшка, ослобонил Сибирь от иноверцев. Великий человек, великий. И мы грешники по стопам его идем.
Офицеры посмеивались над Федотычем, но незаметно, в кулаки. Был начхим гигантского сибирского телосложения с огромными плечами и огромным животом. Возраст у Федотыча был предпенсионный, оттого много имел он жизненного опыта и без толку себя под пули не подставлял.
– Чечения эта нам, христьянам православным, в наказание, – каялся по вечерам Федотыч в своей палатке.
Дружил с ним, как и бывает в таких случаях, щуплый офицерик: приличный, в меру пьющий, только больно уж незаметный для должности ротного командира. К тому же был он по-национальности еврей. Звали его Димка Горелик, капитан.
– В наказание случаются всякие войны. И эта война тож… Сытно жить захотели! Ваучеры на всех распределили, чтоба все стали мильонерами. Так?
Горелик терпеливо слушает. Он знает, пока Федотыч не выговорится, с ним спорить бесполезно: у Федотыча хоть словарный запас и небольшой, но емкий, как у всякого доброго армейского служаки.
– Сионисты с американцами во всем виноваты. Они и развалили Союз. Конечно, не сладко жилось нам, хотя уважение от государства нам офицерам в погонах было. Уважение государственного уровня дорогого стоит.
Федотыч вдруг вспоминал, что Димка, друг его – еврей.
– А ты Димка, щучий сын, не правильный еврей. Ты сотый еврей, хотя и обрезанный.
Горелик стащил сапог и внимательно разглядывает гноящуюся рану на голени, под коленом. Голенищем натерло. Не заживает месяц уже. Мазью пахучей, что докторишка присоветовал, мажет, нос воротит. Морщится Димка.
– Ты не морщись, не морщись, иудей. Слушай правду…
Эту историю Димка Горелик знал наизусть. Но в палатке комфортно: прохладно, комар с улицы не летит – сеткой завешано; у начхима всегда в загашнике спиртику грамулька найдется. Так можно хоть сколько раз слушать.
– Когда бог раздавал всякие качества разным людям, то вызывал пред собой каждый народ и давал им этакое особенное, чтоб только у них в черте характера было это особенное и боле ни у кого. Так и дал он: нам, русским… – тут Федотыч всегда говорил гордо: – кха-кха, крепость духа и душевность! Англичанам чопорность, немцам расчетливость, французишкам там разным с итальяшками достоинства всякие мужские и женские, китайцам… ну так далее, всем по чуть-чуть, кто сколько унесет. И закончились характеры у бога. Нету больше, пуста коробочка!
Федотыч на этом месте всегда разводил руками и выворачивал карманы, словно это он сидел на небе и хозяйничал в этом миру по-божески.
– И что ты думаешь? Приходят к нему самые последние опоздавшие евреи. Вот-те нате, хвост в томате! Как так, батюшка бог? Нас, самый, можно сказать, избранный народ и без особенностей оставить? Не выйдет, товарищ бог! Давай нам качества – а ну! Ну и как водится, бог пожалел народец этот запоздалый. И говорит – дам я вам собственного божественного дара: будете вы и расчетливые и душевные, и достоинства всякие мужские и женские иметь будете в достатке. Но…
Тут начхим хитро улыбался, потрясал пальцем.
– Каждый сотый из вас будет никудышным. Вот вам мой сказ! – Федотыч выдерживал паузу, ожидая реакцию слушателя. И не дожидаясь, выдавал: – Ты и есть Димка такой вот сотый, никудышный. Потому как воюешь бок о бок с нами, православными христьянами. Я тебя за это и люблю. Давай теперь выпьем, иудейская твоя душа.
Одним словом, считал себя Колокольников самым ярым националистом в полку. Но когда его спрашивал Димка Горелик: ну хорошо, Федотыч. Я еврей. Эти – басурмане. Но в чем твоя идея или, как ты говоришь, русская национальная идея? Петр Федотыч свирепел.
– Вопросы твои, Ленька, есть истинное прохиндейство. От таких вопросов и развалился Советский Союз. Оттого, что мы, русские люди, все понимаем, но сказать не можем.
Начинался минометный обстрел, оба спорщика выбегали из палатки и прятались в окопе. В окопе Колокольников молчал. Он считал себя бывалым на войне и во время обстрела старался о всякой ерунде не разговаривать, чтобы пустыми словами не накликать на себя беду.
Обстрел заканчивался, и Федотыч снова пускался в пространственные рассуждения о нациях и религиях. Леня Маркман засыпал под мерное бормотание начхима. Федотыч замечал, что дружок его заснул, накрывал того бушлатом и на цыпочках выбирался из палатки, чтобы поймать какого-нибудь зазевавшегося солдатика или прапорщика из молодых и выпытывать у того, а знает ли молодой военный, сколько атаман сибирский, Ермак Тимофеевич, сил положил, пока не заставил басурманов подчиниться царю русскому. И тыкал кулачиной в бок говоруну, если тот особенно громко отвечал «не знаю».
– Не вопи, басурманин, человек спит!
Соглашался Димка Горелик с начхимом – с ним спорить себе дороже, – только всегда сердился и краснел до кончиков ушей, когда Федотыч утверждал, будто он, еврей Горелик есть двоюродный брат со всеми мусульманами-басурманами.
– Все вы одной породы – обрезанной! Нехристи, право слово. Эх, наказание вы нам, честным христьянам!
– Обрезание – обряд торжественный, – говорил Димка Горелик.
И начинал рассказывать то, что знал еще с детства.
Церемония обрезания – важный семейный, религиозный праздник, сопровождающийся весельем и праздничным застольем. У евреев и мусульман есть свои легенды, как появился обряд обрезания. Вот как у мусульман. Пророк Мухаммед во время битв за веру, попал почти на месяц во вражеское окружение. Из-за невыносимой жары, антисанитарных условий и недостатка воды, у некоторых его воинов начался фимоз – воспаление головки. Пророк нашел радикальное решение, распорядившись срезать им кожу на кончике члена, чем и сберег их от неминуемых мучений. У евреев так. И Димка цитировал. «…Это обрезание, которое Ципора, жена Моисея, сделала их сыну перед тем, как Моисей пошел выводить еврейский народ из Египта…» После совершения обряда обрезания у евреев присутствующие кричат «Мазл Тов!» что означает «Поздравляю!»
Федотыч отмахивался:
– Димка, не пудри мне мозги!
Димка поначалу даже думал разругаться и больше не иметь дел с «антисемитом» Федотычем. Но как-то сгладилось. Федотыч про «двоюродных братьев» редко упоминал, а когда заводил разговор, то Димка делал вид, что не слышит. Потом начались военные маневры. Передвижения войск из села в село по предгорьям и горным дорогам так выматывали войска, что и Федотыч-начхим и Димка-ротный после переходов и всякой военной канители валились без ног. Не до споров пустых было.
Полк развернулся во фронт у предгорий: танками, пушками и минометными батареями врылся в землю, растянулись серые шатры для пехоты, солдаты нарыли землянок и блиндажей. Стали войска на позиции и по всем приметам надолго, даже полевой госпиталь развернули. Колокольников вечерами греет Горелику уши; отлеживаются офицеры после пыльных маневров; у Димки стала заживать нога.
Прошел месяц.
Колокольников с Гореликом дни считают до смены. Оставалось им неделю прожить на войне: по негласному закону пребывали оба на сохранении, чтоб дурная последняя пуля или осколок-неудачник не испортили бы дорогу домой.
В полукилометре от позиций полка на склоне пологой горы раскинулось небольшое село, оно было тут спокон веку. Ночью пришли в село боевики, швырнули в колодцы мешки с хлоркой. Боевики были из тейпа, с которым местный тейп давно был в контрах. И вот представился случай напакостить. Остались селяне без воды. Пришли старики в папахах к военным просить помощи. Командир задумался – опасно! Снайпер позицию займет, место там открытое, ухлопает людей, в лес не ходи. Колокольникова, как начхима, позвали, советуются с ним, что можно сделать.
– Рыть надо, – сказал Колокольников.
Как не отговаривали Петра Федотыча, а пошел он.
Димка Горелик пустил две группы разведчиков по склонам, чтоб шерстили и в случае чего отогнали снайперов от села. Федотыч – громадина. По нему милое дело пульнуть – не промахнешься.
– Разойдись басурмане, – грохотал Федотыч на местных. – Давай Димка, иудейская твоя душа, поторапливай своих.
Местные кучковались в сторонке, пока военные выбирали место, где копать колодец. Подогнали технику, бэтеры стали в охранении. Федотыч влез на броню: командует, размахался руками, как мельничными крыльями. Мельница – не человек! Димка Горелик щурится, но не от солнца – тучи нанесло с гор. Страшно ему… так страшно, как в жизни не было. Он почти видит, кожей ощущает, как вражеский снайпер целит в это огромное живое тело – тело его друга…
Федотыч на солдат, что с техникой копаются, шумнул:
– Шевелись славяне. Разойдись басурмане.
Солдаты, чувствуя опасность, поторапливались, но вид громадного начхима, как гора высившегося над всеми – как памятник, как мемориал страху – придавал солдатам уверенности, и они принимались за свою работу весело и живо.
Стреляли где-то в горах. Начхим глыбой на броне. Солдаты копали. Местные кучковались в сторонке.
Копали четыре часа.
Вода пошла.
Местные побежали к колодцу с ведрами и тазами.
Военные отошли на свои позиции: врылись, как и прежде, в землю, разбрелись по палаткам и блиндажам.
Начхим как вернулись, почувствовал себя нехорошо. Прилег. Солдаты Димки Горелика соорудили стол: чай, сгущенку и галеты. От тушенки начхим отказался. «Перенервничал старик», – подумал Димка. Выставив из палатки солдата с дымящимся чайником, вышел и сам; присел у палатки, закурил. Думал Димка о разном: о доме, – что скоро меняться, и тогда амба этой дурацкой войне. Что война дурацкая, Димка не сомневался, да никто из его роты, и всего полка в этом не сомневались. Думал Димка про жену, дочь и начхима Федотыча, – что когда вернуться они, разбегутся их пути-дорожки: Федотыч на пенсию, он в майоры, на повышение, а может и совсем уйдет из армии. Тяжело думалось Димке Горелику о войне и мире, как, впрочем, и остальному личному составу его мотострелкового полка.
Темнело на глазах. Как совсем стемнело, начался обстрел…
Побежал Димка к окопу. Жахнуло впереди. Димка нырнул в окоп. Еще жахнуло теперь сзади.
«Вилка», – подумал Димка и сразу же звонко лопнул воздух рядом метрах в десяти. Похолодело на спине у Димки: Федотыч!
Не раздумывая, рванул Горелик из окопа к начхимовской палатке. Чует носом – тянет дымом от палатки. Темень, не видно. Хватает Димка брезентуху рукой. Сильно дым повалил, всполохи рыжие. И вдруг прямо на худосочного Димку из-под брезента со стоном, похожим на рев медведя-шатуна, вываливается громадное тело начхима.
– Ди-имка, щучий сын! А-аа-а! Ыы-ыы! Ранен я, ранило меня! Ы-ы…
Санитары подбежали. Стали укладывать раненого на носилки. Федотыч бочком, бочком, сам ложится, но руками за пах держится и Димке дышит в ухо.
– Прямо туда, прямо туда… Ох, а больна-та как! Горит все, горит.
Начхим закемарил перед самым обстрелом, от первых разрывов не проснулся, а как шарахнуло его осколком, так и вывалился из палатки на свет божий. Мина попала в край палатки и зажгла брезент. Федотыч толком не сообразил конечно, что произошло, но почувствовал, что цокнуло его осколком туда… Как уж не почувствовать! Димка подумал, что повезло Федотычу, мина разорвалась в трех метрах, один только осколок и долетел. Остальные мимо. Считай, повезло…
Военврач Томанцев закончил операцию и вышел на свежий воздух. Ночь была тихая: далеко стреляли, но редко. Птица ночная всплакнула, мыши летучие шмыгали над санитарной палаткой.
Легкая была операция, до смешного легкая…
К Томанцеву подошел невысокий, худой офицер, попросил прикурить. Томанцев рассмотрел впалые щеки, острый нос. Чиркнул зажигалкой, тревога блеснула в глазах рыжим огнем.
– Что там, доктор? Плохо?
– Плохо, – сказал Томанцев. – Не славянин больше товарищ Колокольников. Не славянин…
Офицер забыл, что сигарета тлеет в пальцах, задышал тревожно.
– Жить будет… как мужик, в смысле… будет?
– Будет. Еще лучше будет получаться. Ему осколком чиркнуло по крайней плоти. Пришлось сделать обрезание.
Они сидели, военврач и ротный капитан, беседовали.
Димка Горелик рассказал Томанцеву, какой человек – человечище на самом деле Петр Федотыч, и как они все за него готовы и кровь и… то самое, если понадобится. Ведь и с одним… можно мужику прожить. Этого не надо, с этим у него полный порядок, уточнил Томанцев. Долго они беседовали – с час, а может и полтора. Раненых больше не было, война по всем приметам шла к концу.
Собрался Димка уходить. Томанцев почувствовал, будто бы и повеселел капитан.
– Товарищ подполковник, вы только никому не говорите, ну кроме меня, про ранение, про детали интимные. А то у товарища подполковника Колокольникова имидж в полку и все такое… Ну, вы понимаете?
Томанцев не совсем понимал, но по рассказам капитана догадывался. Капитан шмыгнул носом. Не засмеялся, не хмыкнул смешливо. Просто сказал:
– Так всем и передам, что все нормально, дембель вне опасности, – и пошел. Но, уходя, обернулся и сказал: – Мазл Тов! Поздравляю! Только никому, доктор, никому…